Оценка выраженности сорбционной активности наночастиц серебра на биоразлагаемых волокнах естественного и искусственного происхождения
Установлены особенности сорбционной активности наночастиц серебра (AgNPs) на биоразлагаемых полимерах естественного (коллаген) и искусственного (полиамид 6.6) происхождения. Продемонстрирована способность рассасывающихся волокон естественного происхождения более активно сорбировать AgNPs размером от 1 до 10 нм в течение первого часа и сильнее удерживать их на поверхности в течение первых суток при экспозиции в аргогеле. При инкубации этих полимеров в гелевой композиции, содержащей AgNPs, полученные методом кавитационно-диффузионного фотохимического восстановления, в первый час выявлена более высокая их сорбционная активность в размерном диапазоне от 1 до 10 нм по отношению к полифиламентному синтетическому материалу, тогда как через 24 ч экспозиции наблюдалось значительное возрастание доли малых AgNPs уже на коллагеновых волокнах, что также сопровождалось значительно меньшим (в 19 раз) содержанием на кетгуте AgNPs диаметром выше 40 нм.
Evaluation of silver nanoparticles sorption activity on biogradable fibers of natural and artificial origin.pdf Введение Разработка новых методов получения наночастиц серебра (AgNPs) остается одним из перспективных направлений развития различных областей науки. Наночастицы используются, например, для изготовления нановолокон на основе поливинилового спирта, которые имеют преимущество в оптике перед традиционными пленками за счет большей чувствительности и лучших показателей излучения, в связи с чем могут применяться для производства светодиодов, сенсорных устройств и лазеров [1]. В свою очередь, гибридные наноматериалы, получаемые на основе AgNPs и графена (AgNWs-AgNPs-GN), обладают оптимальными электрическими свойствами для снижения удельного сопротивления электропроводящих клеящих основ, что важно, в том числе для повышения эффективности работы портативных устройств и медицинского оборудования [2]. Кроме того, согласно последним исследованиям, нанокомпозитные пленки на основе наночастиц серебра, графена и поливинилового спирта обладают повышенной диэлектрической проницаемостью, что позволяет говорить о значительной эффективности встраивания подобных нанокомпозитов в устройства, накапливающие заряд [3]. Наночастицы серебра также используют для допирования мембранных материалов в целях ускорения водородопроницаемости в процессах получения высокочистого водорода [4]. Например, в совокупности с палладием в работе [5] наносеребро позволило синтезировать пентагональные звездообразные наночастицы с уникальными каталитическими свойствами. Наночастицы серебра также широко применяются в медицине [6, 7], как обладающие антивирусной и иммуномоделирующей активностью, в том числе при респираторной патологии ткани [8, 9]. Описанный эффект достигается как за счет фиксации AgNPs к гликопротеинам вируса, благодаря чему блокируется проникновение вирусных частиц непосредственно в клетку, так и путем активации нейтрофилов в легочной ткани. Антимикробная активность и цитотоксичность наночастиц серебра сильно варьируются в зависимости от физико-химических свойств полимера, используемого в качестве их носителя [10, 11]. Например, были получены данные об эффективности комплексного использования наночастиц серебра в процессе обработки волокон полиамида 6.6, что позволяло увеличить антибактериальную активность полученных образцов в отношении некоторых штаммов S. aureus и E. coli. [12]. При этом в одном из исследований было показано, что электромагнитное излучение деци- и нанометрового диапазона усиливает прикрепление наночастиц серебра на поверхности ультратонких полипропиленовых волокон, препятствуя агломерации AgNPs и обеспечивая их стабилизацию на поверхности за счет формирования надмолекулярных структур, значительно повышающих в итоге микробицидную активность пленки [13]. Более того, при обработке биодеградируемого шовного материала наночастицами серебра он не только сохраняет антибактериальную активность последних, но и ускоряет заживление ран. Это дополнительно демонстрирует актуальность исследования сорбционной активности AgNPs на поверхности ряда полимерных структур [12, 14], принимая во внимание определенные сложности за контролем течения раневого процесса при использовании отдельных видов перевязочного материала [15, 16]. Цель настоящего исследования - изучение взаимодействия AgNPs, содержащих в качестве лиганда поливинилпирролидон, с биодеградируемыми полимерами, в том числе синтетическим, на основе полиамида 6.6, и естественного происхождения, состоящего преимущественно из коллагеновых волокон. Ход выполнения эксперимента В ходе работы применяли наночастицы серебра официального средства «Аргогель», а также получали ex tempora AgNPs для гелевой композиции А на основе желатина [17]. Концентрация препарата «Аргогель» в эксперименте соответствовала рекомендациям производителя. Гелевую композицию А изготовляли на основе водного раствора AgNPs, полученного методом кавитационно-диффузионного фотохимического восстановления. Данный метод предполагает восстановление ионов серебра совместно с лигандом (поливинилпирролидон). При этом условием получения AgNPs, обладающих необходимыми физико-химическими свойствами, являлось использование комплексного воздействия ультразвуковых волн (частота излучения 1.7 МГц) и ультрафиолетового излучения (длина волны 280-400 нм) при непрерывном перемешивании Ag-содержащего раствора в течение 1 ч. Далее полученный таким образом водный раствор был разбавлен дистиллированной водой до концентрации AgNPs 5 мкг/мл, после чего при одновременном подогреве до 60 °С был добавлен раствор желатина (конечное содержание 0.9% [7]). Для оценки полученных результатов использовали технические устройства и оборудование научно-образовательного центра «Центр коллективного пользования диагностики структур и свойств наноматериалов» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар). Выраженность процесса сорбции наночастиц на поверхности биоразлагаемых волокон: полифиламентного синтетического материала («Капроаг»), состоящего из полиамида 6.6, и рассасывающегося шовного материала естественного происхождения из натуральной коллагеновой ткани («Кетгут»), - определяли при помощи электронной микроскопии в режиме COMPO. Электронная микроскопия исследуемых волокон была проведена через 1 ч и 1 сут инкубации отрезка длиной 1 см для каждого материала в соответствующем геле при температуре 25 ºС. При подготовке всех образцов к исследованию электронной микроскопией производилась их лиофилизация. Результаты эксперимента Рис. 1. Распределение наночастиц серебра по размерам, полученное при анализе электронной микрофотографии после экспозиции в аргогеле в течение 1 ч волокон кетгута (а) и капроага (б) С помощью электронной микроскопии установлено, что через 1 ч экспозиции обоих исследуемых полимерных материалов в аргогеле на микрофотографиях имеется определенное соотношение различных размерных рядов AgNPs для каждого типа биоразлагаемых волокон (рис. 1). При этом, согласно полученным данным, на микрофотографиях коллагеновых волокон преобладали наночастицы размерных рядов 1-10 нм и 25-40 нм (рис. 1, а), в то время как на искусственных волокнах, состоящих из полиамида, было выявлено преобладание наночастиц размером 25-40 нм и AgNPs выше 40 нм (рис. 1, б). Учитывая, что на микрофотографиях были в целом представлены все размерные ряды наночастиц, можно сделать вывод об относительно равномерной сорбции AgNPs из препарата аргогель в течение первого часа, и в большей мере это характерно для синтетического волокна капроаг. Спустя сутки было отмечено существенное изменение соотношения разных размеров AgNPs на микрофотографиях. Так, на поверхности кетгута по-прежнему преобладали AgNPs размерного ряда 1-10 нм, в то время как количество AgNPs других исследуемых размерных диапазонов существенно уменьшилось (рис. 2), что говорит о выраженной десорбции наночастиц размером выше 10 нм. При этом наименее выраженная десорбция наблюдалась у наночастиц размером выше 40 нм, их количество снизилось с 18.8 лишь до 13.7% (p < 0.05). На поверхности биоразлагаемых искусственных волокон спустя 24 ч экспозиции также было отмечено преобладание размерного диапазона 1-10 нм (рис. 2, б), однако снижение абсолютного количества AgNPs прочих размерных диапазонов не было столь выраженным. Рис. 2. Распределение наночастиц серебра по размерам, полученное при анализе электронной микрофотографии после экспозиции в аргогеле в течение 1 сут волокон кетгута (а) и капроага (б) При оценке результатов электронной микроскопии, полученных при исследовании искусственных волокон (капроага), прошедших экспозицию в гелевой композиции А, содержащей AgNPs, в течение 1 ч было определено преобладание наночастиц размерных рядов 1-10 нм и 25-40 нм (рис. 3). Наблюдаемое распределение имеет сходные тенденции с результатами после экспозиции натуральных волокон кетгута в аргогеле, но следует отметить значительно меньшее количество AgNPs размером выше 40 нм (рис. 3, б). Рис. 3. Электронная микрофотография: волокна капроага при экспозиции в гелевой композиции А в течение 1 ч в режиме COMPO с увеличением 30000 раз (а) и распределение наночастиц серебра по размерам, полученное при анализе изображения (б) При экспозиции кетгута в исследуемой гелевой композиции А в течение 1 ч были отмечены только крупные агломераты наночастиц серебра размером выше 40 нм (рис. 4), что отчетливо видно даже при увеличении в 10 000 раз (рис. 4). Рис. 4. Электронная микрофотография: волокна кетгута при экспозиции в гелевой композиции А в течение 1 ч в режиме COMPO с увеличением 10 000 раз Спустя 1 сут инкубации в гелевой композиции А нами было определено следующее распределение наночастиц на биодеградируемых полимерах искусственного и естественного происхождения (рис. 5). При этом на микрофотографиях волокон кетгута преобладали AgNPs размерного диапазона 1-10 нм, а также появились наночастицы размером 10-40 нм (рис. 5, а), в то время как количество наночастиц из преобладавшего ранее диапазона (выше 40 нм) возросло более чем в 4 раза (p < 0.05). Подобная динамика количества наночастиц серебра может свидетельствовать о значительной активности процесса сорбции AgNPs из гелевой композиции А в течение 24 ч инкубации. Рис. 5. Распределение наночастиц серебра по размерам, полученное при анализе электронной микрофотографии при экспозиции в гелевой композиции А в течение суток кетгута (а) и капроага (б) На микрофотографиях волокон капроага также выявлено увеличение количества AgNPs выше 40 нм, в то время как количество наночастиц прочих размерных диапазонов снизилось (рис. 5, б). Это может свидетельствовать о выраженном процессе десорбции и возможной агломерации ранее сорбированных AgNPs в течение первых суток экспозиции биодеградируемого полимера искусственного происхождения (рис. 6). Таким образом, полученные результаты указывают на различное сродство наночастиц серебра, содержащих в качестве лиганда поливинилпирролидон, к биодеградируемым полимерам синтетического (на основе полиамида 6.6) и естественного происхождения (состоящих из коллагена). Это проявляется в неодинаковой скорости сорбции AgNPs определенных размерных диапазонов в первый час инкубации, а также по-разному выраженной их десорбции и агломерации в течение первых суток экспозиции этих материалов в обоих гелевых композициях. Рис. 6. Электронная микрофотография: волокна капроага при экспозиции в гелевой композиции А в течение суток в режиме COMPO с увеличением 10 000 раз Заключение В настоящем исследовании продемонстрирована способность биоразлагаемых волокон естественного происхождения более активно сорбировать (в 3.3 раза, p < 0.05) в течение 1 ч наночастицы серебра малого (от 1 до 10 нм) размерного диапазона и сильнее удерживать данные AgNPs (на 4.5 %, p < 0.05) в течение первых суток при экспозиции их в аргогеле по сравнению с искусственными биодеградируемыми полимерами. В свою очередь, при инкубации этих же материалов в гелевой композиции, содержащей наночастицы Ag, полученные методом кавитационно-диффузионного фотохимического восстановления, в первый час выявлена более высокая сорбционная активность последних (от 1 до 10 нм) по отношению к полифиламентному синтетическому материалу в сравнении с кетгутом, тогда как через 24 ч экспозиции наблюдалось значительное возрастание доли AgNPs (до 50%, p < 0.05) на коллагеновых волокнах, что превышало аналогичные показатели капроага на 46.4% (p < 0.05). При этом через 24 ч относительное количество наночастиц размером выше 40 нм в большей степени возрастало на поверхности искусственного биодеградируемого волокна, превышая аналогичные показатели содержания крупных AgNPs на кетгуте более чем в 19 раз (p < 0.05). Таким образом, полученные данные говорят о большем взаимодействии различных по происхождению наночастиц серебра с функционализированной поверхностью коллагенового волокна, что, возможно, обусловлено повышенным сродством AgNPs к карбоксильным, гидроксильным, карбонильным и первичным аминогруппам, а также азотсодержащим гетероциклическим боковым радикалам аминокислот, входящих в состав полипептидной цепи коллагена. Подобные их взаимодействия значительно замедляют процесс десорбции и, видимо, агломерации малых AgNPs, что позволяет получить наночастицы наиболее приемлемого размерного диапазона (до 10 нм) для достижения ожидаемого микробицидного эффекта [18, 19]. В то же время использование синтетических полимеров на основе полиамида 6.6 для создания функционализированных антимикробных материалов целесообразно только при короткой (до 1 ч) экспозиции их в гелевой композиции (содержащей AgNPs, полученные методом кавитационно-диффузионного фотохимического восстановления), так как при данных условиях применение биоразлагаемых волокон естественного происхождения представляется менее эффективным из-за содержания на их поверхности исключительно агломератов размером выше 40 нм.
Ключевые слова
сорбционная активность,
полиамид,
наночастицы серебра,
электронная микроскопияАвторы
| Копытов Геннадий Филиппович | Кубанский государственный университет | д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. радиофизики и нанотехнологий КубГУ | g137@mail.ru |
| Малышко Вадим Владимирович | Кубанский государственный медицинский университет; Южный научный центр РАН | к.м.н., ассистент каф. общей хирургии КубГМУ, науч. сотр. лаб. проблем распределения стабильных изотопов в живых системах ЮНЦ РАН | intro-2@rambler.ru |
| Горячко Александр Иванович | Кубанский государственный университет | аспирант КубГУ | alexandr_g_i@mail.ru |
| Шарафан Михаил Владимирович | Кубанский государственный университет | к.х.н., ст. науч. сотр. НИЧ КубГУ | shafron80@mail.ru |
| Чуркина Анастасия Витальевна | Кубанский государственный университет | лаборант-исследователь НИЧ КубГУ | anastasiachurkina@mail.ru |
| Моисеев Аркадий Викторович | Кубанский государственный аграрный университет | науч. сотр. отдела науки КубГАУ | moiseew_a@rambler.ru |
| Шашков Денис Игоревич | Кубанский государственный университет | преподаватель каф. радиофизики и нанотехнологий КубГУ | shinix88@mail.ru |
| Лясота Оксана Михайловна | Кубанский государственный университет | преподаватель каф. радиофизики и нанотехнологий КубГУ | arcybasheva@mail.ru |
Всего: 8
Ссылки
Chen W.C., Shiao J.H., Tsai T.L., et al. // ACS Appl. Mater. Interfac. - 2020. - V. 12(2). - P. 2783- 2792.
Ma H., Zeng J., Harrington S., et al. // Nanomaterials (Basel). - 2016. - V. 6(6). - P. e119.
Sahu G., Das M., Yadav M., et al. // Polymers (Basel). - 2020. - V. 12(2). - P. e374.
Петриев И.С., Болотин С.Н., Фролов В.Ю. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2018. - Т. 61. - № 10. - С. 131-135.
Petriev I.S., Bolotin S.N., Frolov V.Y., et al. // Dokl. Phys. - 2019. - V. 64. - P. 210-213.
Bahadar H., Maqbool F., Niaz K., et al. // Iran Biomed. J. - 2016. - V. 20(1). - P. 1-11.
Джимак С.С., Малышко В.В., Горячко А.И. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 2. - С. 114-122.
Morris D., Ansar M., Speshock J., et al. // Viruses. - 2019. - V. 11(8). - P. e732.
Haggag E.G., Elshamy A.M., Rabeh M.A., et al. // Int. J. Nanomed. - 2019 - V.14. - P. 6217- 6229.
Grabowski N., Hillaireau H., Vergnaud J., et al. // Int. J. Pharmseutics. - 2015. - V. 482(1-2). - P. 75-83.
Haase A., Tentschert J., Jungnickel H., et al. // J. Phys. - 2011. - V. 304(1). - P. e012030.
Ribeiro A.I., Modic M., Cvelbar U., et al. // Nanomaterials (Basel). - 2020. - V. 10(4). - P. e607.
Потекаев А.И., Лысак И.А., Малиновская Т.Д. и др. // Изв. вузов. Серия: Химия и химическая технология. - 2020. - Т. 63(3). - С. 94-99.
Chen X. and Schluesener H.J. // Toxicology Lett. - 2008. - V. 176(1). - P. 1-12.
Popov К.А., Bykov I.М., Tsymbalyuk I.Yu., et al. // Med. News North Caucasus. - 2018. - V. 13(3). - P. 525-529.
Bykov I.M., Basov A.A., Malyshko V.V., et al. // Bull. Exp. Biol. Med. - 2017. - V. 163(2). - P. 268-271.
Dzhimak S.S., Sokolov M.E., Basov A.A., et al. // Nanotechnologies in Russia. - 2016. - V. 11(11-12). - P. 846-852.
Saleh T., Ahmed E., Yu L., et al. // Artif. Cells Nanomed. Biotechnol. - 2018. - V. 46(2). - P. 273-284.
Rajaboopathi S. and Thambidurai S. // J. Photochem. Photobiol. B. Biol. - 2018. - V. 183. - P. 75-87.
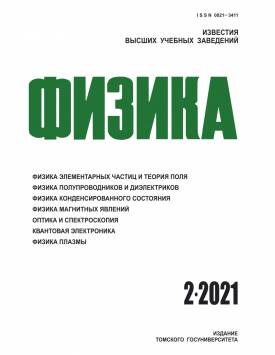
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью