Диэлектрические свойства хлорида диизопропиламмония, внедренного в пористое стекло
Представлены результаты исследований диэлектрической проницаемости ε¢ и коэффициента третьей гармоники γ3ω нового органического сегнетоэлектрика хлорида диизопропиламмония (C6H16NCl, DIPAC), внедренного в пористые стекла со средним размером пор 100 нм. Исследования проводились в температурном интервале 340-455 К. Для DIPAC, внедренного в пористое стекло, обнаружено смещение фазового перехода к низким температурам на 10 и 17 К при нагреве и охлаждении соответственно по сравнению с объемным.
Dielectric properties of diisopropylammonium chloride embedded in porous glass.pdf Введение В последнее время ведется активный поиск экологически безопасных сегнетоэлектрических материалов с высокими функциональными параметрами (диэлектрической проницаемостью, спонтанной поляризацией и температурой Кюри), которые в то же время являются дешевыми, легкими и гибкими. Было открыто несколько органических сегнетоэлектриков, принадлежащих семейству солей C6H16NA (A = Cl, Br и I) [1-3]. Эти сегнетоэлектрики имеют достаточно высокие температуру Кюри и точку плавления. Наиболее высокой спонтанной поляризацией Ps ≈ ≈ 23 мкКл•см-2, наблюдаемой среди соединений типа C6H16NA (A = Cl, Br и I), обладает бромид диизопропиламмония (DIPAB). Современный тренд в прикладной физике сегнетоэлектриков состоит в разработке электронных устройств с низкоразмерными элементами - тонкими пленками, нанонитями и малыми частицами [4]. Один из способов получения малых частиц - внедрение исследуемого вещества в пористые материалы, характерный размер пор которых лежит в нанометровом диапазоне [5-7]. Нанокомпозиты на основе пористых матриц (пористое стекло, опал, пористый оксид алюминия и др.), заполненные сегнетоэлектриками, имеют перспективы практического применения в электронной технике [8]. Физические свойства таких наноструктур определяются размерами и геометрией сетки пор, взаимодействием частиц со стенками пор и между собой. Исследованию размерных эффектов в сегнетоэлектриках семейства диизопропиламмония посвящено несколько работ (см. [9-12] и ссылки в них). Хлорид диизопропиламмония (DIPAC) показывает одну из самых высоких температуру Кюри TC (442.5 К) среди известных молекулярных сегнетоэлектриков [1]. Ниже TC хлорид диизопропиламмония имеет спонтанную поляризацию Ps ≈ 8.9 мкКл/см2. При понижении температуры до TC DIPAC претерпевает фазовый переход из параэлектрической фазы с моноклинной точечной симметрией 2/m в сегнетоэлектрическую фазу с моноклинной точечной симметрией 2. В данной работе приводятся результаты исследований линейных и нелинейных диэлектрических свойств органического сегнетоэлектрика DIPAC, внедренного в пористые стекла со средним размером пор 100 нм. Для сравнения проводились аналогичные исследования объемного хлорида диизопропиламмония. 1. Образцы и методика эксперимента Хлорид диизопропиламмония был получен реакцией диизопропиламина с 30%-м водным раствором HCl (молярное соотношение 1:1) по методике, приведенной в [1], с последующей перекристаллизацией из метанола при комнатной температуре. Структура и однофазность соединения подтверждены порошковой рентгеновской дифракцией с использованием дифрактометра (ICDD 00-009-0589). Для получения нанокомпозитов использовалось пористое стекло со средним размером пор 100 нм и пористостью 48.8%. Внедрение сегнетоэлектрика в поры пористых стекол производилось из насыщенного раствора DIPAC в метаноле. После трехкратного повторения описанной процедуры степень заполнения пор, определенная по изменению массы стекол при помощи весов AND BM-252G, составляла 55%. Удаление оставшегося метанола производилось при помощи вакуумной сушки. Для измерения комплексной диэлектрической проницаемости использовался цифровой измеритель иммитанса Е7-25 с частотным диапазоном 20 Гц - 1 МГц и рабочим напряжением 0.7 В. В качестве электродов использовалась In-Ga-паста. Температура определялась с помощью электронного термометра ТС-6621 с хромель-алюмелевой термопарой. Точность определения температуры составляла 0.1 К. Исследования проводились в режиме нагрева и охлаждения со скоростью 1 К в минуту в температурном интервале 300-450 К. Установка для исследований нелинейных диэлектрических свойств образцов включала в себя генератор гармонических колебаний с рабочей частотой 2 кГц. Напряженность электрического поля на объемном и нанокомпозитном образцах в процессе измерения составляла около 20 и 100 В/мм соответственно. В процессе эксперимента записывались амплитуды основного сигнала и третьей гармоники. Более подробно методика нелинейных измерений описана в [13]. 2. Экспериментальные результаты и их обсуждение В сегнетоэлектриках при приложении электрического поля Е меньше коэрцитивного переключение поляризации не имеет места и электрическое смещение D разлагается как степенной ряд по Е [14, 15]: (1) где Ps - спонтанная поляризация, коэффициент ε1 обозначает линейную диэлектрическую проницаемость, а ε2 и ε3 - диэлектрические проницаемости второго и третьего порядков соответственно. В результате нелинейной зависимости D от Е при приложении к образцу электрического поля, меняющегося по закону Е = E0sin(ωt), в токе через резистор будут присутствовать высшие гармоники на частотах 2ω, 3ω, …, амплитуды которых будут пропорциональны ε2 и ε3, ... соответственно. В работе исследовался температурный ход коэффициента третьей гармоники γ3ω = (u3ω/uω), представляющего собой отношение амплитуды третьей гармоники к амплитуде основного сигнала. Как было показано в [15], для сегнетоэлектриков с фазовым переходом первого рода ток третьей гармоники будет определяться соотношением , (2) где - диэлектрическая восприимчивость; Ps - спонтанная поляризация; и γ - коэффициенты разложения Ландау; S и h - размеры образца. Учитывая выражение для Iω , получим коэффициент третьей гармоники γ3ω = I3ω/Iω в виде . (3) Из (3) следует, что коэффициент третьей гармоники γ3ω значительно возрастает в полярной фазе за счет возникновения спонтанной поляризации и имеет минимум в точке фазового перехода вследствие обращения Ps в нуль. Таким образом, исследование температурной зависимости уровня третьей гармоники является удобным методом регистрации сегнетоэлектрического состояния. Зависимости действительной части диэлектрической проницаемости ε и коэффициента третьей гармоники γ3ω от температуры для объемных образцов DIPAC, полученные в режиме нагрева и охлаждения, представлены на рис. 1. Максимумы на кривых ε(Т), соответствующих нагреву, наблюдаются при температуре 442.5 К, что соответствует сегнетоэлектрическому структурному переходу [1]. При охлаждении максимум ε сдвигается в сторону низких температур на 3 К. Такой температурный гистерезис характерен для фазового перехода первого рода. Для установления температурной области существования сегнетоэлектрической фазы были исследованы нелинейные диэлектрические свойства объемного DIPAC. На рис. 1 представлены температурные зависимости коэффициента третьей гармоники γ3ω объемного DIPAC при первом проходе, полученные при нагреве и охлаждении. Согласно результатам, при нагреве высокие значения коэффициента γ3ω наблюдаются от комнатной температуры до 442 К. Выше указанной температуры коэффициент третьей гармоники γ3ω меняется незначительно, что связано с нахождением DIPAC в параэлектрическом состоянии. При охлаждении рост коэффициента γ3ω начинается около 439 К. Рис. 1. Температурные зависимости вещественной части диэлектрической проницаемости ε на частоте 10 кГц (круги) и коэффициента третьей гармоники γ3ω (треугольники) для прессованного поликристаллического образца DIPAC. Заполненные символы соответствуют нагреву, незаполненные - охлаждению Рис. 2. Температурные зависимости вещественной части диэлектрической проницаемости ε на частоте 10 кГц (круги) и коэффициента третьей гармоники γ3ω (треугольники) для пористого стекла, заполненного DIPAС. Заполненные символы соответствуют нагреву, незаполненные - охлаждению На рис. 2 представлены зависимости действительной части диэлектрической проницаемости ε и коэффициента третьей гармоники γ3ω от температуры для DIPAC в пористом стекле, полученные в режиме нагрева и охлаждения. Диэлектрические аномалии в области фазового перехода для нанокомпозитного DIPAC менее выражены по сравнению с объемными образцами. Фазовому переходу соответствуют размытые максимумы на кривых ε(Т). Активационный рост диэлектрической проницаемости в нанокомпозитах, по-видимому, обусловлен вкладом поляризации Максвелла - Вагнера [16], которая возникает за счет перераспределения зарядовой плотности на границах раздела пористого стекла и включений DIPAC. Из рис. 2 видно, что максимум диэлектрической проницаемости при нагреве, связанный с сегнетоэлектрическим фазовым переходом в нанокомпозитах сдвинут в сторону низких температур по сравнению с объемным образцом и соответствует Тс = (433±1) К. Отметим также, что, наряду с уменьшением температуры фазового перехода и значительным его размытием, в нанокомпозитах увеличивается температурный гистерезис фазового перехода, что свидетельствует об усилении степени первородности в условиях наноконфайнмента. Температура фазового перехода в режиме охлаждения, определенная по максимуму диэлектрической проницаемости, составляет ТС = (422±1) К. Коэффициент γ3ω при нагреве для нанокомпозитного DIPAC имеет высокие значения от комнатной температуры до 433 К. При охлаждении рост коэффициента γ3ω начинается около 423 К. Как правило, изменение температуры Кюри происходит в результате суперпозиции нескольких факторов. К ним, во-первых, относятся размерные эффекты, характерные для изолированных частиц. При интерпретации смещения фазового перехода по температуре для наночастиц в условиях наноконфайнмента, как правило, используются модели размерных эффектов, разработанные для изолированных частиц на основе феноменологической теории Ландау [17, 18]. Эти модели предсказывают, что температура структурного фазового перехода должна понижаться при уменьшении размеров частиц, если параметр порядка на границах частиц меньше, чем в объеме. Во-вторых, для частиц в матрицах к сдвигу температуры фазового перехода может приводить также взаимодействие со стенками пор и диполь-дипольное взаимодействие между частицами в соседних порах [19, 20]. В зависимости от геометрии сетки пор и формы частиц такое взаимодействие может изменять влияние размерных эффектов, приводя как к повышению, так и к понижению температуры перехода. В-третьих, на температуру Кюри могут оказывать влияние механические напряжения со стороны матрицы, возникающие в результате разных коэффициентов теплового расширения наполнителя и матрицы. В данном случае обнаруженное понижение температуры сегнетоэлектрического фазового перехода DIPAC в пористых стеклах с размером пор 100 нм также может быть связано с влиянием размерных эффектов. Кроме того, частицы DIPAC вполне могут испытывать механические напряжения сжатия со стороны пористого стекла, поскольку линейный коэффициент теплового расширения α для SiO2 составляет ~ 6•10-6 К-1, тогда как для DIPAC ~ 100•10-6 К-1. Однако данных для количественной оценки барического эффекта - изменения температуры Кюри при повышении давления - к настоящему моменту недостаточно, поскольку в литературе отсутствует информация о влиянии гидростатического давления на температуру сегнетоэлектрического фазового перехода в DIPAC. Заключение В данной работе проведены исследования диэлектрических свойств хлорида диизопропиламмония, внедренного в пористые стекла, средний размер пор которых составлял 100 нм. Было выявлено снижение температуры Кюри при нагреве на 10 К и расширение температурного гистерезиса фазоврго перехода с 3 до 10 К по сравнению с объемным образцом. Хлорид диизопропиламмония обладает меньшей диэлектрической проницаемостью и коэффициентом нелинейности, чем DIPAB, и не может конкурировать с классическими сегнетоэлектриками (типа BaTiO3 или PbTiO3). Однако по своим характеристикам, таким, как диэлектрическая проницаемость и спонтанная поляризация, он сравним с органическими сегнетоэлектриками (типа триглицинсульфат, дигидрофасфат калия или сегнетова соль), имея при этом гораздо большую температуру плавления, что позволит создавать устройства, работающие в большем температурном интервале.
Ключевые слова
нанокомпозит,
хлорид диизопропиламмония,
диэлектрическая проницаемость,
коэффициент третьей гармоникиАвторы
| Милинский Алексей Юрьевич | Благовещенский государственный педагогический университет | к.ф.-м.н., доцент БГПУ | a.milinskiy@mail.ru |
| Барышников Сергей Васильевич | Благовещенский государственный педагогический университет; Амурский государственный университет | д.ф.-м.н., профессор БГПУ, профессор АмГУ | svbar2003@list.ru |
| Егорова Ирина Владимировна | Благовещенский государственный педагогический университет | д.х.н., зав. кафедрой БГПУ | bgpu.chim.egorova@mail.ru |
Всего: 3
Ссылки
Fu D.W., Zhang W., Cai H.L., et al. // Adv. Mater. - 2011. - V. 23. - No. 47. - P. 5658-5662.
Fu D.W., Cai H.L., Liu Y., et al. // Science. - 2013. - V. 339. - Iss. 6118. - P. 425-428.
Saripalli R.K., Diptikanta S., Prasad S., et al. // J. Appl. Phys. - 2017. - V. 121. - P. 114101-5.
Fu J., Hou Y., X. Liu, et al. // J. Mater. Chem. C. - 2020. - V. 8. - Iss. 26. - P. 8704-8731.
Милинский А.Ю., Барышников С.В., Чарная Е.В., Самойлович М.И. // Изв. вузов. Физика. - 2018. - Т. 61. - № 5. - С. 164-168.
Барышников С.В., Чарная Е.В., Милинский А.Ю. и др. // ФТТ. - 2009. - Т. 51. - № 6. - С. 1172-1176.
Барышников С.В., Чарная Е.В., Милинский А.Ю. и др. // ФТТ. - 2010. - Т. 52. - № 2. - С. 365-369.
Hu H., Zhang F., Luo S., et al. // J. Mater. Chem. A. - 2020. - V. 8. - Iss. 33. - P. 16814-16830.
Baryshnikov S.V., Charnaya E.V., Milinskiy A.Yu., et al. // Phase Transitions. - 2018. - V. 91. - Iss. 3. - P. 293-300.
Milinskiy A.Yu., Baryshnikov S.V., Charnaya E.V., et al. // J. Phys.: Cond. Matter. - 2019. - V. 31. - Iss. 48. - P. 485704.
Milinskiy A.Yu., Baryshnikov S.V., Charnaya E.V., et al. // Results Phys. - 2020. - V. 17. - P. 103069.
Uskova N.I., Charnaya E.V., Podorozhkin D.Yu., et al. // Appl. Magn. Res. - 2020. - V. 51. - Iss. 2. - P. 129-134.
Milinskii A.Yu., Baryshnikov S.V., Parfenov V.A., et al. // Trans. Electric. Electron. Mater. - 2018. - V. 19. - Iss. 3. - P. 201-205.
Ikeda S., Kominami H., Koyama K., and Wada I. // J. Appl. Phys. - 1987. - V. 62. - Iss. 8. - P. 3339-3342.
Yudin S.G., Blinov L.M., Petukhova N.N., and Palto S.P. // J. Exp. Theor. Phys. Lett. - 1999. - V. 70. - Iss. 9. - P. 633-640.
Wagner K.W. Die Isolierstoffe der Elektrotechnik. - Berlin: Springer, 1924.
Zhong W.L., Wang Y.G., Zhang P.L., and Qu B.D. // Phys. Rev. B. - 1994. - V. 50. - Iss. 2. - P. 698-703.
Wang C.L., Xin Y., Wang X.S., and Zhong W.L. // Phys. Rev. B. - 2000. - V. 62. - Iss. 17. - P. 11423.
Uskov A.V., Charnaya E.V., Pirozerskii A.L., and Bugaev A.S. // Ferroelectrics. - 2015. - V. 482. - Iss. 1. - P. 70-81.
Барышников С.В., Чарная Е.В., Стукова Е.В. и др. // ФТТ. - 2010. - Т. 52. - № 7. - С. 1347-1350.
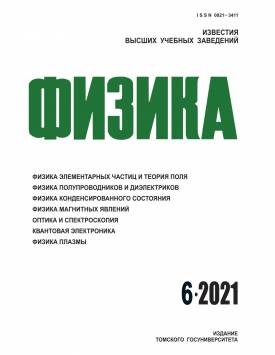
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью