Возбуждение вращательных уровней энергии молекулы озона О3 при столкновениях с атомами благородных газов (Ar и He)
Проведены расчёты сечений рассеяния на вращательных уровнях энергии молекулы озона О3 при столкновениях с атомами благородных газов (Ar и He) в рамках двухчастичной схемы с использованием программного пакета MOLSCAT2020. В рассмотрение включены все уровни O3 до J max = K max = 5 и J max = K max = 7 включительно, что соответствует 18 и 32 уравнениям связанных каналов. Проанализированы зависимости сечений рассеяния от энергии налёта и определены наиболее вероятные возбуждённые вращательные состояния O3. Вычислены скоростные коэффициенты при температурах из интервала 5-300 К. Обсуждается построение радиальной зависимости угловых коэффициентов потенциала взаимодействия.
Excitations of rotational energy levels of ozone molecule O3 by collisions with atoms of the noble gases (Ar .pdf Введение Изучение столкновительной динамики с участием молекулы озона (O3) направлено, с одной стороны, на понимание процесса её образования и разрушения, а с другой, для получения заселённостей уровней энергии в условиях нарушенного локального термодинамического равновесия (Non-LTE conditions). Считается, что формирование О3 в верхних слоях атмосферы происходит по механизму Чепмена: O + O2 + M → O3* + M, где M - третье тело, которое также требуется для стабилизации метастабильного O3*: O3* + M → O3 + M*. Теоретическое описание механизма Чепмена неоднократно проводилось на основе статистических моделей [1, 2], классических траекторий [3-7] и квантово-механическими методами [8-13]. Однако полученные значения констант скоростей реакций всё ещё не дают точного объяснения наблюдаемых зависимостей [14, 15]. Формирование О3 сопровождается аномалией, при которой концентрация более тяжёлого изотопа 18О оказывается больше, чем 17О. Данное отклонение известно в литературе как MIF-эффект, который подтверждён измерениями концентрации изотопов озона как в атмосфере, так и в лабораторных условиях [16, 17]. Стабилизация О3 сопряжена с процессом изотопического обмена: aO + bOcO → aOcO + bO, скорость которого, как оказалось, существенным образом зависит от характера поверхности потенциальной энергии О3 в направлении диссоциации. При использовании «без барьерных» вариантов поверхностей O3 [18, 19] скорость обмена имеет отрицательную зависимость от температуры, что согласуется с экспериментальными данными [20-23]. Долгоживущие метастабильные состояния играют важную роль в реакции формирования, так как время жизни изотопомеров O3* напрямую влияет на итоговые концентрации озона в атмосфере. Заселение метастабильных состояний растёт и убывает по трём каналам диссоциации O2+O. При этом скорость формирования во многом определяется различиями в энергиях нулевых колебаний (ZPE) bOcO, а не в массах его изотопов [24, 25]. Высоковозбуждённые состояния О3 характеризуются сильными резонансными связями, при которых велика вероятность обменного взаимодействия между тремя потенциальными ямами [26-30]. Точность предсказательных расчётов энергий O3 во многом зависит от качества применяемой поверхности потенциальной энергии, которая должна корректно описывать спектры высокого разрешения в широкой области волновых чисел от положения равновесия до порога диссоциации [31-34]. Данная работа направлена на сравнительный анализ возбуждения вращательных уровней энергии основного изотопа озона О3 (16О16О16О) при столкновениях с атомами благородных газов (Ar и He). Передача энергии в результате неупругих столкновений играет важную роль в формировании физико-химических свойств стратосферного озона, давая существенный вклад в заселённость высоковозбуждённых состояний. Динамические свойства столкновительных комплексов 16О16О16О-Ar и 16О16О18О-Ar исследованы недавно в [35] методом MCTDH (MultiConfigurational Time Dependent Hartree). Показано, что суммарная скорость возбуждения вращательных уровней энергии изотополога 668 выше на 5-7%, чем у 666, что может быть объяснено почти в 2 раза большим числом вращательных состояний в рамках группы Сs по сравнению с C2v. Текущие расчёты выполнены методом близко связанных каналов [36-41], реализованным в программном пакете MOLSCAT [42]. Связывание каналов осуществлено на основе потенциалов взаимодействия комплексов O3-Ar и О3-He, разработанных ранее [43]. 1. Радиальная зависимость угловых коэффициентов потенциала В данной работе за основу приняты потенциалы взаимодействия комплексов O3-Ar(He), разработанные ранее [43]. Согласно [43], расчёт ab initio энергии взаимодействия проводился явно коррелированным методом связанных кластеров CCSD(T)-F12 с орбитальным базисом AVTZ с учётом ошибки суперпозиции базисного набора (BSSE). Для общего числа рассмотренных ориентаций - 4816(5333), среднеквадратическое отклонение составило 0.421(0.567)см-1 при использовании сферических гармоник до lmax = mmax = 12. При расчёте сечений рассеяния особое значение имеет характер радиальной зависимости коэффициентов разложения потенциала взаимодействия , (1) где Ylm(θ, φ) - нормализованная сферическая гармоника [42, 44]; θ и φ - зенитный и азимутальный углы; δm0 - дельта-символ Кронекера; Сlm(R) - коэффициенты разложения (угловые коэффициенты); R - расстояние между центрами масс сталкивающихся частиц. Обычно радиальная зависимость выбирается в экспоненциальной форме на малых расстояниях (~ 0-5a0) и в форме обратно степенной функции (R-5, R-6, R-7 и т.п.) за пределами глобального минимума при удалении частиц друг от друга (см., например, [45]). Корректную асимптотическую зависимость для Сlm(R) наиболее просто гарантировать, рассматривая коэффициенты по отдельности без использования общей подгонки. Благородя тому, что сферические гармоники являются ортогональными функциями, возможно вычисление коэффициентов Сlm при фиксированном R = R0 посредством интеграла вида , (2) в котором дополнительный множитель возникает из-за уменьшенного в 4 раза предела интегрирования по азимутальному углу φ вследствие С2v-симметрии потенциала взаимодействия. Интеграл вида (2) в данной работе вычислялся числено с использованием квадратур Гаусса - Лежандра , (3) где xi и yj - квадратурные точки, в которых подынтегральная функция берётся с весовыми множителями wxi и wyj. Число квадратурных точек по θ и φ в данной работе равнялось: N1 = 20 и N2 =10. Для генерации квадратурных точек и весов использовался свободный для скачивания программный код [46]. В качестве Ylm(θ, φ) в выражениях (1) - (3) на практике применяется вещественная часть сферической гармоники: , (4) Plm(cos(θ)) - нормализованные присоединенные полиномы Лежандра. Угловые коэффициенты Сlm(R) вычислялись при 23 и 24 фиксированных значениях R из интервалов (5.0-16a0) и (4.25-15a0) для случаев O3-Ar и O3-He соответственно. Полученные дискретные значения далее связывались гладкой функциональной зависимостью, построенной на основе воспроизводящего ядра Гильбертова пространства (Reproducing Kernel Hilbert Space, далее по тексту RKHS). В рамках RKHS-подхода любая гладкая n раз дифференцируемая функция f(x) может быть аппроксимирована линейной комбинацией следующего вида (см., например, [47, 48]): . (5) Здесь ai - подгоночные коэффициенты; - воспроизводящее ядро; - узловая (опорная) точка, в которой значение функции известно из ab initio расчётов. Подгоночные коэффициенты находятся однозначно в результате решения системы линейных уравнений , (6) где . В общем случае воспроизводящее ядро зависит от выбранной весовой функции w(x) и вычисляется численно. Для случая, когда w(x) = x-m и m ≥ 0, ядро приобретает простой вид [47] , (7) ; ; B(a, b) - бета-функция; 2F1(a, b; c; z) - гипергеометрическая функция (функция Гаусса). При ядро (7) принимает константное значение, при - является полиномом порядка n - 1, а при - асимптотически убывает как ~ x-m. В задаче по аппроксимации радиальной зависимости потенциала взаимодействия ядро (7) обычно используют при n = 2 и m = 6, 7, 8 и т.п. В данной работе в случае комплекса O3-Ar рассмотрены два типа аппроксимации при расчёте сечений рассеяния: в первом случае аппроксимация методом RKHS применялась для всего интервала варьирования расстояния R = 1.0-40a0. Во втором случае, начиная с R = 5a0, она плавно переходила в экспоненциальную функцию: (8) где A и b - подгоночные параметры, определяемые в данной работе по двум значениям угловых коэффициентов при R = 5a0 и 5.25a0. Из рис. 1 явно видно, что за пределами области интерполяции при R < 5a0 экстраполяция в рамках RKHS-аппроксимации имеет линейный характер, так как n = 2 в выражении (7). Тем не менее при R → 0a0 угловые коэффициенты также принимают большие значения, достаточные для обнуления радиальной волновой функции каналов в запрещённой по классическим законам области (см., например, [42]). Рис. 1. Аппроксимация радиальной зависимости угловых коэффициентов потенциала взаимодействия O3-Ar на примере С00 при R = 5-16a0 (а) и R = 0-7a0 (б): ab initio - дискретные значения, полученные путём интегрирования (3); RKHS - аппроксимация (5); combined - кусочная аппроксимация с использованием RKHS и экспоненциальной функции (8) 2. Расчёт сечений рассеяния Расчёт сечений рассеяния проводился по двухчастичной схеме связанных каналов с использованием программного пакета MOLSCAT2020. Данная схема хорошо известна и описана во многих работах (см., например, [36-41]). Ниже приведены основные выражения в соответствии с руководством [42]. В рамках двухчастичной схемы решается одномерное уравнение Шредингера с гамильтонианом вида , (9) где µ - приведённая масса; R - расстояние между центрами масс сталкивающихся частиц; - оператор орбитального углового момента одной частицы относительно другой; Hintl - гамильтониан, описывающий внутреннюю энергию изолированных частиц; V - потенциал взаимодействия, который в общем случае может зависеть от внутримолекулярных координат ξintl. Расчёт матричных элементов (9) с использованием волновых функций , (10) где j - номер канала, а функции Φj(ξintl) формируют полный ортонормированный базисный набор для Hintl (ξintl), приводит к системе связанных дифференциальных уравнений . (11) Здесь ψj - радиальная волновая функция j-го канала; , Etotal - полная энергия столкновительного комплекса (столкновительная энергия); δij - дельта-символ Кронекера; Wij(R) - элементы матрицы взаимодействия (связывания) каналов между собой. В общем случае каналы могут быть связаны за счёт недиагональных (i ≠ j) матричных элементов: 1) оператора орбитального углового момента; 2) оператора Hintl; 3) потенциала взаимодействия: . (12) В рамках задачи по расчёту сечений рассеяния на вращательных уровнях каналы связываются между собой за счёт недиагональных элементов потенциала взаимодействия. В базисе волновых функций симметричного волчка матричные элементы потенциала (1) имеют явный аналитический вид, включающий в себя суммирование по индексам l и m произведения 3j- и 6j-символов и коэффициентов разложения (3) [36]. Случай асимметричного волчка (ITYP = 6 в программе MOLSCAT) отличается наличием дополнительной суммы по проекции K вращательного момен¬та J молекулы O3 из-за коэффициентов разложения вращательной волновой функции, полученных в результате диагонализации матрицы эффективного вращательного гамильтониана [41]. В данной работе при расчёте сечений рассеяния радиальные волновые функции каналов ψj(R) распространялись с применением пропагатора LDMD [49] (Manolopoulos Diabatic Modied Log-derivative) c Rmin = 1.0a0, Rmax = 40.0a0. Энергии каналов вычислялись с использованием враща- тельных параметров O3 (в ед. см-1): A = 3.553668246, B = 0.394754327, C = 0.445280723, DJ = 4.44015010-7, DJK = -1.62541210-6, DK = 2.112364310-4, полученных в результате подгонки вращательных уровней энергии, размещённых на сайте SM&PO [50]. Оси системы координат потенциалов взаимодействия O3-Ar(He) соответствовали главным моментам инерции O3 [36]: X - A, Y - B и Z - C. Редуцированные массы комплексов были равны (а.е.м.): µO3-Ar = 21.8008 и µO3-He = = 3.6945. Интегральные сечения рассеяния для перехода J K aK c ← JKaKc находятся в результате суммирования соответствующих парциальных сечений рассеяния S: , (13) где - кратность вырождения начального вращательного уровня JKaKc молекулы О3; ; Jtotal - полный момент, включающий в себя полный угловой вращательный момент O3 (J) и орбитальный угловой момент (L). Суммирование в выражении (13) проводится для всех возможных значений L, при которых S имеют значимый вклад. В данной работе для контроля сходимости (13) применялся автоматический режим (JTOTU = 99999, в программе MOLSCAT), при котором для каждой столкновительной энергии Etotal подбирается оптимальное значение Jtotal. На первом этапе расчётов проанализировано влияние подхода к аппроксимации радиальной зависимости угловых коэффициентов потенциала на значения сечений рассеяния. С этой целью рассмотрена система дифференциальных уравнений (11) с пятью связанными каналами (Jmax = = Kmax = 2) и lmax = mmax = 2. Как следует из таблицы, сечения рассеяния, полученные при использовании аппроксимаций (5) и (8), хорошо согласуются между собой. Экспоненциальная зависимость энергии отталкивания на малых расстояниях является физически более обоснованной, хотя существуют более точные модели, основанные на орбиталях слэтеровского типа [51]. Сравнение сечений рассеяния для столкновительного комплекса O3-Ar при использовании различных подходов к аппроксимации радиальной зависимости угловых коэффициентов потенциалаа Etotal, см-1 Канал рассеяния (J K aK c ← JKaKc) 111 ← 000 202 ← 000 211 ← 000 222 ← 000 RKHSб Δ, Å2 RKHSб Δ, Å2 RKHSб Δ, Å2 RKHSб Δ, Å2 5.0 18.6 -0.2 112.7 -7.9 * * * * 10.0 46.2 0.7 111.7 -5.4 3.3 0.3 * * 15.0 43.5 3.9 122.2 11.7 6.8 0.2 * * 20.0 35.7 5.7 119.8 2.9 7.4 0 12.6 -2.1 25.0 30.5 6.7 130.1 5.6 5.6 0.1 18.6 -2.8 30.0 25.1 5.5 139.7 -6.5 5.3 0.9 22.5 -3.1 35.0 20.8 3.4 138 -0.7 5 1.2 25.1 -3.6 40.0 18.8 3.2 134.4 3.8 3.3 1.4 25.8 -3.6 45.0 16.3 3.0 106 2.3 2.4 1.2 25.7 -2.9 50.0 14.3 2.9 89.8 2.9 1.9 0.7 24.6 -2.7 Примечание. а Расчёт выполнен для пяти каналов (Jmax = Kmax = 2) и с четырьмя угловыми коэффициентами (3) потенциала (lmax = mmax = 2); б RKHS - аппроксимация (5); Δ = combined - RKHS, где combined - кусочная аппроксимация с использованием RKHS и экспоненциальной функции (8); * - канал закрыт. Отметим, что параметры A и b в выражении (8), как правило, точно неизвестны, в особенности для угловых коэффициентов высокого порядка. Чем выше l и m у коэффициентов (3), тем более плотная сетка по углам θ и φ должна использоваться на малых расстояниях при построении потенциала взаимодействия. Однако известно, что по мере сближения двух частиц возрастает деформация их молекулярных (атомных) орбиталей, что приводит к плохой сходимости ab initio методов. Так, для используемого в данной работе потенциала комплекса O3-Ar [43] уже при R = 5.0a0 энергия отталкивания достигает ~ 60000 см-1 (когда θ ≈ 100 и φ ≈ 0). На наш взгляд, экстраполяция радиальной зависимости с использованием экспонент целесообразна, если в рассмотрение включены только первые несколько угловых коэффициентов потенциала. При работе с потенциалом [43] использование аппроксимации (8) для коэффициентов с lmax = mmax = 10 включительно приводило к появлению дыр в потенциале при R→0.0a0. При экстраполяции радиальной зависимости методом RKHS нами не были обнаружены дыры в интервале (0-5а0) вне зависимости от числа коэффициентов (3), включенных в состав потенциала (1). Итоговые сечения рассеяния для O3-Ar(He) были посчитаны для 18(32) связанных каналов включительно, что соответствует Jmax = Kmax = 5(7). Отличные от нуля сечения рассеяния приходятся на каналы, в которых вращательные уровни молекулы O3 соответствуют неприводимым представлениям A1 (Ka и Kc чётно) и A2 (Ka и Kc нечётно). Ненулевые сечения рассеяния на уровнях с различной чётностью по Ka и Kс дополнительно возникают в случае изотопических модификаций (например, 18О16О16О). Как следует из результатов расчётов, представленных на рис. 2, а и б, канал с максимальным сечением рассеяния - 202←000 при столкновительном возбуждении с участием как Ar, так и He. Данный результат согласуется с недавними расчётами [35] для комплекса O3-Ar. Значения сечений для столкновительного комплекса O3-Ar, в целом, более сильные по сравнению с O3-He, что объясняется различиями в потенциалах межмолекулярного взаимодействия: глобальный минимум для O3-Ar примерно в 4 раза больше, чем в случае O3-He [43]. Оставшиеся каналы с сильными сечениями рассеяния также соответствуют вращательными уровням O3, в которых молекула наиболее близка к приближению симметричного волчка. Указанная особенность наглядно демонстрируется в случае O3-He, где одновременно рассмотрены 32 канала (рис. 2, б). Рис. 2. Сечения рассеяния на вращательных уровнях О3 при неупругих столкновениях с атомами Ar (а, в) и He (б, г), рассчитанные с включением коэффициентов (3) до lmax = mmax = 10 и c аппроксимацией радиальной зависимости методом RKHS (5): число связанных каналов для O3-Ar(He) равно 18(32) Необходимо отметить, что имеются некоторые различия в значениях максимумов сечений по сравнению с недавними расчётами [35]. Так, согласно [35], сечение для канала 202←000 примерно в 6 раз превышает значения сечений во всех остальных каналах. В данной работе разрыв между 202←000 и остальными каналами меньше: не более чем в 3 раза. Наиболее вероятная причина данного расхождения объясняется разными подходами к выбору оптимального значения Jtotal в выражении (13). В [35] полный момент Jtotal варьировался от 0 до 200 с фиксированными шагами ΔJtotal = 5 и 10. В настоящей работе шаг по Jtotal был меньше (ΔJtotal = 1), а отсечка на максимальное значение выбиралась оптимальным образом для каждой столкновительной энергии (режим JTOTU = 99999 в программе MOLSCAT). 3. Скоростные коэффициенты В моделях радиационного переноса излучения в условиях non-LTE ([52-54] и ссылки в них) заселённость уровней зависит, помимо распределения Больцмана, от частоты столкновения частиц. Важным параметром для таких моделей являются температурные скоростные коэффициенты, которые рассчитываются в соответствии с формулой [55] , (14) где Т - температура; µ - приведённая масса; kb - постоянная Больцмана; σ - сечение рассеяния; E = Etotal - столкновительная энергия. Вычисление интеграла (14) в данной работе осуществлялось методом трапеций. Интервал интегрирования по Etotal выбран от Emin до 1100 см-1, где Emin = EJ Ka Kc с шагом ΔEtotal = 0.05 см-1. Для получения гладкой зависимости сечений рассеяния от энергии столкновения они были аппроксимированы методом RKHS при n = 2 и 6. Итоговые результаты для интервала температур 5-300 К с шагом ΔТ = 5 К представлены на рис. 3. Рис. 3. Температурные скоростные коэффициенты для каналов рассеяния, представленных на рис. 2 Из рис. 3 видно, что характер зависимости скоростных коэффициентов от температуры во многом определяется зависимостью сечений рассеяния от столкновительной энергии: скоростные коэффициенты для канала 202←000 вновь превышают остальные значения. Каждому каналу соответствует своя оптимальная температура, при которой скоростные коэффициенты достигают максимальных значений. При этом селективность коэффициентов по температуре выше при возбуждении Ar, так как атомная масса аргона примерно в 10 раз больше атомной массы He. Различие в приведённых массах также сказывается на значениях коэффициентов: в целом скорость заселения вращательных уровней O3 при столкновении с He выше, чем в случае с Ar при одинаковых температурах, так как приведённая масса комплекса O3-He примерно в 7 раз меньше O3-Ar. Заключение Проведены расчёты сечений рассеяния на вращательных уровнях энергии молекулы O3 при столкновениях с атомами Ar и He. При расчётах использованы потенциалы взаимодействия комплексов O3-Ar и O3-He, взятые из опубликованных авторами ранее работ. Показано, что в обоих случаях каналы рассеяния с максимальными значениями сечений соответствуют вращательным уровням, в которых молекула O3 наиболее близка к приближению симметричного волчка. Температурные скоростные коэффициенты в целом оказались выше при столкновениях с атомом He. Для случая столкновений с атомом Ar скоростные коэффициенты характеризуются более высокой селективностью по температуре.
Ключевые слова
озон,
аргон,
гелий,
сечения рассеяния,
скоростные коэффициенты,
вращательные уровни энергии,
поверхность потенциальной энергии,
столкновительная динамика,
ab initioАвторы
| Егоров Олег Викторович | Национальный исследовательский Томский государственный университет; Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН | к.ф.-м.н., науч. сотр. НИ ТГУ, науч. сотр. ИОА СО РАН | egrvoleg@gmail.com |
| Третьяков Аким Константинович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | студент НИ ТГУ | dr.akim1998@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
Gao Y.Q. and Marcus R.A. // J. Chem. Phys. - 2002. - V. 116. - P. 137.
Gao Y.Q. and Marcus R.A. // Science. - 2001. - V. 293. - P. 259-263.
Varandas A.J.C., Pais A.A.C.C., Marques J.M.C., and Wang W. // Chem. Phys. Lett. - 1996. - V. 249. - P. 264-271.
Baker T.A. and Gellene G.I. // J. Chem. Phys. - 2002. - V.117. - P. 7603-7613.
Ivanov M.V., Grebenshchikov S.Yu., and Schinke R. // J. Chem. Phys. - 2004. - V. 120. - P. 10015-10024.
Schinke R. and Fleurat-Lessard P. // J. Chem. Phys. - 2005. - V. 122. - P. 094317
Ivanov M.V. and Schinke R. // Mol. Phys. - 2010. - V. 108 (3-4). - P. 259-268.
Charlo D. and Clary D.C. // J. Chem. Phys. - 2002. - V. 117. - P. 1660-1672.
Charlo D. and Clary D.C. // J. Chem. Phys. - 2004. - V. 120. - P. 2700-2707.
Xie T. and Bowman J.M. // Chem. Phys. Lett. - 2005. - V. 412. - P. 131-134.
Grebenshchikov S.Yu. and Schinke R. // J. Chem. Phys. - 2009. - V. 131(18). - P. 181103.
Ivanov M.V. and Babikov D. // J. Chem. Phys. - 2012. - V. 136(18). - P. 184304.
Teplukhin A. and Babikov D. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2016. - V. 18(28). - P. 19194-19206.
Hippler H., Rahn R., and Troe J. // J. Chem. Phys. - 1990. - V. 93. - P. 6560-6569.
Anderson S.M., Hülsebusch D., and Mauersberger K. // J. Chem. Phys. - 1997. - V. 107. - P. 5385-5392.
Mauersberger K., Erbacher B., Krankowsky D., et al. // Science. - 1999 - V. 283(5400). - P. 370-372.
Thiemens M.H. // Science. - 1999. - V. 283(5400). - P. 341-345.
Tyuterev V.G., Kochanov R.V., Tashkun S.A., et al. // J. Chem. Phys. - 2013 - V. 139. - P. 134307.
Dawes R., Lolur P., Li A., et al. // J. Chem. Phys. - 2013. - V. 139. - P. 201103.
Sun Z., Yu D., Xie W., et al. // J. Chem. Phys. - 2015. - V. 142. - P. 174312.
Lahankar S.A., Zhang J., Minton T.K., et al. // J. Phys. Chem. A. - 2016. - V. 120(27). - P. 5348- 5359.
Honvault P., Guillon G., Kochanov R., and Tyuterev V. // J. Chem. Phys. - 2018. - V. 149. - P. 214304.
Guillon G., Honvault P., Kochanov R., and Tyuterev Vl. // J. Phys. Chem. Lett. - 2018. - V. 9(8). - P. 1931-1936.
Janssen C., Guenther J., Mauersberger K., and Krankowsky D. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2001. - V. 3 - P. 4718-4721.
Babikov D., Kendrick D.K., Walker R.B., et al. // J. Chem. Phys. - 2003. - V. 119. - P. 2577.
Lapierre D., Alijah A., Kochanov R., et al. // Phys. Rev. A. - 2016. - V. 94(4). - P. 042514.
Yuen C.H., Lapierre D., Gatti F., et al. // J. Phys. Chem. A. - 2019. - V. 123(36). - P. 7733-7743.
Егоров О.В., Могьер Ф., Тютерев Вл.Г. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 10. - С. 154- 161.
Kokoouline V., Lapierre D., Alijah A., and Tyuterev Vl. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2020 - V. 22. - P. 15885-15899.
Gayday I., Teplukhin A., Kendrick B.K., and Babikov D. // J. Chem. Phys. - 2020. - V. 152. - P. 144104.
Starikova E., Barbe A., and Tyuterev Vl.G. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2019. - V. 232. - P. 87-92.
Mikhailenko S. and Barbe A. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2020. - V. 244. - P. 106823.
Barbe A., Mikhailenko S., Starikova E., et al. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2013. - V. 130. - P. 172-190.
Vasilchenko S., Barbe A., Starikova E., et al. // Phys. Rev. A. - 2020. - V. 102. - P. 052804.
Sur S., Ndengué S.A., Quintas-Sánchez E., et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2020. - V. 22. - P. 1869-1880.
Green S. // J. Chem. Phys. - 1976. - V. 64. - P. 3463.
Bowman J.M. and Leasure S.C. // J. Chem. Phys. - 1977. - V. 66. - P. 288-295.
Parker G.A. and Pack R.T. // J. Chem. Phys. - 1978. - V. 68. - P. 1585.
Clary D.C. // J. Phys. Chem. - 1987. - V. 91(7). - P. 1718-1727.
Green S., Pan B., and Bowman J.M. // J. Chem. Phys. - 1995. - V. 102. - P. 8800.
Phillips T.R., Maluendes S., and Green S. // J. Chem. Phys. - 1995. - V. 102. - P. 6024.
Hutson J.M. and Sueur R.-C. // Comput. Phys. Commun. - 2019. - V. 241. - P. 9-18.
Егоров О.В., Третьяков А.К. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 4. - С. 69-76.
Varshalovich D.A., Moskalev A.N., and Khersonskii V.K. Quantum Theory of Angular Momentum. - Singapore: World Scientific Publishing, 1988. - 528 p.
Phillips T.R., Maluendes S., McLean A.D., and Green S. // J. Chem. Phys. - 1994. - V. 101. - P. 5824.
John Burkardt's. Home Page, URL: https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/
Ho T.-S. and Rabitz H. // J. Chem. Phys. - 1996. - V. 104. - P. 2584.
Koner D. and Meuwly M. // J. Chem. Theory Comput. - 2020. - V. 16(9). - P. 5474-5484.
Manolopoulos D.E. // J. Chem. Phys. - 1986. - V. 85. - P. 6425.
Babikov Y.L., Mikhailenko S.N., Barbe A., and Tyuterev V.G. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2014. - V. 145. - P. 169-196.
Van Vleet M.J., Misquitta A.J., Stone A.J., et al. // J. Chem. Theory Comput. - 2016. - V. 12(8). - P. 3851-3870.
Kutepov A.A., Oelhaf H., and Fischer H. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1997. - V. 57(3). - P. 317-339.
López-Puertas M. and Taylor F.W. Non-LTE Radiative Transfer in the Atmosphere. - Singapore: World Scientific Publishing Company, 2001. - 450 p.
Yamada T., Rezac L., Larsson R., et al. // A&A. - 2018. - V. 619. - A181.
Levine R.D. Molecular Reaction Dynamics. - United Kingdom: Cambridge University Press, 2005. - 570 p.
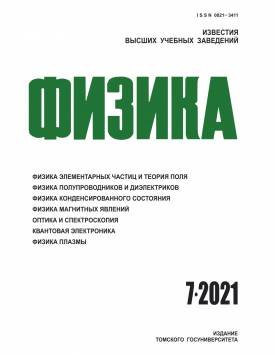
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью