Структурные и оптические свойства гибридного материала на основе оксидов олова и многослойных периодических структур с псевдоморфными слоями GeSiSn
Впервые получен гибридный материал, который включает оксиды олова поверх структуры с множественными квантовыми ямами Ge0.3Si0.7-y Sn y /Si. Оксиды олова, такие, как SnO и SnO2, формировались в результате фазовых переходов при окислении поликристаллических пленок олова (β-Sn). Продемонстрирована фотолюминесценция с максимумом интенсивности в области 2.34 эВ, что соответствует ширине запрещенной зоны SnO. Свечение в точке фотогенерации видится в зеленом цвете. Фотолюминесценция от SnO наблюдается после отжига в диапазоне температур 300-400 °С. Увеличение температуры отжига приводит к резкому гашению люминесценции, что связано с фазовым переходом SnO в SnO2. Изучен рост многослойных структур Ge0.3Si0.7-y Sn y /Si при содержании олова от 0 до 18 %. Установлено, что соединения GeSiSn являются термически стабильными в диапазоне температур отжига 300-550 °C. Помимо сигнала фотолюминесценции в видимой области от оксидов олова возникает сигнал фотолюминесценции в инфракрасном диапазоне около 3 мкм, который формируется от структуры GeSiSn/Si.
Structural and optical properties of a hybrid material based on tin oxides and multilayer periodic structures with pseud.pdf Введение Оксиды олова и соединения GeSiSn, объединенные в одной структуре, представляют перспективу для использования в системах мультиспектральной визуализации [1, 2], поскольку они демонстрируют сигнал фотолюминесценции в видимом и инфракрасном диапазонах длин волн [3-8]. Изменяя содержание олова в слое твердого раствора GeSiSn, можно регулировать ширину запрещенной зоны материала и варьировать оптические свойства от ближнего до среднего инфракрасного диапазона [9-11]. Оксиды олова относят к классу прозрачных проводящих оксидов. Однако их свойства очень сильно зависят от стехиометрии, легирования, метода получения. Изучают два основных оксида олова: SnO и SnO2, соответствующие валентности Sn +2 и +4. SnO является оксидом с p-типом проводимости. Это связано с вакансиями Sn и междоузлиями O [12, 13]. Ширина запрещенной зоны с прямыми переходами меняется в широких пределах от 2.5 до 3.8 эВ [14, 15]. Двумерный полупроводниковый слой p-SnO продемонстрировал величину ширины запрещенной зоны около 4.2 эВ [16]. Совершенно другими свойствами обладает диоксид олова SnO2. В своей стехиометрической форме он является хорошим диэлектриком. Однако нарушение стехиометрии, например, наличие вакансии кислорода, делает его проводящим материалом с n-типом проводимости [17]. SnO2 имеет ширину запрещенной зоны в диапазоне 3.6-3.8 эВ. Kilic и Zunger показали, что энергия формирования вакансий кислорода и междоузлий олова в SnO2 очень низкая, поэтому эти дефекты легко образуются, увеличивая проводимость нестехиометрического SnO2 [18]. Дальнейшее повышение проводимости достигается легирующими примесями [19, 20]. Как можно видеть из значений ширины запрещенной зоны оксидов олова, они охватывают ультрафиолетовую и видимую области электромагнитного спектра. Для того, чтобы продвинуться в инфракрасную область, мы предлагаем использовать материалы на основе элементов IV группы таблицы Д.И. Менделеева (Ge, Si и Sn). Добавление Sn в матрицу GeSi позволяет проводить зонный инжиниринг. Увеличение содержания олова уменьшает ширину запрещенной зоны и, таким образом, происходит рост рабочей длины волны от ближнего до среднего инфракрасного диапазона. В работе [6] исследованы оптические свойства многослойных гетероструктур GeSn/Ge с деформациями сжатия в слоях GeSn и создан макет ИК-фотоприемника, показывающий увеличение чувствительности во всем диапазоне от 0.75 до 2.4 мкм в сравнении с фотоприемником на основе Ge. Увеличение фотоотклика в инфракрасном диапазоне наблюдалось в p-i-n-диодах на основе многослойных структур с псевдоморфными слоями GeSiSn при увеличении содержания Sn от 0 до 14% [21]. Wirths с коллегами сообщили о создании макетного образца оптически накачиваемого лазера на основе GeSn [22], а в работе [23] получен электрически накачиваемый лазер на основе GeSn, работающий на длине волны 2.3 мкм до температуры ~ 100 К. Несмотря на перечисленные успехи, все еще остаются трудности, связанные с ростом материалов GeSiSn. Основные сложности обусловлены сегрегацией олова [24]. С помощью метода «sputter epitaxy» были получены слои GeSn с содержанием олова примерно до 11.5% без сегрегации Sn [25]. Подавить эффект сегрегации было предложено применением низкотемпературного буферного слоя GeSn [26]. Другой подход для получения слоев GeSn с высоким содержанием Sn заключается в том, чтобы использовать тонкие слои Sn толщиной в несколько монослоев между слоями Ge [27]. При этом максимальное содержание олова составило 15%. Подобный подход был применен в работе [28]. Сначала формировался массив оловянных островков β-Sn, а уже затем осаждался слой α-Ge и проводился отжиг. Здесь удалось достичь содержания олова до 26%. Такие слои позволяют продвинуться в среднюю инфракрасную область 3-5 мкм. Наиболее интересным вариантом с точки зрения зонной инженерии и термической стабильности являются слои GeSiSn. Вследствие увеличения энтропии перемешивания в системе GeSiSn по сравнению с GeSn слои GeSiSn более устойчивы к термическим отжигам [29]. Цель работы - установление закономерностей формирования гибридного материала на основе оксидов олова, сформированных в результате отжига пленки олова, и соединений GeSiSn. В работе мы использовали псевдоморфные слои GeSiSn, поскольку они не содержат дефектов, и получали многослойные периодические структуры с этими слоями на подложке Si. Сигнал фотолюминесценции, полученный от гибридного материала на основе оксидов олова SnO(x) и наногетероструктур GeSiSn/Si, наблюдался в видимой и инфракрасной области. Эксперимент Рис. 1. Схематичное представление структуры гибридного материала, включающего оксид олова и множественные квантовые ямы на основе псевдоморфных слоев GeSiSn Гибридный материал на основе оксидов олова и соединений GeSiSn был получен методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). На схематичном представлении структуры гибридного материала (рис. 1) можно видеть, что он включает многослойную периодическую структуру. Каждый период состоит из слоя Si и слоя GeSiSn. Слои GeSiSn находятся в псевдоморфном состоянии. Камера МЛЭ оснащена электронно-лучевым испарителем для Si и эффузионными ячейками Кнудсена для Sn и Ge. Это позволило растить тройные соединения GeSiSn с разным составом. После предварительной очистки поверхности кремния от тонкого слоя окисла на подложку Si(100) наносился буферный слой Si толщиной 150 нм при скорости осаждения Si 0.2 Å/c и температуре роста 700 °C для выглаживания поверхности. Далее формировалась многослойная периодическая структура, в которой период состоял из слоя Si толщиной от 7 до 23.5 нм и слоя GeSiSn толщиной 2 нм. В верхней части структуры создавался слой Sn толщиной 30 нм при скорости осаждения Sn 0.2 Å/c и комнатной температуре. По окончании роста все образцы выгружались из сверхвысокого вакуума на атмосферу и размещались в кварцевую печь. Затем они отжигались в интервале температур 300-700 °C для получения пленок SnO(x). Морфология и структура поверхности в течение МЛЭ контролировались методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ). Для определения границ псевдоморфного состояния пленок были установлены кинетические диаграммы роста пленок GeSiSn в диапазоне температур 100-300 °C. Критическая толщина определялась путем построения пространственно-временных профилей интенсивности вдоль одного из направлений на картине ДБЭ. Исследование напряженного состояния, состава и гетерограниц в структурах с мультиквантовыми ямами проводилось методом рентгеновской дифракции. Для измерения кривых дифракционного отражения применялся двухкристальный рентгеновский дифрактометр DSO-1T с использованием кристалла-монохроматора Ge(004) в излучении CuKα1 (λ = 1.54056 Å). Фазовый анализ исходных пленок Sn и оксидов олова, полученных после отжига, был выполнен методом рентгеновской порошковой дифрактометрии. Он представляет собой систему рентгеновской дифракции (Shimadzu XRD-7000, излучение CuKα, λ = 1.54178 Å, линейный детектор OneSight) в диапазоне 2θ от 20 до 50°. Индексация дифрактограмм проводилась по базе данных PDF (Powder Diffraction File, выпущенной в 2010 г. Международным центром дифракционных данных, Пенсильвания, США). Оптические свойства изучались методом фотолюминесценции (ФЛ). В видимом диапазоне ФЛ возбуждалась HeCd-лазером с длиной волны 325 нм и мощностью возбуждения 5 мВт. Сигнал ФЛ регистрировался дифракционным спектрометром с охлаждаемым фотоэлектронным умножителем с фотокатодом С-20. Для наблюдения ФЛ в среднем ИК-диапазоне образцы накачивались лазерным диодом на длине волны 785 или 405 нм. Для достижения максимальной эффективности в среднем ИК-диапазоне измерения проводились с помощью фурье-спектрометра с фотоприемником InSb, охлаждаемым жидким азотом. Результаты и их обсуждение Рис. 2. Кинетическая диаграмма роста слоев Ge0.3Si0.7-ySny для содержания Sn: 14 и 18% Изучен рост структур, содержащих оксиды олова и множественные квантовые ямы Ge0.3Si0.7-ySny с Si-барьерами. На первом этапе были получены многослойные периодические структуры, включающие упругонапряженные слои Ge0.3Si0.7-ySny. Ранее нами были исследованы кинетические диаграммы роста слоев Ge0.3Si0.7-ySny с малым содержанием олова (меньше 14%) [8, 30]. На рис. 2 продемонстрирована кинетическая диаграмма роста слоев Ge0.3Si0.7-ySny на Si(100) с более высоким содержанием Sn (14 и 18%) в диапазоне температур 100- 300 °C. Увеличение содержания олова позволяет продвинуться в более длинноволновую инфракрасную область спектра, как обсуждалось во введении. Область существования псевдоморфного состояния пленок Ge0.3Si0.7-ySny находится под кривой, описывающей критическую толщину 2D-3D-перехода. Пленка, превышающая критическую толщину 2D-3D-перехода, представляет массив трехмерных островков GeSiSn. Кривая, соответствующая содержанию олова 14%, имеет один минимум при 200 °C и два максимума около 150 и 250 °C. Более высокотемпературная область от 200 до 300 °C была нами описана в работе [30]. Эта область соответствует смене механизмов двумерного роста пленки от двумерно-островкового роста к росту островков за счет движения ступеней. Спад критической толщины 2D-3D-перехода в низкотемпературной области от 150 до 200 °C может объясняться влиянием олова, которое действует в качестве сурфактанта, ускоряющего поверхностную диффузию. Критическая толщина 2D-3D-перехода меняется от 1.5 почти до 2.5 нм в исследованном диапазоне температур. Следующая кривая, соответствующая содержанию олова 18%, спрямляется и особенностей, связанных со сменой механизмов двумерного роста, уже не наблюдается. Значения критической толщины изменяются слабо от 1.25 до 1.4 нм во всем диапазоне температур от 100 до 300 °C. Столь малые значения этой толщины, в первую очередь, могут быть связаны с предельной растворимостью олова в матрице GeSi. Увеличение температуры роста выше 300 °C приводит к сегрегации олова и твердого раствора заданного состава не образуется, что фиксируется появлением сверхструктур на картине ДБЭ. Фазовые диаграммы, описывающие сверхструктурные изменения при различных покрытиях олова, были представлены в работе [8]. На основе кинетических диаграмм роста пленок Ge0.3Si0.7-ySny выбиралась область толщин, соответствующая псевдоморфному состоянию. Преимуществом таких пленок по сравнению с толстыми слоями является отсутствие в них дислокаций. Знание области существования упругонапряженных пленок дает возможность выбирать параметры роста многослойных периодических структур, содержащих до десяти периодов с гетеропереходом Ge0.3Si0.7-ySny/Si. Толщина слоя Ge0.3Si0.7-ySny была выбрана 2 нм для содержания олова до 14% при температуре роста 150 °C. Период включал в себя слой Ge0.3Si0.7-ySny толщиной 2 нм и слой Si толщиной от 7 до 23.5 нм, осаждаемый поверх слоя твердого раствора при температуре 500 °C. Чтобы избежать сегрегации олова, было предложено использовать двухстадийный рост Si. Сначала формировался низкотемпературный слой кремния, а затем температура повышалась до конечной температуры роста 500 °C. На рис. 3 представлена картина ДБЭ в течение роста Si поверх слоя GeSiSn в азимутальном направлении [110] при формировании многослойной периодической структуры. Наблюдается сверхструктура (4×1), которая соответствует покрытию олова при температуре 500 °C [8]. Оптимизация роста низкотемпературного и высокотемпературного слоев кремния позволила достичь минимальной сегрегации олова. Рис. 3. Картина ДБЭ, наблюдаемая в азимутальном направлении [110] в течение роста Si поверх слоя GeSiSn при формировании многослойной периодической структуры Рис. 4. Кривые дифракционного отражения (004) от многослойных периодических структур с псевдоморфными пленками GeSiSn: а - с содержанием олова 7 и 14% в слое GeSiSn; б - с содержанием олова 7% в слое GeSiSn для исходного образца и для образца, отожженного при 550 °C. Пик от подложки Si указан стрелкой, а дифракционные максимумы показаны целыми числами. На рисунке (б) также представлено моделирование кривой, соответствующей выращенному образцу Напряженное состояние, состав, качество гетерограниц и термическая стабильность многослойных периодических структур были изучены методом рентгеновской дифрактометрии. На рис. 4, а можно видеть кривые дифракционного отражения (004) для образцов с различным содержанием олова 7 и 14%. Кривые дифракционного отражения для наглядности смещены по оси интенсивности. Они содержат пик от подложки Si и сателлиты, связанные с периодической структурой образцов. Наблюдаются сателлиты до 4-го порядка, что свидетельствует о высоком качестве структуры и ее строгой периодичности. Положение нулевого сателлита соответствует среднему составу периодической структуры. Из рисунка можно видеть угловое смещение нулевого сателлита для содержания олова 7 и 14%. Угловое расстояние между сателлитами зависит от периода, который был одинаков и составлял 14 нм: 2 нм - толщина GeSiSn и 12 нм - толщина Si. Псевдоморфное состояние пленок подтверждается формой кривой дифракционного отражения. Помимо состава, периода и напряженного состояния была изучена термическая стабильность структур при их отжиге до температуры ~ 550 °C (рис. 4, б). Исследовалась структура с содержанием олова 7 % в слоях Ge0.3Si0.7-ySny. Этот состав был подтвержден данными кривых дифракционного отражения. Период состоял из слоя Ge0.3Si0.7-ySny толщиной 2 нм и слоя Si толщиной 23.5 нм. Следуя положению нулевого сателлита как для исходного образца, так и отожженного при 550 °C, можно заключить, что отжиг образца не изменяет его средний состав. Моделирование кривых проводилось с использованием интернет-ресурса Sergey Stepanov's X-ray Server (https://x-server.gmca.aps.anl.gov/). Это важный результат, необходимый для дальнейшего получения гибридного материала, который формировался путем осаждения олова на структуру с множественными квантовыми ямами GeSiSn/Si в установке МЛЭ и его последующего окисления на воздухе при отжиге образцов в диапазоне 300-500 °С. Фазовый состав пленок SnO(x) до и после отжига представлен на рис. 5. На рентгенограмме исходного образца, полученного после осаждения олова толщиной 30 нм, наблюдаются два дублета, соответствующие плоскостям (200), (101), (220) и (211) и связанные с β-Sn (PDF #010-75-9188). Отжиг образца при 300 °С приводит к фазовому переходу пленки олова. Появляются дополнительные пики от фазы тетрагонального SnO (ромархит, PDF #000-55-0837). С увеличением температуры отжига до 500 °С возникает фазовый переход от тетрагонального SnO в тетрагональный SnO2 (t-SnO2, PDF #010-72-1147). Одновременно с дифракционными пиками от фазы SnO2 видны пики от фазы SnO и β-Sn. В отличие от металлического β-Sn, пропускание пленок с фазами SnO и SnO2 увеличивается. Это было показано в наших предыдущих работах [5, 31]. Увеличение рамановского сигнала от подложки кремния происходило вследствие уменьшения поглощения электромагнитного излучения в сформированных отжигом слоях оксидов олова SnO и SnO2 [5]. Нами также наблюдался рост интенсивности фотолюминесценции в инфракрасной области от пленок SiSn, полученных по механизму пар - жидкость - кристалл и содержащих наноостровки β-Sn на кремниевых пьедесталах при увеличении температуры их отжига [31]. Оптическая прозрачность оксидов олова и температурные режимы их формирования позволяют получать гибридный материал в сочетании оксидов олова с многослойными периодическими структурами, включающими псевдоморфные слои GeSiSn. Рис. 5. Экспериментальные рентгенограммы пленок SnO(x): исходного образца, отож¬женной пленки при 300 и 500 °C, и расчетные штрихдиаграммы для Sn, SnO и SnO2 Рис. 6. Спектры фотолюминесценции от образцов, включающих: а - структуру с множественными квантовыми ямами Ge0.3Si0.63Sn0.07/Si; б - оксид олова SnO(x) поверх многослойной периодической структуры с псевдоморфными слоями Ge0.3Si0.63Sn0.07/Si Оптические свойства многослойных периодических структур были исследованы методом фотолюминесценции. На рис. 6, а продемонстрированы спектры ФЛ, полученные при возбуждении образца, содержащего структуру из 10 периодов, фиолетовым лазером с длиной волны 405 нм и инфракрасным лазером с длиной волны 785 нм. Период структуры состоял из слоя Ge0.3Si0.63Sn0.07 толщиной 2 нм и слоя Si толщиной 7 нм. В случае фиолетового лазера излучение проходит примерно на 250 нм, что в точности соответствует толщине эпитаксиальной пленки, выращенной на подложке Si и содержащей многослойную периодическую структуру. Поэтому виден сигнал ФЛ в области 3 мкм, связанный с многослойной периодической структурой, а сигнал от кремниевой подложки в области 1.1 мкм отсутствует. Увеличение длины возбуждения до 785 нм приводит к увеличению глубины поглощения излучения, излучение проникает в подложку. На спектре ФЛ помимо сигнала в области 3 мкм появляется сигнал от кремния в области 1.1 мкм. Однако в этом случае снижается интенсивность ФЛ в длинноволновой инфракрасной области в максимуме около 3 мкм. Расшифровка сигнала в среднем инфракрасном диапазоне требует дополнительного расчета зонной структуры материала со слоями GeSiSn. Тем не менее можно видеть, что такие структуры демонстрируют ФЛ в инфракрасном диапазоне. Фотолюминесценция образцов, содержащих как пленку SnO(x), так и структуру с множественными квантовыми ямами GeSiSn/Si, исследовалась в видимом диапазоне. Для наблюдения фотолюминесценции была приготовлена серия образцов, которая сначала была исследована с помощью рентгеновской дифрактометрии. Оптимальной температурой окисления была температура отжига пленки Sn 100 °C в течение получаса, а затем отжиг при 200 °C также в течение получаса. Только в таких условиях удалось получить яркую ФЛ, начиная с 300 °C на длине волны 530 нм, как показано на рис. 6, б. Эта температура соответствует фазе SnO. Заметное уменьшение ФЛ происходит при температуре отжига 500 °C, когда уменьшается доля фазы SnO. Таким образом, на основе многослойных структур с псевдоморфными слоями GeSiSn и оксидов SnO(x) была разработана технология роста гибридного материала, демонстрирующего сигнал ФЛ как в видимой области, так и в инфракрасном диапазоне. Заключение Исследован процесс окисления поликристаллических пленок олова (β-Sn), полученных на поверхности структуры с квантовыми ямами GeSiSn, в результате отжига в атмосфере. Установлены фазовые переходы β-Sn в SnO с тетрагональной решеткой при температуре 300 °С и в SnO2 с преимущественно тетрагональной решеткой при 500 °С. Получен сигнал фотолюминесценции с максимумом интенсивности около 2.34 эВ, что соответствует ширине запрещенной зоны SnO. Свечение в точке фотогенерации видится в зеленом цвете. Изучен рост многослойных структур с квантовыми ямами GeSiSn и установлены 2D-3D-переходы для пленок GeSiSn с высоким содержанием олова 14 и 18%. Методом рентгеновской дифрактометрии проведен анализ отожженных образцов и определена область термически стабильных соединений. Этот диапазон температур занимает от 300-550 °С. Продемонстрирован сигнал фотолюминесценции в инфракрасной области от структуры с псевдоморфными слоями GeSiSn/Si. Получен гибридный материал, который демонстрирует сигнал фотолюминесценции в двух спектральных (в видимом и инфракрасном) диапазонах. Структуры на основе оксидов олова и многослойных периодических структур с квантовыми ямами GeSiSn могут быть использованы при создании «dual-band» материалов.
Ключевые слова
молекулярно-лучевая эпитаксия,
гибридный материал,
оксид олова,
твердый раствор,
кривая дифракционного отражения,
множественная квантовая яма,
фотолюминесценцияАвторы
| Тимофеев Вячеслав Алексеевич | Институт физики полупроводников СО РАН | к.ф.-м.н., ст. науч. сотр. ИФП СО РАН | vyacheslav.t@isp.nsc.ru |
| Машанов Владимир Иванович | Институт физики полупроводников СО РАН | к.ф.-м.н., ведущ. инженер ИФП СО РАН | mash@isp.nsc.ru |
| Никифоров Александр Иванович | Институт физики полупроводников СО РАН; Национальный исследовательский Томский государственный университет | д.ф.-м.н., зав. лабораторией ИФП СО РАН | nikif@isp.nsc.ru |
| Лошкарев Иван Дмитриевич | Институт физики полупроводников СО РАН | к.ф.-м.н., ст. науч. сотр. ИФП СО РАН | idl@isp.nsc.ru |
| Скворцов Илья Владимирович | Институт физики полупроводников СО РАН | магистрант, инженер ИФП СО РАН | i.skvortsov@g.nsu.ru |
| Гуляев Дмитрий Владимирович | Институт физики полупроводников СО РАН | к.ф.-м.н., науч. сотр. ИФП СО РАН | gulyaev@isp.nsc.ru |
| Корольков Илья Викторович | Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН | к.х.н., науч. сотр. ИНХ СО РАН | korolkov@niic.nsc.ru |
| Коляда Дмитрий Владимирович | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | аспирант СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | kolyada.dima94@mail.ru |
| Фирсов Дмитрий Дмитриевич | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | к.ф.-м.н., доцент каф. микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | d.d.firsov@gmail.com |
| Комков Олег Сергеевич | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» | к.ф.-м.н., доцент каф. микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | okomkov@yahoo.com |
Всего: 10
Ссылки
Kong S., Heo J., Boughorbel F., et al. // Int. J. Comput. Vis. - 2007. - V. 71. - P. 215.
Chan A.L. and Schnelle S.R. // Opt. Eng. - 2013. - V. 52. - P. 017004.
Guo W., Fu L., Zhang Y., et al. // Appl. Phys. Lett. - 2010. - V. 96. - P. 042113.
Palanichamy S., Mohamed J.R., Kumar K.D.A., et al. // Optik - Int. J. Light and Electron Opt. - 2019. - V. 194. - P. 162887.
Nikiforov A., Timofeev V., Mashanov V., et al. // Appl. Surf. Sci. - 2020. - V. 512. - P. 145735.
Gassenq A., Gencarelli F., Van Campenhout J., et al. // Opt. Exp. - 2012. - V. 20. - P. 27297.
Assali S., Nicolas J., Mukherjee S., et al. // Appl. Phys. Lett. - 2018. - V. 112. - P. 25903.
Timofeev V.A., Nikiforov A.I., Tuktamyshev A.R., et al. // Nanotechnology. - 2018. - V. 29. - P. 154002.
Zhang D., Jin L., Li J., et al. // J. Alloys Compd. - 2016. - V. 665. - P. 131.
Von den Driesch N., Stange D., Wirths S., et al. // Small. - 2017. - V. 13. - P. 1603321.
Von den Driesch N., Stange D., Rainko D., et al. // Solid State Electron. - 2019. - V. 155. - P. 139.
Nunes D., Pimentel A., Gonçalves A., et al. // Semicond. Sci. Technol. - 2019. - V. 34. - P. 043001.
Guillén C. and Herrero J. // J. Mater. Sci. Technol. - 2019. - V. 35. - P. 1706.
Liang L.Y., Liu Z.M., Cao H.T., et al. // ACS Appl. Mater. Interf. - 2010. - V. 2. - P. 1565.
Zheng H., Gu C.-D., Wang X.-L., and Tu J.-P. // J. Nanopart. Res. - 2014. - V. 16. - P. 2288.
Daeneke T., Atkin P., Orrell-Trigg R., et al. // ACS Nano. - 2017. - V. 11. - P. 10974.
Li J.-C. and Yuan H.-L. // Cryst. Res. Technol. - 2017. - V. 52. - P. 1700183.
Kilic C. and Zunger A. // Phys. Rev. Lett. - 2002. - V. 88. - P. 095501.
Montero J., Herrero J., and Guillen C. // Solar Energy Mater. Solar Cells. - 2010. - V. 94. - P. 612.
Ahmed A., Tripathi P., Siddique M.N., and Ali T. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. - 2017. - V. 225. - P. 012173.
Timofeev V., Nikiforov A., Yakimov A., et al. // Semicond. Sci. Technol. - 2019. - V. 34. - P. 014001.
Wirths S., Geiger R., von den Driesch N., et al. // Nature Photonics. - 2015. - V. 9. - P. 88.
Zhou Y., Miao Y., Ojo S., et al. // Optica. - 2020. - V. 7. - P. 924.
Tsukamoto T., Hirose N., Kasamatsu A., et al. // Appl. Phys. Lett. - 2015. - V. 106. - P. 052103.
Tsukamoto T., Hirose N., Kasamatsu A., et al. // J. Mater. Sci. - 2015. - V. 50. - P. 4366.
Tsukamoto T., Hirose N., Kasamatsu A., et al. // Electron. Mater. Lett. - 2019. - V. 16. - P. 9.
Fischer I.A., Clausen C.J., Schwarz D., et al. // Phys. Rev. Mater. - 2020. - V. 4. - P. 024601.
Wang X., Cuervo Covian A., Je L., et al. // Frontiers Phys. - 2019. - V. 7. - P. 134.
Xie J., Chizmeshya A.V.G., Tolle J., et al. // Chem. Mater. - 2010. - V. 22. - P. 3779.
Nikiforov A.I., Mashanov V.I., Timofeev V.A., et al. // Thin Solid Films. - 2014. - V. 557. - P. 188.
Timofeev V., Mashanov V., Nikiforov A., et al. // Appl. Surf. Sci. - 2021. - V. 553. - P. 149572.
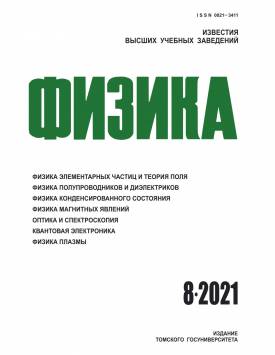
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью