Экспериментальные интенсивности линий колебательно-вращательных переходов в полосах ν1+ ν2 и ν2+ ν3 молекулы D234S
Впервые проведено исследование абсолютных интенсивностей линий в спектре высокого разрешения молекулы D234S в диапазоне 2300-2900 см-1. В результате анализа было получено около 800 экспериментальных интенсивностей колебательно-вращательных переходов для полос ν1+ν2 и ν2+ν3 и рассчитан набор из шести параметров эффективного дипольного момента, который воспроизводит начальные экспериментальные интенсивности линий с d rms = 9.7%. Составлен список переходов с частотами и интенсивностями линий в исследуемом диапазоне.
Experimental ro-vibrational line intensities for the ?1+ ?2 and ?2+ ?3 bands.pdf Введение Молекулярная спектроскопия - одна из старейших и наиболее развитых областей химической физики, включающая в себя многие специальные разделы. Одним из таких разделов является колебательно-вращательная спектроскопия. В рамках данного раздела решается большой круг как фундаментальных, так и прикладных задач физики, химии, астрономии, атмосферной оптики. В частности, методы колебательно-вращательной спектроскопии применяются для решения таких задач, как мониторинг атмосферы Земли и контроль за выбросами загрязняющих атмосферу газов [1], изучение химии и динамики верхних слоев атмосферы, создание архивов о составе атмосферы, с целью оценки долгосрочных изменений [2]. Помимо этого, основным источником эмпирических представлений об астрономических объектах являются спектры, и именно методами спектроскопии высокого разрешения сегодня исследуется большинство типов объектов Вселенной, от субсекундных образований на Солнце до ярких квазаров [1, 3, 4]. Другой научной областью применения, представляющей значительный интерес, является обнаружение и определение содержания органических и неорганических молекул, ионов и радикалов в межзвездном пространстве. Наличие информации такого сорта необходимо для понимания процессов образования звезд [5-7]. Хотя основные подходы, используемые в области астрофизики, отличаются от тех, которые применяются для изучения земной атмосферы, существуют основные вопросы, объединяющие эти две области: какие молекулы присутствуют, какова их концентрация, каковы пространственные и временные вариации в этих количествах и каковы наиболее чувствительные методы их определения. Исследования многих молекул и их изотопологов методами спектроскопии высокого разрешения в лабораторных условиях позволяют найти ответы на эти вопросы. Молекулярная спектроскопия высокого разрешения активно развивалась в последние десятилетия и на данном этапе многие новые атмосферные, астрофизические и технологические приложения требуют расширения спектральных и температурных интервалов, более точного моделирования и надежных предсказаний молекулярных спектров изотопологов с высоким разрешением [8]. В данном исследовании внимание уделяется одному из изотопологов сероводорода, молекуле D234S. Цель данного исследования - определение абсолютных интенсивностей линий экспериментального спектра молекулы D234S в полосах ν1+ν2 и ν2+ν3 на основе ранее проведенного анализа положений линий [9], а также последующее определение параметров эффективного дипольного момента для указанных полос. Что касается актуальности исследования молекулы сероводорода, то в первую очередь следует отметить, что присутствие D2S в межзвездном пространстве и атмосфере Венеры уже было доказано [10]. Кроме того, сера является ключевым элементом для химии и физики планет-гигантов, так как обычно предполагается, что газообразные соединения серы реагируют с NH и конденсируются в виде кристаллов NH4SH, формирующих тропосферные облака этих планет [11]. Известно также, что сероводород и его изотопологи являются загрязнителями, так как летучий компонент сероводорода играет важную роль в эволюции и извержении магм и образуется в процессе сжигания топлива в результате деятельности человека [12]. Поэтому для измерения и контроля уровня загрязняющих веществ в атмосфере Земли необходимы данные о спектрах этих молекул. Будучи вовлеченными в так называемый «цикл серы», различные изотопологи сероводорода создают основу для исследования процессов, имевших место в ранней истории Земли [13]. Сероводород также интересен с теоретической точки зрения, так как является молекулой, для которой выполняется условие локальных мод. Этот факт позволяет анализировать как свойства локальных мод, так и условия их нарушения при изучении основных полос валентных колебаний и обертонов. Таким образом, молекула сероводорода может рассматриваться в качестве удобного объекта для проверки различных методов, используемых в химической физике для создания поверхности потенциальной энергии (PES), поверхности дипольного момента (DMS) и для моделирования экспериментальных спектров [14]. Несмотря на то, что натуральное содержание данного изотополога невелико по сравнению с основной модификацией, изучение спектров молекулы D234S важно по ряду причин. В первую очередь установлено, что существует большое количество неидентифицированных линий, особенно в спектрах различных областей межзвездного пространства (IS) и предзвездных горячих ядер [15]. Было высказано предположение, что большинство этих линий принадлежат возбужденным колебательным состояниям или изотопологам ограниченного числа уже известных межзвездных молекул, а не некоторым неизвестным пока молекулам. Поэтому для правильной интерпретации астрономических наблюдений необходимы всесторонние и подробные данные о «чистых» веществах, которые отслеживаются в хорошо известных и контролируемых условиях окружающей среды. Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что за последние десятилетия в микроволновой, субмиллиметровой и инфракрасной областях проводились обширные лабораторные спектроскопические исследования молекулы сероводорода и ее изотопологов (см., например, работы [16, 17] и ссылки в них). Однако, несмотря на большой объем всех исследований, изотополог D234S упоминался лишь в нескольких работах [18-21], посвященных решению энергетической задачи. Это связано с тем, что переходы, принадлежащие молекуле D234S, как правило, весьма слабые относительно аналогичных переходов молекулы D232S, и поэтому такой анализ предъявляет высокие требования к спектральному оборудованию и разрешающей способности приборов. Данные об интенсивностях колебательно-вращательных переходов молекулы D234S в научной литературе отсутствуют. Анализ энергетической структуры молекулы D234S с использованием спектра высокого разрешения в области второй триады был проведен впервые в работе [9]. Именно на основе результатов работы [9] было выполнено настоящее исследование интенсивностей полос ν1+ν2 и ν2+ν3. Детали эксперимента Два спектра дейтерированного сероводорода (образец Merck/Sigma-Aldrich, заявленная чистота 97%) были зарегистрированы в лаборатории Технического университета г. Брауншвейг на фурье-спектрометре Bruker IFS125HR. Дополнительные сведения об основных принципах работы экспериментальной установки и деталях эксперимента можно найти в работах [22, 23]. Экспериментальные спектры представлены на рис. 1. Спектр был зарегистрирован в диапазоне 1750-4200 см-1, из которого для настоящего анализа была взята область 2400-2900 см-1. Условия эксперимента приведены в табл. 1. Таблица 1 Экспериментальные условия для ИК-спектров молекулы D2S и ее изотопологов Спектр Разрешение, см-1 Диапазон, см-1 Оптическая длина пути, м Температура, °C Давление, Па Число сканов I 0.003 1750-4200 12 24±0.5 600 1150 II 0.003 1750-4200 163 24±0.5 400 960 Рис. 1. Экспериментальные спектры I (черный) и II (серый) D2MS (M = 32, 33, 34) в области 2300-2900 см-1 В данном эксперименте происходил быстрый водородно-дейтериевый обмен части молекул D232S. Это является следствием испарения остаточного водяного пара с поверхности ячейки, из окон CsI и KBr, а также из-за проникновения водяного пара в ячейки, чего нельзя полностью избежать в течение длительного времени измерения (от 22 до 33 ч для данного исследования). В результате в ячейках образовывалось значительное количество молекул HDS, H2S и D2S. Для определения среднего парциального давления молекулы D234S в ячейке (табл. 2) применялась ранее разработанная методика [24], которая использует параметры эффективного дипольного момента основной модификации молекулы (в данном случае H2S). Таблица 2 Относительная концентрация молекул в экспериментальной ячейке спектров I и II (в %) Спектр H2O D2O HDO CO2 H2S D232S HD32S I 0.004±0.003 0.080±0.005 0.017±0.003 0.007 3.8±0.4 61.8±1.0 32.1±1.1 II 0.005±0.001 0.714±0.034 0.112±0.019 0.010 2.7±0.4 64.4±0.9 29.5±0.8 Температура в течение эксперимента контролировалась с помощью термометра Ahlborn Almemo 2590, работающего с сопротивлением PT100. Для контроля давления использовался каскад из трех калиброванных датчиков Pfeiffer CMR с диапазонами давления до 10, 100 и 1000 ГПа, которые не зависят от вида газа и устойчивы к агрессивным газам. Спектры калибровались по линиям CO2, их волновые числа были взяты из базы данных HITRAN. Результирующая погрешность составляет ±0.0002 см-1 для хорошо изолированных линий. Анализ интенсивностей колебательно-вращательных линий Анализ энергетической структуры молекулы D234S был сделан в работе [9]. В результате проведенного анализа положений линий в спектре для полос ν1+ν2 и ν2+ν3 молекулы D234S было проинтерпретировано 567/648 переходов с максимальными значениями квантовых чисел J max = 18/23 и Kamax = 12/12 соответственно. Был также получен набор из 43 варьируемых параметров эффективного гамильтониана, способных воспроизвести колебательно-вращательный спектр с отклонением drms = 2.4∙10-4 см-1. Полученные в результате решения обратной спектроскопической задачи волновые функции позволили осуществить анализ интенсивностей и рассчитать основные параметры эффективного дипольного момента. Как известно [25], интенсивность линии может быть получена путем измерения площади линий поглощения ALine, температуры T, парциального давления P, и оптической длины пути L. Интенсивности экспериментальных линий были определены с использованием профиля линии Артмана - Трана. [26] для хорошо изолированных линий, в остальных случаях использовался профиль Фойгта [27]. Естественное содержание изотополога D234S в образце значительно меньше, чем содержание D232S. Как следствие, переходы, принадлежащие D234S, более слабые по сравнению с соответствующими переходами изотополога D232S. Разница в интенсивностях для обоих молекул отображена на рис. 2. Рис. 2. Сравнение интенсивности одного и того же перехода [313 ← 212] для полосы ν2+ν3 молекул D232S и D234S; а и б соответствуют спектру II, в и г - спектру I На рис. 2, a и в показан переход с уровня основного колебательного состояния с квантовыми числами J' = 2, K'a = 1, K'c = 2 на колебательно-вращательный уровень возбужденного состояния (011) с квантовыми числами J = 3, Ka = 1, Kc = 3 для молекулы D232S. На рис. 2, б и г показан аналогичный переход для молекулы D234S. Как видно из рис. 2, для анализа интенсивностей переходов и корректного описания формы линий необходимо использовать спектры, зарегистрированные при разных экспериментальных условиях. Так, некоторые линии могут быть слишком насыщенными или перекрыты линиями, относящимися к другим присутствующим в газовой смеси молекулам (рис. 2, a). В этом случае целесообразно использовать спектр I, менее интенсивный (рис. 2, в). Хотя на рис. 2, a и в показан переход для молекулы D232S, аналогичная проблема характерна и для некоторых переходов молекулы D234S. Для ситуации из рис. 2, г, когда линия слишком мала и ее интенсивность соответствует уровню шума, разумно использовать для анализа более интенсивный спектр II (рис. 2, б). В качестве иллюстрации на рис. 3 приведены два примера анализа формы хорошо изолированных сильных линий. Черная сплошная линия соответствует экспериментально измеренному значению формы линии, тогда как черная пунктирная линия обозначает теоретически смоделированный на основе модели Артмана - Трана контур. В нижней части рисунка представлена разница между экспериментальным и рассчитанным значением профиля линии. Полученные экспериментальные интенсивности линий использовались для определения параметров эффективных дипольных моментов полос ν1+ν2 и ν2+ν3. Для расчета применялась общая математическая модель [28], согласно которой интенсивность единичной линии определяется как , (1) Рис. 3. Форма экспериментальных линий колебательно-вращательных переходов молекулы D234S; а соответствует переходу [716 ← 827] полосы ν1+ν2 в спектре II; б - переходу [633 ← 734] полосы ν2+ν3 в спектре II. Ось ординат соответствует интенсивности линии, выраженной в см-1•атм-1, τ - оптическая толща, L - длина пути, Pp - парциальное давление где - волновое число перехода; h - постоянная Планка; с - скорость света; EA и EB - энергии нижнего и верхнего колебательно-вращательных уровней соответствующего перехода; gA - статистический вес ядерного спина; Z(T) - статистическая сумма. Значение в уравнении (1) - квадрат матричного элемента оператора эффективного дипольного момента μ′z на нижних и верхних колебательно-вращательных волновых функциях перехода. Эффективный оператор μ′z связан с оператором μz (μz - это z-компонента оператора дипольного момента в пространственной фиксированной системе координат) следующим соотношением: . (2) В уравнении (2) оператор G является унитарным оператором, известным из теории эффективных операторов; kzα - элементы матрицы направляющих косинусов; значения μαе, μαλ, μαλν и qλ являются параметрами дипольного момента и нормальными координатами конкретного изотополога молекулы. Поскольку в данной работе мы рассматриваем переходы лишь с основного состояния, то часть выражения (2), ответственная за такие переходы, может быть записана в следующем виде для молекулы типа XY2 (C2v-симметрии): . (3) Предполагается, что | 0〉 и | v = 1〉/ | v = 2〉 являются основным, (110) и (011) колебательными состояниями соответственно; vμz - чисто вращательные операторы вида ; (4) vμj и vAj - эффективные параметры и симметризованные вращательные операторы соответственно. Результаты и их обсуждение Изложенные выше элементы теории эффективных операторов легли в основу процедуры определения параметров эффективных дипольных моментов полос ν1+ν2 и ν2+ν3. В качестве исходных данных использовались экспериментальные интенсивности линий 30 сильных хорошо изолированных переходов, которые были впервые измерены в настоящей работе. В результате из решения обратной задачи были рассчитаны шесть параметров эффективного дипольного момента с точностью 9.7% (результаты представлены в табл. 3). Таблица 3 Параметры эффективного дипольного момента полос ν1+ν2 и ν2+ν3 для D234S Оператор а) Параметр Значение б), Дебай kzx 110µ1x 0.005300(69) {ikzy, Jz} 110µ4x∙103 0.060(14) kzz 011µ1z 0.00746(22) {kzz, J2} 011µ2z∙103 0.0189(24) {kzz, Jz2} 011µ3z∙103 -0.1469(39) 1/2[{kzx, iJy}+{ ikzy, Jx}] 011µ6z∙103 0.182(39) Примечание: а) {A, B} = AB+BA; б) Значения в скобках представляют собой стандартную ошибку 1σ. На следующем этапе анализа полученные значения параметров использовались для оценки интенсивностей линий других переходов, найденных ранее в экспериментальном спектре. Небольшая часть экспериментально определенных переходов с положениями и интенсивностями линий представлена в табл. 4. Таблица 4 Часть экспериментальных переходов полос ν1+ν2 и ν2+ν3 для молекулы D234S J Ka Kc J' K'a K'c Положение, см-1 Интенсивностьа), см-1/мол Спектр Полоса 3 0 3 3 1 2 2726.28854 1.880∙10-23 II ν1+ν2 4 0 4 5 1 5 2710.85663 1.780∙10-22 I ν1+ν2 1 1 1 2 2 0 2716.09714 3.649∙10-23 II ν1+ν2 2 1 1 2 2 0 2734.24786 1.044∙10-22 II ν1+ν2 3 1 3 2 0 2 2755.30337 1.278∙10-22 II ν1+ν2 2 2 0 2 1 1 2742.79249 2.325∙10-22 II ν1+ν2 3 2 2 4 3 1 2694.94167 2.745∙10-23 II ν1+ν2 6 2 4 5 3 3 2779.78431 1.691∙10-22 I ν1+ν2 7 2 6 8 1 7 2691.04534 2.260∙10-22 II ν1+ν2 3 3 0 4 2 3 2724.08487 1.736∙10-23 II ν1+ν2 4 3 2 4 4 1 2726.29623 3.355∙10-23 II ν1+ν2 5 3 2 5 4 1 2731.01774 6.376∙10-23 II ν1+ν2 5 4 2 4 3 1 2786.13038 1.026∙10-22 II ν1+ν2 6 4 2 5 3 3 2805.24094 5.343∙10-23 II ν1+ν2 7 4 4 6 1 5 2830.01441 1.299∙10-23 II ν1+ν2 5 5 1 6 2 4 2729.08088 2.108∙10-22 II ν1+ν2 6 5 2 5 4 1 2798.35186 1.723∙10-22 II ν1+ν2 7 5 2 6 4 3 2813.79671 3.376∙10-23 II ν1+ν2 6 6 1 7 5 2 2701.65278 1.920∙10-22 II ν1+ν2 7 6 1 8 5 4 2700.21074 6.076∙10-23 II ν1+ν2 8 6 3 7 5 2 2818.64683 1.102∙10-22 II ν1+ν2 9 7 3 8 6 2 2829.96034 1.998∙10-22 II ν1+ν2 8 7 1 9 8 2 2650.08014 3.199∙10-23 II ν1+ν2 10 8 2 11 9 3 2633.42560 3.042∙10-23 II ν1+ν2 0 0 0 1 0 1 2742.79249 2.325∙10-22 II ν2+ν3 2 0 2 3 0 3 2732.45318 9.933∙10-23 I ν2+ν3 2 1 2 2 1 1 2743.52540 2.600∙10-23 II ν2+ν3 Окончание табл. 4 J Ka Kc J' K'a K'c Положение, см-1 Интенсивностьа), см-1/мол Спектр Полоса 4 1 3 3 1 2 2777.35771 1.249∙10-22 I ν2+ν3 2 1 1 3 1 2 2727.46133 9.791∙10-23 I ν2+ν3 3 2 1 3 2 2 2755.22780 1.296∙10-22 II ν2+ν3 4 2 3 5 2 4 2718.09159 2.131∙10-22 I ν2+ν3 5 2 4 5 0 5 2772.11061 7.266∙10-22 I ν2+ν3 3 3 0 4 3 1 2717.99901 1.321∙10-22 II ν2+ν3 4 3 1 3 3 0 2783.01050 1.103∙10-22 II ν2+ν3 5 4 2 4 4 1 2788.19311 4.520∙10-23 II ν2+ν3 5 5 0 5 5 1 2751.10509 3.883∙10-22 II ν2+ν3 6 5 1 6 5 2 2752.26299 1.301∙10-22 II ν2+ν3 7 6 2 8 6 3 2690.34649 4.079∙10-23 II ν2+ν3 8 6 2 7 6 1 2815.10660 4.351∙10-23 II ν2+ν3 11 7 5 10 7 4 2836.28421 1.888∙10-23 II ν2+ν3 8 7 1 9 5 4 2709.98075 1.910∙10-23 II ν2+ν3 7 7 0 7 7 1 2752.00200 3.581∙10-22 II ν2+ν3 9 8 2 9 8 1 2752.66663 6.681∙10-23 II ν2+ν3 Примечание: а) Значения абсолютных интенсивностей приведены для температуры 24 °C с учетом коэффициента парциальности. Значения J, Ka, Kc соответствуют квантовым числам верхнего колебательно-вращательного состояния, тогда как значения J', K'a, K'c соответствуют квантовым числам нижнего состояния. В работе приводится лишь часть найденных интенсивностей, это связано с налагаемыми на объем публикации ограничениями. Полный список колебательно-вращательных переходов и соответствующих им интенсивностей может быть предоставлен авторами по запросу. Заключение Проведен анализ порядка 800 экспериментальных интенсивностей колебательно-вращатель¬ных линий полос ν1+ν2 и ν2+ν3 молекулы D234S и получен набор из шести параметров эффективного дипольного момента, воспроизводящий исходные экспериментальные интенсивности линий с drms = 9.7%. По результатам исследования удалось сформировать список переходов в области 2300-2900 см-1 c положениями линий и их интенсивностями.
Ключевые слова
сероводород,
изотопологи,
колебательно-вращательный анализ,
интенсивностиАвторы
| Белова Анастасия Сергеевна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | инженер-исследователь НИ ТГУ | belova.sibir@mail.ru |
| Бехтерева Елена Сергеевна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | д.ф.-м.н., профессор НИ ТГУ | lane_bes@mail.ru |
| Ерсин Толганай | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | аспирант НИ ТГУ | tee2@tpu.ru |
| Глушков Петр Алексеевич | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | студент НИ ТГУ | pag14@tpu.ru |
| Чжан Фанцэ | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | инженер-исследователь НИ ТГУ | zhangfangce@tpu.ru |
| Зидо Кристиан | Технический университет Брауншвейга | науч. сотр. Технического университета Брауншвейга | christian.sydow@tu-braunschweig.de |
Всего: 6
Ссылки
Rao K.N., Weber A. Spectroscopy of the Earth's Atmosphere and Interstellar Medium. - London: Academic Press, 1992.
Farmer C.B. // Microchim. Acta. - 1987. - V. 93. - P. 189-214.
Rao K.N. Molecular Spectroscopy: Modern Research III. - London: Academic Press, 1985.
Емельянов Э.В. Астрофизика ИК-диапазона. - М.: Физматлит, 2009.
Herbst E., Van Dishoeck E.F. // Annu. Rev. Astron. Astrophys. - 2009. - V. 47. - P. 427-480.
Xue C., Remijan A.J., Brogan C.L., et al. // Astrophys. Galaxies. - 2019. - V. 882. - P. 118.
Ordu M.H., Zingsheim O., Belloche A., et al. // Astron. and Astrophys. - 2019. - V. 629. - P. A72.
Rothman L.S., Gordon I.E., Barber R.J., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2010. - V. 111. - No. 15. - P. 2139-2150.
Ulenikov O.N., Bekhtereva E.S., Gromova O.V., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2020. - V. 245. - P. 106879.
Vastel C., Phillips T.G., Ceccarelli C., Pearson J. // Astrophys. J. Lett. - 2003. - V. 593. - No. 2. - P. L97.
Flaud J.M., Camy-Peyret C., Johns J.W.C. // Can. J. Phys. - 1983. - V. 61. - No. 10. - P. 1462-1473.
Charlson R.J., Anderson T.L., Mc Duff R.E. The Sulfur Cycle. Global Biogeochemical Cycles. - San-Diego: Academic Press, 1992.
Farquhar J., Bao H., Thiemens M. // Science. - 2000. - V. 289. - P. 756-758.
Liu A.W., Ulenikov O.N., Onopenko G.A., et al. //j. Mol. Spectrosc. - 2006. - V. 238. - No. 1. - P. 11-28.
Cernicharo J., Daniel F., Castro-Carrizo A., et al. // Astrophys. J. Lett. - 2013. -V. 778. - No. 2. - P. L25.
Чжан Ф., Глушков П.А., Бехтерева Е.С. // Изв. вузoв. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 7. - С. 173-174.
Ulenikov O.N., Bekhtereva E.S., Gromova O.V., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2020. - V. 255. - P. 107236.
Ulenikov O.N., Bekhtereva E.S., Gromova O.V., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2020. - V. 252. - P. 107106.
Gillis J.R., Blatherwick R.D., Bonomo F.S. //j. Mol. Spectrosc. - 1985. - V. 114. - No. 1. - P. 228-233.
Camy-Peyret C., Flaud J.M., N'Gom A., Johns J.W.C. //j. Mol. Phys. - 1988. - V. 65. - No. 3. - P. 649-657.
Camy-Peyret C., Flaud J.M., Lechuga-Fossat L., Johns J.W.C. //j. Mol. Spectrosc. - 1985. - V. 109. - No. 2. - P. 300-333.
Quack M., Merkt F. Handbook of High-Resolution Spectroscopy. - Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
Ulenikov O.N., Bekhtereva E.S., Gromova O.V., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2020. - V. 255. - P. 107236.
Ulenikov O.N., Bekhtereva E.S., Gromova O.V., et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2019. - V. 21. - No. 16. - P. 8464-8469.
Синицын Л.Н. Методы спектроскопии высокого разрешения. - Томск: Томский государственный университет, 2006.
Tran H., Ngo N.H., Hartmann J.-M. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2013. - V. 129. - P. 199-203.
Tennyson J., Bernath P.F., Campargue A., et al. // Pure Appl. Chem. - 2014. - V. 86. - P. 1931-1943.
Flaud J.M., Camy-Peyret C. //j. Mol. Spectrosc. - 1975. - V. 55. - P. 278-310.
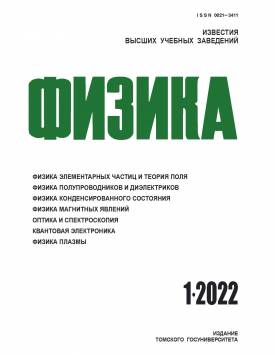
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью