Анализ радиальных сечений потенциальной энергии взаимодействующего комплекса O3-O2
Представлены результаты предварительных расчетов энергии межмолекулярного взаимодействия комплекса O3-O2, изучение которого важно для моделирования реакции формирования молекулы озона в стратосферном слое атмосферы Земли. Расчеты проведены из первых принципов ( ab initio ) квантовой теории с использованием явно коррелированного и неограниченного по спину метода связанных кластеров [UCCSD(T)-F12a] в комбинации с корреляционно-согласованным базисным набором [aug-cc-pVTZ] для описания молекулярных орбиталей. Полученные радиальные зависимости для выбранных угловых ориентаций обсуждаются в сравнении с комплексом O3-N2.
Analysis of radial cross sections of the potential energy of the interacting O3-O2 complex.pdf Введение Известно, что при низких давлениях, характерных для верхней атмосферы, формирование стабильной молекулы озона (O3) - результат двух последовательных столкновительных процессов при участии третьего тела (M). На первом этапе столкновение атомарного (O) и молекулярного кислорода (O2) приводит к образованию метастабильной молекулы озона (О3*), которая на втором этапе стабилизируется переходом на долгоживущие связанные состояния О3. Неупругие столкновения с М, в роли которого в условиях стратосферы могут быть молекулы N2 и O2, необходимы для выполнения законов сохранения момента импульса и энергии в данных двух реакциях, являющихся частью цикла Чепмена [1]. Точность моделирования реакции формирования О3 во многом зависит от качества входных данных - поверхностей потенциальной энергии (ППЭ) молекул и взаимодействующих ван-дер-ваальсовских комплексов. Молекула О3 имеет сложную электронную структуру. В ранних ab initio работах предполагалось, что низкорасположенные возбужденные электронные состояния, пересекаясь в направлении основного канала диссоциации - , образуют небольшой барьер, известный как «рифовая структура» [2, 3]. Форма и размеры барьера влияют на предсказание спектров поглощения О3 и имеют значение при расчете константы скорости реакции изотопического обмена. С данной реакцией может быть связано преобладание концентраций более тяжелых изотопологов озона (содержащих в своем составе атомы кислорода 18О) в естественных и лабораторных условиях [4, 5]. Более точные ab initio расчеты [6, 7] показали, что «рифовая структура» исчезает с расширением пространства орбиталей, заменяясь пологой формой ППЭ на пути наименьшей энергии, что было подтверждено анализами экспериментальных лазерных спектров в районе диссоционного предела. ППЭ О3, имеющие такую форму и разработанные на основе высокоуровневых расчетов из первых принципов (ab initio) квантовой теории [6, 7], предсказывают отрицательную температурную зависимость скорости реакции изотопического обмена [8-11], что согласуется с экспериментальными данными [12-14]. Изучение спектров О3 в окрестности диссоциации (≈ 8560 см-1) осложняется перекрыванием холодных полос поглощения основного электронного состояния и горячих синглет-триплетных переходов. Времена жизни триплетных состояний могут отличаться на порядок в зависимости от вращательных квантовых чисел, что следует из анализа ширины спектральных линий [15-17]. Как следует из [18], спин-орбитальное взаимодействие приводит к уменьшению времени жизни триплетных состояний. Между вращательной структурой триплетных состояний и уровнями основного электронного состояния, расположенными выше порога диссоциации, возникают резонансные взаимодействия. Такие высоковозбужденные уровни являются метастабильными и время их жизни во многом зависит от формы ППЭ [19-21] и характера волновых функций, делокализация которых по мере возбуждения растет, так как слабосвязанный атом кислорода может «циркулировать» между тремя эквивалентными потенциальными ямами О3 [22, 23]. Моделирование столкновительной динамики с участием О3 проводилось ранее с использованием как статистических [24, 25], так и классических и квантовых моделей [26-37 и ссылки в них]. Для построения потенциала межмолекулярного взаимодействия обычно применяется атом аргона (Ar), что сокращает число степеней свободы итогового потенциала. В данной работе проведены предварительные расчеты энергии взаимодействия комплекса О3-О2. Комплекс О3-О2, в отличие от недавно рассмотренного О3-N2 [38], является триплетом в равновесном состоянии за счет двух неспаренных электронов от мономера О2. Насколько нам известно, полный ab initio расчет комплекса О3-О2 ранее не проводился. Полноразмерные ППЭ, разработанные ранее для комплексов О3-Ar [39, 40] и О3-N2 [38], демонстрируют разную угловую ориентацию мономеров в минимумах энергии и количество самих минимумов, что обуславливает необходимость отдельного исследования комплекса О3-О2, электронная структура которого наиболее сложная по сравнению с первыми двумя. 1. Расчет энергии взаимодействия Для описания взаимной ориентации мономеров О3 и O2 в составе димера обычно применяют две системы координат: одна фиксирована с центром масс первого мономера (O3). Оси второй системы координат параллельны первой, а начало совпадает с центром масс второго мономера (О2). Радиус-вектор R соединяет центры масс первого и второго мономеров. Первая пара полярных углов (θ1, φ1) задает угловую ориентацию второй системы координат относительно первой, а вторая пара (θ2, φ2) описывает вращение второго мономера относительно его собственного центра масс. Итоговый потенциал взаимодействия, таким образом, зависит от пяти координат - V(R, θ1, φ1, θ2, φ2). Применение полярных углов оказывается удобным при проведении ab initio расчетов энергии взаимодействия. Альтернативный способ описания взаимной ориентации мономеров заключается в использовании системы координат, фиксированной с центром масс димера. Оба способа взаимосвязаны между собой посредством матриц вращения Эйлера или прямых соотношений между угловыми функциями разложения потенциала взаимодействия [41]. В данной работе при расчете энергии взаимодействия комплекса O3-O2 внутренние координаты мономеров были зафиксированы в своих равновесных конфигурациях: 2.4095a0, (O1O2O3) = 116.78° [6] - для O3 и = 2.28a0 - для О2 [42]. Мономер О3 был так ориентирован в плоскости x1z1, что атомы О1 и О3 имели положительную проекцию на ось z1, а центральный атом О2 - отрицательную (см. рис. 1 в [38]). В настоящий момент явно коррелированный метод связанных кластеров, включающий в себя детерминанты первого и второго порядков возбуждения, а также вклады от детерминантов третьего порядка через теорию возмущения [CCSD(T)-F12a], является наиболее популярным в литературе при расчете энергии взаимодействия [38, 43, 44 и ссылки в них]. Методы связанных кластеров (CС), в отличие от методов конфигурационного взаимодействия (CI), обладают свойством согласованности размеров (Size Consistent), что позволяет более корректно рассчитывать энергию взаимодействия мономеров в составе комплекса. Так как О2 в основном электронном состоянии ( ) является триплетом, то для расчета энергии взаимодействия применялся метод связанных кластеров, неограниченный по спину (Spin Unrestricted), подходящий для описания открытых электронных состояний - UCCSD(T)-F12a и реализованный в пакете программ по квантово-хими¬ческим методам MOLPRO2019 [45]. Отметим, что использование мультиреференсных методов, в частности MRCI или MRCC, требует больших вычислительных ресурсов и целесообразно, если мономеры находятся в возбужденных состояниях, что выходит за рамки данной работы. В явно коррелированных методах F12x (x = a, b) волновая функция явным образом содержит координату межэлектронного расстояния, что позволяет получать достаточно точные электронные энергии, близкие к значениям полного базисного набора, но без экстраполяции. Ранее было неоднократно показано [38, 43, 44 и ссылки в них], что энергии взаимодействия, рассчитанные методом CCSD(T)-F12a в комбинации с корреляционно-согласованным трехэкспоненциальным базисным набором Даннинга [46] - aug-cc-pVTZ, близки к значениям, полученным «стандартным» методом связанных кластеров CCSD(T) в комбинации с большими по размеру базисными наборами (aug-cc-pVQZ или aug-cc-pV5Z). Последнее делает реальной задачу построения полноразмерной ППЭ комплексов, так как ab initio расчеты с использованием базисного набора aug-cc-pVTZ на порядок быстрее по времени. Расчеты в рамках метода UCCSD(T)-F12a/aug-cc-pVTZ в данной работе проводились с учетом ошибки суперпозиции базисного набора (Basis Set Superposition Error - BSSE) [47]: . (1) Согласно (1), энергии мономеров О3 и О2 рассчитываются с использованием молекулярных орбиталей всего комплекса, что позволяет учесть деформацию орбиталей мономеров вследствие их взаимодействия. 2. Анализ результатов Радиальная зависимость энергии взаимодействия комплекса O3-O2 была рассчитана для нескольких информативных угловых ориентаций мономеров друг относительно друга (рис. 1). В случае рис. 1, а-в мономеры лежат в одной плоскости, а на рис. 1, г - в перпендикулярных. Для сравнения используются сечения, полученные из полноразмерной поверхности потенциальной Рис. 1. Радиальная зависимость энергии взаимодействия комплекса О3-O2 при фиксированных угловых ориентациях (θ1, φ1, θ2, φ2) мономеров: a - (0, 0, 0, 0), б - (90, 0, 0, 0), в - (180, 0, 0, 0) и г - (90, 90, 0, 0). Значения для комплекса О3-N2 получены на основе опубликованной ППЭ [38], построенной на основе метода CCSD(T)-F12a/aug-cc-pVTZ энергии комплекса О3-N2 [38]. При расчетах сканирование по радиальной координате R было выполнено с шагом 0.25а0 в интервале от 5a0 до 9.5a0, а дальнейшее сканирование до Rmax = 30а0 было сделано с шагом 0.5а0 и больше. Из рис. 1 видно, что положение минимумов потенциальной энергии на сечениях оказывается близким для обоих комплексов в пределах 0.75a0. Наиболее сильно отличается положение минимума для угловой ориентации на рис. 1, а, где энергия взаимодействия комплекса О3-O2 оказывается примерно в 4 раза больше по сравнению с О3-N2. Также отметим, что при сближении мономеров во взаимно-перпендикулярных плоскостях на рис. 1, г, минимум потенциальной энергии О3-О2 примерно на 50 см-1 глубже, чем в случае O3-N2. Для случаев, когда угловая ориентация мономеров совпадает с положением глобального и локальных минимумов ППЭ О3-N2, найденных в [38], наблюдается обратная ситуация: энергия взаимодействия О3 и N2 больше, чем O3 и O2 (рис. 2). В частности, в глобальном минимуме ППЭ О3-N2 потенциальная энергия О3-O2 меньше примерно на 128 см-1, что составляет около 37% от глубины глобального минимума (348 см-1). Точная угловая ориентация мономеров О3 и О2 в глобальном минимуме станет известна после разработки полноразмерной ППЭ. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что положения глобальных минимумов в комплексах О3-N2 и O3-О2 будут отличаться. Рис. 2. Радиальная зависимость энергии взаимодействия комплекса О3-O2 при угловых ориентациях (θ1, φ1, θ2, φ2) мономеров, соответствующих первым четырем минимумам ППЭ О3-N2 (см. табл. 1 в [38]): a - глобальный минимум (70.9506, 90.0, 55.2201, 90.0), б - мин. № 2 (51.3038, 90.0, 0.0, 0.0), в - мин. № 3 (68.0416, 90.0, 90.0, 0.0) и г - мин. № 4 (139.0611, 0.0, 101.4770, 0.0) Уменьшение расстояния R между центрами масс мономеров приводит к усилению влияния молекулярных орбиталей мономеров друг на друга. По этой причине энергия отдельно взятого мономера, рассчитанная с учетом базисных функций второго, отличается от энергии, когда мономеры изолированы друг от друга (т.е. когда R→∞). Так как в данной работе энергия взаимодействия рассчитывалась методом связанных кластеров, то ошибка суперпозиции базисного набора (BSSE) может быть оценена в энергиях каждого из двух мономеров. Для этого возьмем энергии мономеров при R = 30a0 в качестве референсных значений, когда влияние от взаимодействия орбиталей пренебрежимо мало: , (2) где X = O3 и O2. Из рис. 3 следует, что потенциальная энергия мономеров с учетом орбиталей всего комплекса больше по сравнению с тем, когда они изолированы. Орбитали от соседнего мономера дают вклад в эффективный базисный набор, что улучшает сходимость расчета энергии. Согласно рис. 3, ошибка суперпозиции базисного набора в минимумах радиальных сечений, представленных на рис. 1, a-г, равна (в см-1): -17, -19, -20 и -24 соответственно, что составляет (в %): 15, 14, 16 и 11 соответственно от глубины самих минимумов. Таким образом, расчет энергии взаимодействия O3-O2 без учета BSSE будет приводить к завышению глубины минимумов в среднем на 14%. Рис. 3. Ошибка суперпозиции базисного набора в энергиях мономеров О3 и O2 при угловых ориентациях (a-г), как на рис. 1, a-г Заключение Проведенные в данной работе предварительные ab initio расчеты энергии взаимодействия комплекса О3-О2 демонстрируют гладкие зависимости от координаты расстояния между центрами масс R при использовании явно коррелированного и неограниченного по спину метода связанных кластеров [UCCSD(T)-F12a]. Для рассмотренных восьми фиксированных угловых ориентаций положение минимумов оказалось схожим в пределах 0.75a0 в сравнении с комплексом О3-N2. Для двух из восьми угловых ориентаций комплекс О3-O2 имел более глубокий минимум, в трех других ориентациях - комплекс О3-N2, а в остальных трех случаях минимумы были примерно одинаковыми. Это указывает на то, что положение глобального минимума и его глубина в комплексах О3-О2 и О3-N2 различны. Рассчитанная ошибка суперпозиции базисного набора составила в среднем 14% от глубины минимума, что может быть использовано в дальнейшем при ab initio изучении комплекса О3-О2 методами конфигурационного взаимодействия.
Ключевые слова
озон,
кислород,
энергия взаимодействия,
ab initioАвторы
| Егоров Олег Викторович | Национальный исследовательский Томский государственный университет; Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН | к.ф.-м.н., науч. сотр. НИ ТГУ, науч. сотр. ИОА СО РАН | egrvoleg@gmail.com |
| Калугина Юлия Николаевна | Национальный исследовательский Томский государственный университет; Институт спектроскопии РАН | к.ф.-м.н., доцент НИ ТГУ, науч. сотр. ИС PАН | yulia.kalugina@gmail.com |
Всего: 2
Ссылки
Chapman S. // Mem. Roy. Meteor. Soc. - 1930. - V. 3(26). - P. 103-125.
Fleurat-Lessard P., Grebenshchikov S., Siebert R., et al. //j. Chem. Phys. - 2003. - V. 118. - P. 610-621.
Holka F., Szalay P.G., Müller T., Tyuterev Vl.G. //j. Phys. Chem. A. - 2010. - V. 114. - P. 9927.
Mauersberger K., Erbacher B., Krankowsky D., et al. // Science. - 1999. - V. 283(5400). - P. 370-372.
Thiemens M.H. // Science. - 1999. - V. 283(5400). - P. 341-345.
Tyuterev V.G., Kochanov R.V., Tashkun S.A., et al. //j. Chem. Phys. - 2013. - V. 139. - P. 134307.
Dawes R., Lolur P., Li A., et al. //j. Chem. Phys. - 2013. - V. 139. - P. 201103.
Sun Z., Yu D., Xie W., et al. //j. Chem. Phys. - 2015. - V. 142. - P. 174312.
Lahankar S.A., Zhang J., Minton T.K., et al. //j. Phys. Chem. A. - 2016. - V. 120(27). - P. 5348-5359.
Honvault P., Guillon G., Kochanov R., Tyuterev V. //j. Chem. Phys. - 2018. - V. 149. - P. 214304.
Guillon G., Honvault P., Kochanov R., Tyuterev Vl. //j. Phys. Chem. Lett. - 2018. - V. 9(8). - P. 1931-1936.
Wiegell M.R., Larsen N.W., Pedersen T., Egsgaard H. // Int. J. Chem. Kinet. - 1997. - V. 29. - P. 745.
Anderson S., Klein F., Kaufman F. //j. Chem. Phys. - 1985. - V. 83 - P. 1648.
Fleurat-Lessard P., Grebenshchikov S.Y., Schinke R., et al. //j. Chem. Phys. - 2003. - V. 119. - P. 4700.
Abel B., Charvát A., Deppe S.F. // Chem. Phys. Let. - 1997. - V. 277(4). - P. 347-355.
Wachsmuth U., Abel B. //j. Geophys. Res. - 2003. - V. 108. - P. 4473.
Vasilchenko S., Mondelain D., Kassi S., Campargue A. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2021. - V. 272. - P. 107678.
Grebenshchikov S.Yu., Qu Z.-W., Zhu H., Schinke R. //j. Chem. Phys. - 2006. - V. 125. - P. 021102.
Mondelain D., Jost R., Kassi S., et al. //j. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 2012. - V. 113. - P. 840-849.
Lapierre D., Alijah A., Kochanov R., et al. // Phys. Rev. A. - 2016. - V. 94(4). - P. 042514.
Yuen C.H., Lapierre D., Gatti F., et al. //j. Phys. Chem. A. - 2019. - V. 123(36). - P. 7733-7743.
Kokoouline V., Lapierre D., Alijah A., Tyuterev Vl. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2020. - V. 22. - P. 15885-15899.
Vasilchenko S., Barbe A., Starikova E., et al. // Phys. Rev. A. - 2020. - V. 102. - P. 052804.
Gao Y.Q., Marcus R.A. //j. Chem. Phys. - 2002. - V. 116. - P. 137.
Gao Y.Q., Marcus R.A. // Science. - 2001. - V. 293. - P. 259-263.
Varandas A.J.C., Pais A.A.C.C., Marques J.M.C., Wang W. // Chem. Phys. Lett. - 1996. - V. 249. - P. 264-271.
Baker T.A., Gellene G.I. //j. Chem. Phys. - 2002. - V. 117. - P. 7603-7613.
Schinke R., Fleurat-Lessard P. //j. Chem. Phys. - 2005. - V. 122. - P. 094317.
Ivanov M.V., Schinke R. // Mol. Phys. - 2010. - V. 108 (3-4). - P. 259-268.
Mirahmadi M., Perez-Rios J., Egorov O., et al. // Phys. Rev. Lett. - 2022. - V. 128. - P. 108501.
Charlo D., Clary D.C. //j. Chem. Phys. - 2004. - V. 120. - P. 2700-2707.
Xie T., Bowman J.M. // Chem. Phys. Lett. - 2005. - V. 412. - P. 131-134.
Grebenshchikov S.Yu., Schinke R. //j. Chem. Phys. - 2009. - V. 131(18). - P. 181103.
Ivanov M.V., Babikov D. //j. Chem. Phys. - 2012. - V. 136(18). - P. 184304.
Teplukhin A., Babikov D. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2016. - V. 18(28). - P. 19194-19206.
Sur S., Ndengué S.A., Quintas-Sánchez E., et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2020. - V. 22 - P. 1869-1880.
Егоров О.В., Третьяков А.К. // Изв. вузов. Физика. - 2021. - Т. 64. - № 7. - С. 162-170.
Kalugina Yu.N., Egorov O., van der Avoird A. //j. Chem. Phys. - 2021. - V. 155. - P. 054308.
Sur S., Quintas-Sánchez E., Ndengué S.A., Dawes R. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2019. - V. 21. - P. 9168-9180.
Егоров О.В., Третьяков А.К. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 4. - С. 69-76.
Van der Avoird A., Wormer P.E.S., Moszynski R. // Chem. Rev. - 1994. - V. 94 - P. 1931.
Bytautas L., Matsunaga N., Ruedenberg K. //j. Chem. Phys. - 2010. - V. 132. - P. 074307.
Kalugina Yu.N., Faure A., van der Avoird A., et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2018. - V. 20. - P. 5469.
Pirlot P., Kalugina Yu.N., Ramachandran R., et al. //j. Chem. Phys. - 2021. - V. 155. - P. 134303.
MOLPRO, version 2019.2, a package of ab initio programs / Werner H.-J., Knowles P.J., Knizia G., et al. - URL: https://www.molpro.net
Dunning T.H. //j. Chem. Phys. - 1989. - V. 90. - P. 1007.
Boys S.F., Bernardi F. // Mol. Phys. - 1970. - V. 19. - P. 553.
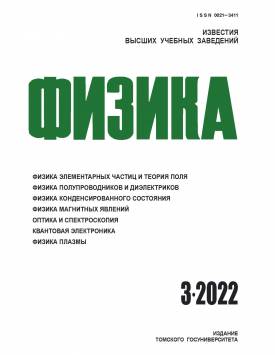
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью