Влияние материала подложки на формирование и свойства микродуговых покрытий с частицами β-трикальцийфосфата
Изучены закономерности формирования покрытий с частицами β-трикальцийфосфата (β-ТКФ) методом микродугового оксидирования, на металлических подложках из Ti и сплавов Ti-40Nb, Mg0.8Ca. Установлено влияние электрофизических свойств переходного оксидного слоя на структурно-морфологические и адгезионные свойства покрытий. Малые значения ширины запрещенной зоны и высокая диэлектрическая проницаемость оксидов TiO2 и Nb2O5 способствуют пропусканию каскадов микродуговых разрядов с небольшой интенсивностью, тогда как оксид MgO с низкой диэлектрической проницаемостью накапливает большое количество электрической энергии, которая затем высвобождается в виде единичных микродуговых разрядов высокой интенсивности. Покрытия на сплаве Mg0.8Ca характеризуются высокими значениями толщины и шероховатости, содержат наибольшее количество кристаллической фазы и имеют хорошие адгезионные свойства. Максимальное значение критической нагрузки, равное 17 Н, было отмечено для покрытий на сплаве Mg0.8Ca, а минимальное значение, равное 7 Н, наблюдалось для покрытий на сплаве Ti-40Nb.
Influence of the substrate material on the formation and properties of micro-arc coatings with particles of ?-tricalcium.pdf Введение Металлические материалы широко используются в клинической практике для лечения травм, переломов, замены костных дефектов. Наиболее распространенными для создания медицинских имплантатов являются биоинертные металлы, а именно три типа сплавов: нержавеющие стали, сплавы титана и кобальт-хром-молибденовые сплавы [1-5]. Кроме того, в последнее время разрабатываются биоматериалы нового поколения, биоразлагаемые металлы, такие как магний, железо, цинк и их сплавы [6-9]. Однако применение этих материалов несколько ограничено из-за недостаточных клинических исследований. Титановые сплавы обладают хорошими механическими свойствами, а также отличной биосовместимостью и коррозионной стойкостью. Сплавы титана, используемые для замещения твердых тканей, должны иметь низкий модуль упругости, как у кортикальной кости (10-30 ГПа) [1], чтобы избежать эффекта «экранирования напряжения», вызванного несоответствием модулей упругости имплантата и костной ткани. Следуя этой стратегии, для ортопедических применений были разработаны титановые β-сплавы, обладающие относительно низким модулем упругости [4, 5]. Сплавы системы Ti-Nb являются перспективными материалами для замены широко используемого сплава Ti-6Al-4V из-за их меньшей токсичности и низкого модуля упругости. На графике зависимости модуля Юнга от концентрации Nb для Ti-Nb-сплавов, закаленных из β-области, наблюдаются два минимума для 15 и 40 мас.% Nb. При этих концентрациях Nb доминирует мартенситная фаза для сплава Ti-15Nb и β-фаза в случае сплава Ti-40Nb [3]. Биоразлагаемые сплавы на основе магния (Mg) активно используются в биомедицинских приложениях из-за их способности растворяться, не вызывая воспаления в окружающих тканях, низкой плотности (1.7 г/см3), близкой к плотности человеческой кости, и низкого модуля упругости (около 45 ГПа) [6, 7]. Однако серьезным недостатком магниевых сплавов является их высокая скорость биодеградации, поскольку Mg имеет наиболее отрицательный электрохимический потенциал по сравнению со всеми конструкционными металлами [8]. Решением данной проблемы является модификация поверхности магниевых сплавов путем создания защитных коррозионностойких покрытий. Технология обработки поверхности металлов вентильной группы методом микродугового оксидирования (МДО), или плазменно-электролитического оксидирования, широко используется в последние годы в различных областях техники и медицины, поскольку позволяет создавать покрытия с широким спектром свойств на изделиях сложной формы [10-12]. Цель представленной работы - сравнительное исследование закономерностей формирования и свойств микродуговых биопокрытий с частицами β-трикальцийфосфата (β-ТКФ) на поверхности разных сплавов: титанового, титан-ниобиевого и магниевого. Материалы и методы Экспериментальные образцы были изготовлены в виде пластин размером 10×10×1 мм из титанового сплава ВТ1-0 (Ti), титан-ниобиевого сплава Ti - 40 мас.% Nb (Ti-40Nb) и магниевого сплава Mg - 0.8 мас.% Ca (Mg0.8Ca) (Helmholtz Zentrum, Geesthacht, Германия). Подготовка образцов к нанесению покрытия включала в себя механическую обработку, обезжиривание поверхности ПАВ раствором, очистку спиртом в ультразвуковой мойке в течение 5 мин при температуре 50 °С, промывку в дистиллированной воде в течение 10 мин и сушку в сушильном шкафу в течение 30 мин при температуре 150 °С. Нанесение кальцийфосфатных покрытий на образцы проводили на установке «MicroArc-3.0» с импульсным источником питания (ИФПМ СО РАН, г. Томск) [11] в анодном потенциостатическом режиме. Для формирования покрытий использовали электролит следующего состава, г/л: Na2HPO4 10-30, NaOH 3-5, NaF 1.5-3.0, β-TКФ (β-Ca3(PO4)2) 40-60. β-ТКФ вводили в электролит в виде порошка с размерами частиц 1.5-3.0 мкм. Процесс МДО проводили при следующих параметрах: длительность импульсов - 100 мкс, частота следования импульсов - 50 Гц, величина напряжения - 350-500 В, длительность процесса - 5 мин. Морфологию поверхности покрытий исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на электронном микроскопе Axia ChemiSEM Thermo Scientific (США). Шероховатость поверхности исследовали на трехмерном измерительном лазерном профилометре OLYMPUS OLS5000 (Япония) по параметру Ra, который определялся как средний результат шероховатости в пределах нескольких длин участков измерений (ГОСТ 2789-73). Размеры пор в покрытиях определяли методом «секущей» по РЭМ-изображениям с использованием программного пакета Adobe Photoshop CS3. Величину кажущейся плотности рассчитывали как отношение массы покрытия (разность масс образца до нанесения покрытия и после) к его объему, включая поры. Структуру и фазовый состав покрытий исследовали методом рентгенофазового анализа. Съемку проводили в диапазоне углов 2θ = 5-90° с шагом сканирования 0.02° с излучением CoKα (λ = 0.17902 нм). База данных Объединенного комитета по стандартам порошковой дифракции (JCPDS) применялась для идентификации фаз и интерпретации полученных данных. Дифрактограммы использовали для расчета объемного соотношения кристаллической и аморфной фаз методом Ритвельда. Оценка адгезии покрытия к подложке проводилась методом царапин на макроскретч-тестере Revetest RST («CSM Instruments», США). Радиус индентора и максимальная нагрузка при вдавливании составляли 200 мкм и 20 Н соответственно, а длина царапины - 5 мм. Для получения статистически значимых данных каждое измерение для всех образцов повторялось не менее трех раз. Результаты и их обсуждение Формирование покрытий методом МДО на поверхности металлов вентильной группы связано с реализацией микродуговых разрядов, инициируемых потоком электронов от электролита к подложке, через промежуточный оксидный слой. Кроме электрохимических процессов здесь играют важную роль диффузионные, химические, плазмохимические и электрофизические процессы, происходящие с участием вещества подложки [12-14]. В настоящей работе в качестве материалов для подложки использовали биоинертные сплавы Ti и Ti-40Nb, а также биорезорбируемый магниевый сплав Mg0.8Ca. Электрофизические и теплофизические свойства металлов, входящих в состав сплавов, а также их оксидов представлены в таблице. Из исследуемых металлов Nb имеет наиболее высокую температуру плавления, тогда как для Mg температура плавления почти в 4 раза ниже. Кроме того, Mg обладает наиболее высокой теплопроводностью и наиболее низким электросопротивлением, чем все остальные металлы. На процесс формирования покрытия методом МДО влияют не столько свойства металлической подложки, сколько характеристики переходного оксидного слоя, образующегося на стадии анодирования на поверхности металла [15, 16]. Оксиды большинства металлов вентильной группы имеют большие значения ширины запрещенной зоны, что является важным моментом при формировании покрытий методом МДО [12]. Существует корреляция между высоким значением ширины запрещенной зоны и низкой подвижностью электронов. Наблюдения авторов [12-14] позволили выделить две группы металлов в зависимости от величины запрещенной зоны, характерной для их оксидов. Поток электронов проходит через оксидные слои TiO2 и Nb2O5 «легче», чем через слои MgO и CaO, поскольку оксиды магния и кальция имеют величину запрещенной зоны значительно больше, чем оксиды титана и ниобия (таблица). Электропроводность этих оксидов связывают с переменной стехиометрией и высоким уровнем дефектов в их структуре, таких как двухзарядные анионные вакансии и междоузельные атомы [17]. Электрофизические свойства металлов и их оксидов [15, 16, 18, 19] Характеристики металлов Ti Nb Mg Ca Плотность, г/см3 4.50 8.57 1.74 1.55 Температура плавления, °C 1668 2500 651 839 Теплопроводность при 300 К, Вт/(м∙К) 15.5 54.5 125.0 201.0 Электросопротивление, мкОм∙м 0.550 0.152 0.044 0.046 Работа выхода электронов, эВ 4.14-4.50 3.99 3.67 2.76-3.2 Характеристики оксидов TiO2 Nb2O5 MgO CaO Ширина запрещенной зоны, эВ 3.0 1.6 8.0 7.1 Диэлектрическая проницаемость 30-100 11-40 8.0 11.95 Ширина запрещенной зоны дает также представление об электронной проводимости и, следовательно, характеризует электрическую емкость кристаллической решетки по накоплению заряда [12]. Оксиды титана и ниобия имеют высокую диэлектрическую проницаемость и пропускают каскады микродуговых разрядов малой интенсивности. Оксид магния характеризуется низким значением диэлектрической проницаемости, слой из оксида магния накапливает большее количество электрической энергии, которая высвобождается в виде единичных микродуговых разрядов высокой интенсивности. В настоящее время известно [13], что микроразряды происходят в длительных последовательностях («каскадах») в определенных областях и имеют время жизни порядка от нескольких десятков до нескольких сотен микросекунд с «инкубационными» периодами между ними от нескольких сотен микросекунд до миллисекунд [14]. Исследования ряда авторов показали, что область низкого электрического сопротивления возникает в местах расположения глубоких пор, стимулирующих каскадные микроразряды. Это происходит до того момента, пока достаточное количество металла не преобразуется в оксид и не возникнет достаточно толстый диэлектрический слой [12, 13]. Анализ микроизображений поверхности покрытий (рис. 1), нанесенных на металлические подложки из Ti, Ti-40Nb и Mg0.8Ca, и их изломов (рис. 2) показывает, что покрытия имеют пористую структуру и содержат частицы β-ТКФ, равномерно распределенные по всей поверхности. В исследованиях, проведенных ранее, было установлено, что формирование подобной морфологии обусловлено особенностями синтеза покрытий в условиях анодного потенциостатического режима [11]. В начальный период нанесения покрытия плотность тока является максимальной и формируется аморфно-кристаллический слой. С ростом толщины диэлектрического слоя плотность тока снижается и частицы β-ТКФ осаждаются на поверхности покрытий. На микрофотографиях покрытий на Ti и Ti-40Nb кроме крупных пор диаметром 5-8 мкм присутствуют группы мелких пор диаметром 0.5-2.0 мкм (отмечены черными стрелками) (рис. 1, б, г). Скопления мелких пор можно объяснить формированием «каскадных» микродуговых разрядов малой интенсивности, что вызвано малой величиной ширины запрещенной зоны оксидов TiO2 и Nb2O5, а также их высокой диэлектрической проницаемостью (см. таблицу). На поверхности покрытий на сплаве Mg0.8Ca присутствуют только крупные поры диаметром до 10 мкм. Для оксида магния характерно высокое значение ширины запрещенной зоны (8 эВ) и низкая диэлектрическая проницаемость, что затрудняет движение электронов через оксидный слой и приводит к накапливанию заряда, который в результате инициирует интенсивные микродуговые разряды [12]. Рис. 1. РЭМ-изображения покрытий с частицами β-ТКФ, нанесенных при напряжениях 400 В (а, в, д) и 500 В (б, г, е), на подложки из Ti (а, б), Ti-40Nb (в, г) и Mg0.8Ca (д, е) Рис. 2. РЭМ-изображения изломов покрытий, нанесенных при напряжении 400 В на подложки из Ti (а), Ti-40Nb (б) и Mg0.8Ca (в) Зависимости изменения толщины и шероховатости покрытий от напряжения процесса МДО, представленные на рис. 3, показывают, что покрытия на магниевом сплаве имеют более высокие значения толщины и шероховатости во всем диапазоне напряжений (от 350 до 500 В). В результате исследований 3D-изображений, полученных на оптическом профилометре (рис. 4), а также анализа оптических изображений образцов покрытий установлено, что покрытия на Ti и Ti-40Nb, сформированные при напряжении 400 В, имеют гладкую поверхность, а при повышении напряжения до 500 В их поверхность становится более рельефной. Покрытия на сплаве Mg0.8Ca, сформированные как при 400 В, так и при 500 В, имеют на поверхности «бугорки», за счет которых увеличивается их толщина и шероховатость. Рис. 3. Графики изменения толщины (а) и шероховатости (б) покрытий в зависимости от напряжения Рис. 4. 3D-изображения поверхности покрытий, нанесенных при напряжениях 400 В (а-в) и 500 В (г-е); на вкладках приведены оптические изображения покрытий На рис. 5 представлены зависимости изменения плотности тока и толщины покрытий (а), а также зависимости изменения кажущейся плотности покрытий (б) от длительности процесса их нанесения. Начальная плотность тока при формировании покрытий на Mg0.8Ca составляла 0.46 А/см2, тогда как при нанесении покрытий на подложки из Ti и Ti-40Nb начальная плотность тока была значительно ниже и составляла 0.27 и 0.38 А/см2 соответственно. Скорость роста покрытий на сплаве Mg0.8Ca была выше, чем для покрытий на других металлических подложках, при этом их кажущаяся плотность снижалась более интенсивно. На рис. 5, в приведены оптические изображения образцов покрытий на сплаве Mg0.8Ca, нанесенных при разной длительности процесса МДО. Очевидно, что «бугорки» образуются на поверхности покрытий при 3, 4 и 5 мин нанесения. Это совпадает с периодом времени, в течение которого происходит снижение кажущейся плотности покрытий. Рис. 5. Графики изменения плотности тока и толщины покрытий (а), графики изменения кажущейся плотности покрытий (б) в зависимости от времени нанесения. Оптические изображения покрытий, нанесенных при напряжении 400 В, в течение разного времени (в) В результате структурно-фазовых исследований, проведенных методом РФА, установлено, что покрытия имеют аморфно-кристаллическую структуру. На рентгенограммах покрытий кроме рефлексов от кристаллических фаз присутствует область диффузного рассеяния (гало) в диапазоне углов 2θ = 10-45 (рис. 6, а, б), что свидетельствует о наличии аморфной фазы в составе покрытий. В процессе микродугового оксидирования вследствие быстрого разогрева вещества электролита подложки и переходного оксидного слоя в канале микродугового разряда происходит их интенсивное плавление, а при быстром охлаждении часть вещества затвердевает в виде аморфной фазы. Идентификация кристаллических фаз показала, что фазовый состав покрытий, сформированных на разных сплавах, подобен (рис. 6). Основными кристаллическими фазами являются α-ТКФ (ICDD # 09-0348), β-ТКФ (ICDD # 09-0169) и гидроксиапатит (ICDD #09-0432). Кроме того, в покрытиях присутствуют оксиды магния MgO (ICDD #45-0946), титана TiO2 (ICDD #21-1272) и ниобия Nb2O5 (ICDD #22-1196). С повышением напряжения процесса МДО до 500 В структура покрытий становится более аморфной (рис. 6, б), на рентгенограммах наблюдается снижение интенсивности основных дифракционных максимумов. В составе кристаллических фаз увеличивается доля оксидов, что подтверждает их значимую роль в процессе формирования покрытий и их свойств. При сравнительном анализе диаграмм соотношения аморфной и кристаллической фаз в покрытиях (рис. 6, в, г) выявлено, что в покрытиях на сплаве Mg0.8Ca содержится наибольшее количество кристаллической фазы, а в покрытиях на сплаве Ti-40Nb - наибольшее количество аморфной фазы. С увеличением напряжения процесса МДО от 400 до 500 В доля аморфной фазы во всех покрытиях увеличивается, но в покрытиях на сплаве Mg0.8Ca кристаллическая фаза остается преобладающей (рис. 6, г). Исследования адгезионных свойств покрытий на разных металлических подложках, проведенные методом скретч-теста, показали, что наиболее высокой адгезионной прочностью обладают покрытия на Mg0.8Ca, в то время как покрытия на Ti-40Nb характеризуются самой низкой адгезионной прочностью. На оптических изображениях треков после скретч-теста длина зоны перфорации покрытия до подложки (светлая зона) [11] в покрытиях на Ti и сплаве Ti-40Nb в несколько раз (в 4-5 раз) больше, чем в покрытиях на сплаве Mg0.8Ca (рис. 7), при одинаковой длине царапин равной 5 мм. Кроме того, имеет место отслаивание покрытий на подложках из сплава Ti-40Nb, что связано с неравномерностью их рельефа (рис. 4, д). Рис. 6. Рентгенограммы покрытий, нанесенных при напряжениях 400 В (а) и 500 В (б); диаграммы соотношения аморфной и кристаллической фаз в покрытиях, нанесенных при напряжениях 400 В (в) и 500 В (г); MeO - содержание оксидов в кристаллической фазе, об.% Рис. 7. Оптические изображения треков после скретч-теста покрытий, нанесенных при напряжении процесса 500 В На графиках изменения критической нагрузки в зависимости от напряжения формирования покрытий в процессе МДО, представленных на рис. 8, с повышением напряжения от 350 до 500 В адгезионная прочность покрытий на Ti и сплаве Ti-40Nb уменьшается, в то время как для покрытий на сплаве Mg0.8Ca наблюдается рост адгезионной прочности до максимального значения критической нагрузки, равного (17.3±0.8) Н. Сравнение с литературными данными показывает, что этот результат превышает известные значения адгезионной прочности, полученные методом скретч-теста для плазменно-электролитических покрытий [20]. Высокая адгезионная прочность покрытий на магниевой подложке обусловлена более высоким содержанием в них кристаллической фазы. Рис. 8. Графики изменения критической нагрузки от напряжения процесса МДО Заключение Методом МДО на поверхности сплавов Ti, Ti-40Nb и Mg0.8Ca, имеющих разные электрофизические характеристики, сформированы пористые кальцийфосфатные покрытия, содержащие частицы β-ТКФ. В покрытиях на Ti и Ti-40Nb, наряду с крупными порами с размерами 5-8 мкм, присутствовали скопления мелких пор с размерами 0.5-2.0 мкм, образованные в результате каскадов микродуговых разрядов малой интенсивности. В покрытиях на сплаве Mg0.8Ca наблюдались только крупные поры, диаметром до 10 мкм. Покрытия на магниевом сплаве характеризовались наибольшими значениями толщины и шероховатости. Рельеф данных покрытий отличался наличием «бугорков», которые вносили свой вклад в увеличение толщины и шероховатости покрытий. Структурно-морфологические различия между покрытиями на Ti, Ti-40Nb и на Mg0.8Ca обоснованы разными электрофизическими свойствами металлической подложки и переходного оксидного слоя. Из-за большой ширины запрещенной зоны для оксида магния и его низкой диэлектрической проницаемости в оксидном слое происходит накопление электрического заряда, который затем реализуется в виде интенсивных микродуговых разрядов, что подтверждается более высоким значением начальной плотности тока процесса МДО. Покрытия на сплаве Mg0.8Ca также отличались высоким содержанием кристаллических фаз, тогда как наиболее высокое содержание аморфной фазы было выявлено в покрытиях на сплаве Ti-40Nb. Различие в фазовом составе покрытий отразилось на их адгезионных свойствах. Наиболее высокое значение критической нагрузки в скретч-тесте, равное 17 Н, было отмечено для покрытий на сплаве Mg0.8Ca, а минимальное значение критической нагрузки, равное 7 Н, наблюдалось для покрытий на сплаве Ti-40Nb.
Ключевые слова
кальцийфосфатное покрытие,
оксидный слой,
частицы β-трикальцийфосфата,
ширина запрещенной зоны,
диэлектрическая проницаемость,
адгезионная прочностьАвторы
| Седельникова Мария Борисовна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | д.т.н., доцент, ст. науч. сотр. лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН | smasha5@yandex.ru |
| Угодчикова Анна Владимировна | Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований | мл. науч. сотр. лаборатории плазменного синтеза материалов ТРИНИТИ | ugodch99@gmail.com |
| Уваркин Павел Викторович | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | ведущ. технолог лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН | uvarkin@ispms.tsc.ru |
| Шаркеев Юрий Петрович | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН; Национальный исследовательский Томский политехнический университет | д.ф.-м.н., профессор, гл. науч. сотр. и зав. лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов НИ ТПУ | sharkeev@ispms.ru |
| Химич Маргарита Андреевна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | к.т.н., мл. науч. сотр. лаборатории нанобиоинженерии ИФПМ СО РАН | khimich@ispms.ru |
| Толкачева Татьяна Викторовна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | ведущ. технолог лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ СО РАН | tolkacheva@ispms.ru |
| Чебодаева Валентина Вадимовна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН; Сибирский государственный медицинский университет | мл. науч. сотр. лаборатории нанобиоинженерии ИФПМ СО РАН, науч. сотр. лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ | vtina5@mail.ru |
| Хлусов Игорь Альбертович | Сибирский государственный медицинский университет | д.м.н., профессор, профессор кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ | khlusov63@mail.ru |
| Шмидт Юрген | Innovent Technology Development | руководитель исследовательской группы Department Surface Engineering | js@innovent-jena.de |
Всего: 9
Ссылки
Su Y., Cockerill I., Zheng Y., et al. // Bioactive Mater. - 2019. - V. 4. - P. 196-206.
Kazimierczak P., Przekora A. // Coatings. - 2020. - V. 10. - P. 971.
Zhuravleva K., Bönisch M., Scudino S., et al. // Powder Tech. - 2014. - V. 253. - P. 166-171.
Zhuravleva K., Müller R., Schultz L., et al. // Mater. Design. - 2014. - V. 64. - P. 1-8.
Kovalevskaya Zh.G., Khimich M.A., Belyakov A.V., Shulepov I.A. // Key Eng. Mater. - 2016. - V. 685. - P. 525-529.
Tsakiris V., Tardei C., Clicinschi F.M. //j. Magnesium and Alloys. - 2021. - V. 9. - P. 1884-1905.
Tong P., Sheng Y., Hou R., et al. // Smart Mater. Med. - 2022. - V. 3. - P. 104-116.
Putra N.E., Mirzaali M.J., Apachitei I., et al. // Acta Biomaterialia. - 2020. - V. 109. - P. 1-20.
Saberi A., Bakhsheshi-Rad H.R., Karamian E., et al. // Физbx. мезомех. - 2021. - Т. 24. - № 1. - С. 62-78.
Liu Y., Rath B., Tingart M., Eschweiler J. //j. Biomed. Mater. Res. - 2020. - V. 108A. - P. 470-484.
Седельникова М.Б., Угодчикова А.В., Уваркин П.В. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2021. - Т. 64. - № 5. - С. 60-67.
Clyne T.W., Troughton S.C. // Int. Mater. Rev. - 2019. - V. 64(3). - P. 127-162.
Nominé A., Troughton S.C., Nominé A.V., et al. // Surf. Coat. Technol. - 2015. - V. 269. - P. 125-130.
Troughton S.C., Nominé A., Dean J., Clyne T.W. // Appl. Surf. Sci. - 2016. - V. 389. - P. 260-269.
Legostaeva E.V., Kulyashova K.S., Komarova E.G., et al. // Mat.-wiss. u. Werkstofftech. - 2013. - V. 44. - P. 188-197.
Robertson J. // Rep. Prog. Phys. - 2006. - V 69. - P. 327-396.
Кофстад П. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов / под ред. Н.Н. Семенова; пер. О.Е. Каширенинова. - М.: Мир, 1975. - 395 c.
Albuquerque1 E.L., Vasconcelos M.S. //j. Phys: Conf. Ser. - 2008. - V. 100. - 042006.
Subramanian M.A., Shannon R.D., Chai B.H.T., et al. // Phys. Chem. Minerals. - 1989. - V. 16. - P. 741-746.
Kyrylenko S., Warchoł F., Oleshko O., et al. // Mat. Sci. Eng. C. - 2021. - V. 119. - 111607.
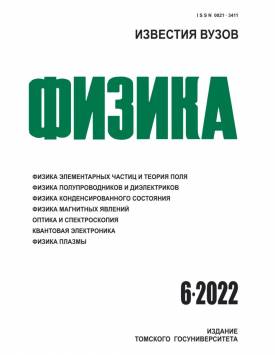
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью