Теоретическая и реальная прочность кристаллов: физические причины расхождения
В рамках существующих теорий зарождение пластического сдвига и зародышевых трещин в совершенных кристаллах возможно лишь при деформирующем напряжении, близком к теоретической прочности. В работе показано, что совершенный кристалл, рассматриваемый как открытая система ядер и электронов, теряет свою устойчивость при величине приложенных напряжений, на порядки меньших теоретической прочности. При этом привлекать представления о наличии в объеме и в поверхностном слое кристалла дефектов различного типа не требуется. Причиной неустойчивости является возбуждение динамических смещений, определяемых неадиабатическими переходами атомов Ландау - Зинера между пересекающимися поверхностями потенциальных энергий в открытых неравновесных системах. Дано качественное объяснение наблюдаемым экспериментально результатам.
Theoretical and real strength of crystals: physical reasons for the difference.pdf Введение В физике прочности и пластичности широко распространено представление о теоретической прочности [1]. Под этим термином понимается величина деформирующего напряжения σth, при котором характерное для кристалла распределение атомов, становится неустойчивым относительно малых смещений [2]. Как известно, при сдвиговой деформации величина σth ≈ 0.1 μ (μ - модуль сдвига). Соответствующая величина деформации εth ≈ 0.1. Разрушение кристалла при одноосном растяжении должно наступать при εth ≈ 1 и σth ≈ E (E - модуль Юнга). Экспериментально наблюдаемые значения σre σre связывается с существующими в кристалле источниками дислокаций. Важная роль имеющихся в кристаллах дефектов в процессах пластической деформации и разрушения кристаллов надежно установлена и сомнению не подлежит. В качестве аргумента в пользу представлений о теоретической прочности часто приводятся данные о повышении величины σre при уменьшении толщины нанопроволок [1]. Такая аргументация вызывает сомнения. Во-первых, само понятие теоретической прочности получено для бесконечной кристаллической решетки с заданными потенциалами межатомного взаимодействия [2]. Во-вторых, процессы пластической деформации и разрушения начинаются со свободной поверхности, либо с внутренних границ раздела. И обобщение критерия потери устойчивости на нанокристаллы требует своего обоснования. Вместе с тем в экспериментах in situ [7] на фольгах толщиной 0.1 мм показано, что зародышевые трещины в виде канавок на первоначально плоской поверхности Ge отсутствуют и образуются при нагрузке σ0 ≈ 100 МПа. Их глубина и ширина достигают тысячи нанометров. После разгрузки канавки исчезают, поверхность вновь становится плоской. При нагрузке (σ - σ0)/σ0 > 1 атомов, ограниченный свободной поверхностью. Размеры кристалла вдоль осей x, y, z равны X0, Y0, Z0 соответственно. Кристалл деформируется со скоростью dε/dt, здесь ε - макроскопическая деформация, t - время. Упругие постоянные предполагаются известными. Предполагается также, что образец является однородным, никаких дефектов в объеме и поверхностном слое нет. Изменение размера и формы кристалла под действием внешней силы, в конечном счете, обусловлено смещениями атомов. Деформируемый кристалл представляет открытую систему ядер и электронов. Из квантовой механики известно (см., например, [8]), что открытая система находится в смешанном состоянии, которое можно рассматривать как некогерентную смесь чистых состояний, каждое из которых входит со своим статистическим весом. Под чистым состоянием понимается состояние изолированной системы. К числу таких состояний относятся, в частности, распределения атомов, характерные для кристалла с дефектами различного типа. Этими распределениями описываются состояния кристалла со смещенными из узлов кристаллической решетки атомами. Другими словами, с ближним порядком, нехарактерным для основного состояния. В частности, кристалл с дислокацией относится к таким состояниям. По-видимому, впервые на это обратил внимание В.Л. Инденбом [9], отметив, что кристалл с дислокацией представляет квантовое состояние системы. Предполагая, что в процессе деформации электроны находятся в основном состоянии, система в i м чистом состоянии характеризуется координатами ядер Ri = {Ri1,…,RiN} в 3N-мерном пространстве и распределением электронной плотности ρ(r) в трехмерном пространстве [10]. В этом случае потенциальная энергия системы ядер и электронов Ei[Ri, ρ(r;Ri)] является универсальным функционалом электронной плотности и, в принципе, может быть вычислена при любом значении Ri. Обозначение «;Ri» означает, что электронная плотность вычисляется при фиксированных значениях Ri. Динамика ядер, рассматриваемых как классические частицы, определяется градиентами поверхности потенциальной энергии (ППЭ) Ei(R), которая представляет 3N мерную гиперповерхность. Присвоим значение i = 0 распределению атомов при ε = 0. Кристалл находится в основном состоянии. Любые малые возмущения δR = R-R0 затухают. Точно так же затухают и малые флуктуации электронной плотности. Потенциальные энергии всех состояний с i ≥ 1 Ei[Ri] > E0. Поверхности Ei(R) и E0 не пересекаются. Разность ∆E = Ei- E0 определяет энергию образования дефекта в кристалле. В открытой системе (при ε > 0) следует рассматривать распределения атомов, определяемые выражением R = ∑i ci Ri. (1) Здесь ci - статистический вес состояния с номером i. Потенциальная энергия кристалла в смешанном состоянии представляет совокупность ППЭ. В точках конических пересечений вырождение снимается, и адиабатические поверхности ППЭ в окрестности этих точек разделены узкими энергетическими щелями [11]. Динамика ядер в открытой системе определяется как градиентами ППЭ, так и неадиабатическими переходами между пересекающимися ППЭ. Адиабатическое приближение и теоретическая прочность кристалла В рамках существующих представлений и подходов неявно предполагается выполнимость адиабатического приближения [12] и рассматривается только одна ППЭ. Траектории атомов всегда находятся на этой ППЭ при всех значениях ε. Если ядра рассматривать как классические частицы, тогда силы, на них действующие, определяются градиентами данной ППЭ. Структурная релаксация неравновесной системы определяется только колебательными степенями свободы. Фактически, метод молекулярной динамики основан на адиабатическом приближении. Если в качестве исходной ППЭ выбран совершенный кристалл, тогда рассматривается только ППЭ E0(R). ППЭ с i > 0 не рассматриваются. Деформация кристалла определяется смещениями атомов из узлов кристаллической решетки. Зависимость напряжения от смещений может быть как линейной (при малых деформациях), так и нелинейной, но деформация является обратимой. Атомы смещаются в положения, характерные для ядра дислокации, лишь при εth ≈ 0.1, когда деформируемый кристалл становится неустойчивым относительно малых смещений атомов при тепловых флуктуациях. Непосредственное решение динамических уравнений с параметрами межатомного взаимодействия, характерными для ППЭ E0, подтверждает этот результат [13]. Таким образом, понятие теоретической прочности справедливо в адиабатическом приближении. Заметим, что при таком подходе распределение атомов в ядре дислокации будет отличаться от распределения, полученного в рамках метода функционала плотности [14]. Точно так же, если в качестве исходной выбрать ППЭ с одной дислокацией, тогда может быть изучена динамика движения дислокации. Причина завышенных значений напряжений, выше которых деформация становится необратимой, состоит в следующем. Для образования, например, петли дислокации длиной порядка ста межатомных расстояний, необходимо сместить в положения, характерные для ядра дислокации, несколько сотен атомов. Но вероятность такого возмущения при случайных тепловых колебаниях ничтожно мала. Такое возмущение может быть создано только искусственно, что и делается при моделировании процесса разрушения. Лишь вблизи порогового значения напряжения σth амплитуда возмущения ставится достаточно малой для того, чтобы система стала неустойчивой. Неадиабатические переходы атомов и реальная прочность кристалла Применимость адиабатического приближения, как известно, ограничена изолированными системами, адиабатические поверхности потенциальных энергий которых разделены широкими энергетическими щелями. В кристаллах, особенно в металлических, энергетические уровни расположены близко друг к другу, ППЭ при деформации кристалла могут пересекаться. Динамика атомов в этих условиях является неадиабатической [11] и определяется электронными степенями свободы, причем в эксперименте проявляются все степени свободы. Обозначим через R1 распределение атомов в кристалле с каким-либо дефектом, например, с дислокацией. Пусть в исходном состоянии кристалла дефекта нет. Тогда при ε > 0 потенциальная энергия E1[R1] > E0[R0]. При увеличении деформации образца возможны два пути смещения атомов. Если E1[R1] > E0[R0], то ППЭ E1(R) и E0(R) не пересекаются, траектории атомов остаются на ППЭ E0(R). Кристалл деформируется упруго. Другой путь смещений атомов реализуется при деформации ε > εc, когда выполняется неравенство E1[R1] < E0[R0], ППЭ E1(R) и E0(R) пересекаются. В области пересечения, размерность которой равна N-2 [11], возможны неадиабатические переходы атомов Ландау - Зинера [15, 16] с ППЭ E0(R) на ППЭ E1(R). При неадиабатических переходах атомы смещаются на величину ud = R1 - R0. Следуя [17], назовем эти смещения динамическими, имея в виду, что их возбуждение определяется действием внешней силы. Число динамически смещенных атомов nd = P(N-2). Здесь P - вероятность неадиабатического перехода, не зависящая от температуры. Величина P была вычислена в [15, 16] для двух пересекающихся уровней с энергиями E1(x), E2(x) . Она имеет вид P = exp{-2πV02/[ћv(F2-F1]}, (2) где 2V0 - ширина энергетической щели; v - скорость атомов; F1 = -dE1/dx; F2 = -dE2/dx; знаки F1, F2 положительны. Спустя почти 60 лет вероятность была найдена для двух пересекающихся уровней при любых знаках F1, F2 [18, 19]. В работе [20] найдена вероятность перехода для N атомной системы. Соответствующие выражения можно найти в указанных работах. Основные особенности динамических смещений можно видеть из формулы (2). Во-первых, отсутствие температуры означает, что динамические смещения по своей природе являются атермическими. Смещения атомов происходят без преодоления потенциального барьера, разделяющего два состояния системы. Во-вторых, скорость атомов, определяемая скоростью деформации кристалла, может быть малой, но не равной нулю. В стационарном состоянии неадиабатические переходы не происходят. Не происходят они и при больших значениях V0, т.е. в адиабатическом приближении. При учете неадиабатических переходов динамика атомов становится неадиабатической. Различные аспекты неадиабатической динамики атомов широко освещены в литературе (см., например, [21]) и ниже не обсуждаются. Решение уравнений неадиабатической молекулярной динамики возможно только численными методами, а для большого числа атомов такие расчеты технически невозможны. Тем не менее три качественных вывода об особенностях структурной релаксации деформируемого кристалла могут быть сделаны и без такого решения. Прежде всего, динамические смещения возбуждаются при всех температурах и выступают в качестве начального возмущения для перехода от упругой деформации к неупругой при реальном уровне напряжений σre. Это объясняет возможность дислокационного скольжения в кристаллах при низких температурах. Далее изменение межатомных расстояний при возбуждении динамических смещений nd атомов приводит к упругим смещениям оставшихся n¬-nd атомов. Как следствие, ядро дислокации (да и любой другой дефект) всегда окружено полем упруго смещенных атомов. Кристалл с возбужденными динамическими смещениями представляет бистабильную среду. Структурная релаксация такой среды рассмотрена в работах [22-25]. Из них следует, что бистабильная среда в зависимости от величины напряжения (и числа nd) может находиться в неустойчивом, метастабильном и стабильном состоянии. Поэтому при (σ -σre)/σre
Ключевые слова
кристалл,
деформация,
теоретическая прочность,
дефекты,
адиабатическое приближение,
неадиабатическая динамика атомов,
динамическая неустойчивость,
структурная релаксацияАвторы
| Хон Юрий Андреевич | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | д.ф.-м.н., зав. лабораторией ИФПМ СО РАН | khon@ispms.ru |
Всего: 1
Ссылки
Коротаев А.Д. Элементы теории дислокаций. - Томск: Изд-во НТЛ, 2020. - 212 с.
Борн М., Кунь Х. Динамическая теория кристаллических решеток. - М.: ИЛ, 1958. - 488 с.
Griffith A.A. // Philos. Trans. R. Soc. London. - 1921. - V. 221. - P. 163. -198.
Соколов С.А., Тулин Д.Е. // Физическая мезомеханика. - 2021. - V. 24 (2). - C. 34-40.
Кожевникова М.А. // Физическая мезомеханика. - 2021. - V. 24 (2). - C. 93-106.
Jin Y., Wang Y., Khachaturyan A. // Appl. Phys. Lett. - 2001. - V. 79. - P. 3071-3073.
Zhurkov S.N., Korsukov V.E., Luk'yanenko A.S., et al. // JETP Letters. - 1990. -V. 51. - P. 370-372.
Давыдов А.М. Квантовая механика. - М.: Наука, 1973. - 703 с.
Инденбом В.Л. // Физика кристаллов с дефектами. - Тбилиси, 1966. - Т. 1. - С. 5-106.
Hohenberg P., Kohn W. // Phys.Rev. - 1964. - V.136. - P. B864-B871.
Tully J.C. //j. Chem. Phys. - 2012. - V. 137. - P. 22A301.
Von Born M., Oppenheimer R. // Ann. Phys. - 1927. - V. 84. - No. 20. - P. 457-484.
Psakhie S.G., Zolnikov K.P., Kryzhevich D.S., Lipnitskii A.G. // Phys. Lett. - 2006. - V. A 349. - P. 509-512.
Rodney D., Proville L. // Phys. Rev. - 2009. - V. B79. - P. 094108.
Landau L. // Phys. Z. Sowjetunion. - 1932. - V. 2. - P. 46-51.
Zener C. // Proc. R. Soc. - 1932. - V. A 137. - P. 696-702.
Egorushkin V.E., Mel'nikova N.V. // JETP. - 1993. - V.1. - P.103-110.
Zhu C., Nakamura H. //j. Chem. Phys. - 1994. - V. 101. - P. 10630-10647.
Zhu C., Nakamura H. //j. Chem. Phys. - 1995. - V. 102. - P. 7448-7461.
Yue Ling, Yu Le, Xu Chao, et al. // Chem. Phys. Chem. - 2017. - V. 18. - Iss. 10. - P. 1274-1287. - DOI: 10.1002/cphc.201700049.
Kapral Raymond //j. Phys.: Condens. Matter. - 2015. - V. 27. - P. 073201.
Зуев Л.Б., Хон Ю.А.// Физич. мезомех. - 2021. - Т. 24. - № 6. - С. 5-14.
Хон Ю.А., Зуев Л.Б.// Физич. мезомехан. - 2021. - Т. 24. - № 6. - С. 15-24.
Хон Ю.А.// Изв. вузов. Физика. - 2021. - Т. 64. - № 4. - С. 44-49.
Хон Ю.А.// Изв. вузов. Физика. - 2022. - Т. 65. - № 3. - С. 140-145.
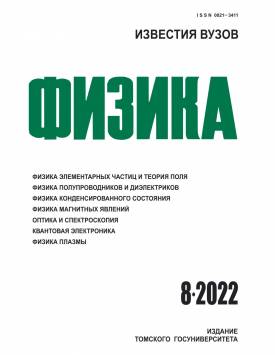
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью