Скорость движения фронта кристаллизации в никеле в зависимости от его ориентации и температуры переохлаждения: молекулярно-динамическое моделирование
Методом молекулярной динамики проведено исследование влияния на скорость движения фронта кристаллизации в никеле температуры переохлаждения и ориентации фронта относительно кристалла. Рассматривались три ориентации фронта: (100), (110) и (111). Быстрее кристаллизация протекает при ориентации (100), медленнее - при ориентациях (110) и (111). Кинетические коэффициенты кристаллизации для рассматриваемых ориентаций составили 0.38, 0.29 и 0.27 м/(с∙К) соответственно. Согласно полученным данным, скорость кристаллизации с ростом температуры переохлаждения растет не монотонно, а имеет максимум при примерно 0.7∙ Т пл (где Т пл - равновесная температура плавления), после которого плавно снижается, что объясняется уменьшением диффузионной подвижности атомов в аморфной фазе.
The rate of the crystallization front in nickel depending on its orientation and supercooling temperature: molecular dyn.pdf Введение Затвердевание и сопровождающая его кристаллизация металлов и сплавов относятся к технологически распространенным и важным процессам, оказывающим существенное влияние на конечную структуру материала. Несмотря на большое внимание к процессу кристаллизации и продолжительное его исследование, до сих пор остаются нерешенные вопросы даже для чистых металлов, причем это относится не только к кинетике относительно более сложного гомогенного механизма кристаллизации [1-3], связанного с зарождением кристаллических зародышей, но и гетерогенного [4-8], когда процесс сопровождается движением фронта кристаллизации. В частности, в настоящее время существуют две конкурирующие кинетические модели движения фронта кристаллизации: с ограничением тепловых столкновений атомов (collision limited) и с диффузионным ограничением (diffusion limited) [1, 4, 7]. Из-за невозможности проведения соответствующих экспериментов при сверхбольших температурах переохлаждения, которые не превышали, как правило, 20% от температуры плавления [9, 10], долгое время считалось, что скорость затвердевания в чистом виде контролируется кинетикой, ограниченной столкновениями атомов [11-13]. При этом, однако, допускалось, что для движения атома через границу раздела жидкость - кристалл отсутствует энергетический барьер. Позже, при появлении возможности проведения экспериментов с глубоким переохлаждением (например, в [7] достигнуто переохлаждение серебра до 40% от температуры плавления) было показано, что эта модель расходится с экспериментом в области больших значений температур переохлаждения. Согласно данной модели, по мере уменьшения температуры скорость кристаллизации должна монотонно расти, однако в действительности, как показал эксперимент [7], этот рост прекращается примерно при (0.6-0.8)Tпл и с последующим понижением температуры скорость даже немного снижается, что хорошо объясняется моделью с диффузионным ограничением, где учитывается снижение диффузионной подвижности атомов в аморфной фазе с понижением температуры. Другой важной особенностью кинетики фронта кристаллизации является анизотропия его скорости движения. В работах [5, 8, 14-16] с помощью компьютерного моделирования было выяснено, что скорость миграции границы жидкость - кристалл зависит от ориентации границы относительно кристалла. В частности, в упомянутых работах было показано, что быстрее остальных в ГЦК-металлах движутся границы, ориентированные вдоль плоскости (100). Настоящая работа посвящена исследованию с помощью метода молекулярной динамики влияния на скорость движения фронта кристаллизации в никеле температуры переохлаждения и ориентации фронта относительно кристалла. Рассматривались три ориентации фронта: (100), (110) и (111). Никель был выбран как типичный ГЦК-металл, для которого собран достаточно большой набор экспериментальных данных и имеются хорошо апробированные потенциалы межатомного взаимодействия. Описание модели Расчетная ячейка в молекулярно-динамической модели имела форму вытянутого параллелепипеда с квадратным сечением (рис. 1). Вдоль осей X и Y были наложены периодические граничные условия, но на торцах параллелепипеда (темно-серые атомы на рис. 1) кристаллическая структура была зафиксирована, что имитировало стартовое положение фронта кристаллизации. Использовались три расчетные ячейки с тремя разными ориентациями кристаллической структуры на торцах: (100), (110) и (111). Ячейки имели ширину и высоту примерно 5.8 нм, длину 37.5 нм и содержали около 107 тысяч атомов. Рис. 1. Расчетная ячейка для моделирования кристаллизации (темно-серые атомы на торцах ячейки оставались неподвижными в процессе моделирования) Для описания межатомных взаимодействий использовались многочастичные потенциалы Клери - Росато [17], построенные в приближении сильной связи. Потенциалы данного типа неоднократно использовались в молекулярно-динамических моделях и прошли успешную апробацию по большому числу характеристик [18-22]. Опыт их применения показывает, что с их помощью удается описать разнообразные свойства металлов и сплавов. Шаг интегрирования по времени в методе молекулярной динамики был равен 5 фс. Температура в модели задавалась через начальные скорости атомов, согласно распределению Максвелла, при этом учитывалось тепловое расширение расчетных ячеек. Для сохранения температуры постоянной в процессе моделирования использовался термостат Нозе - Гувера. На первом этапе расчетная ячейка плавилась путем выдерживания при температуре, значительно превышающей температуру плавления (на рис. 1 изображена расплавленная ячейка). Затем включался термостат и проводилось выдерживание при заданной постоянной температуре. В течение молекулярно-динамического эксперимента фронт кристаллизации двигался от торцов расчетной ячейки к ее центру. Результаты и их обсуждение На рис. 2 изображен график изменения скорости движения фронта кристаллизации в течение компьютерного моделирования. Скорость движения фронта определялась как средняя скорость фронтов, движущихся от обоих торцов ячейки. Как видно, скорость не была постоянной и на графике можно выделить три области. Высокая скорость кристаллизации вначале (I область) объясняется влиянием жестко закрепленных атомов на торцах расчетной ячейки. Их расположение соответствует идеальной кристаллической структуре без каких-либо тепловых смещений, поэтому рост кристалла вблизи них происходил быстрее. Далее следует участок II, на котором скорость движения фронта кристаллизации примерно одинаковая. Очевидно, что измерение скорости необходимо проводить на этом участке. Область III характеризуется сначала небольшим повышением скорости кристаллизации, а затем снижением в конце эксперимента. Это связано с проявлением ориентирующего влияния фронтов кристаллизации друг на друга и последующим завершением кристаллизации. Рис. 2. Изменение скорости движения фронта кристаллизации в течение компьютерного эксперимента Скорость кристаллизации, таким образом, определялась как средняя скорость фронта в области II (рис. 2) и рассчитывалась по формуле , (1) где Δl1 и Δl2 - расстояния, пройденные фронтами кристаллизации от левого и правого торцов расчетной ячейки за время Δt (рис. 3). В большинстве случаев, как видно из рис. 3, положение фронта было ясно видно визуально. Погрешность определения не превышала, как правило, две атомные плоскости. Рис. 3. Метод расчета скорости движения фронта кристаллизации На рис. 4 представлены полученные в настоящей работе зависимости скорости кристаллизации для трех различных ориентаций фронта: (100), (110) и (111). С ростом температуры переохлаждения ΔТ скорость движения фронта кристаллизации, как видно из рис. 4, растет не монотонно, а имеет максимум при ~ 0.7Тпл, после которого примерно остается постоянной. Подобное поведение в области сверхвысоких значений переохлаждения можно объяснить моделью Вильсона - Френкеля с диффузионным ограничением [1, 4, 6, 7]: . (2) Здесь A - предэкспоненциальный множитель; E - энергия активации миграции атома в жидкой фазе; k - постоянная Больцмана; Т - температура; Δμ - разность свободных энергий жидкого и кристаллического состояний. При снижении температуры диффузионная подвижность атомов вблизи границы жидкость - кристалл экспоненциально уменьшается, и при некоторой температуре (в нашем случае при 0.7Тпл) этот понижающий скорость вклад начинает преобладать над повышающим вкладом второго множителя в формуле (2). Рис. 4. Зависимости скорости фронта кристаллизации от температуры термостата при трех разных ориентациях фронта Полученные в нашей работе максимальные значения скорости кристаллизации при 0.7Тпл совпадают со значениями, приведенными в [8] для никеля, где они были получены путем моделирования при использовании другого потенциала: 150 м/с для ориентации (100) и 100 м/с - для (110). При сравнительно небольших значениях переохлаждения зависимость скорости кристаллизации от температуры переохлаждения имеет, как правило, зависимость, близкую к линейной. Наклон этой зависимости характеризуется кинетическим коэффициентом, который играет важное значение для описания поведения фронта кристаллизации вблизи равновесной температуры плавления. Для линейных частей зависимостей вблизи температуры плавления, приведенных на рис. 4, были получены значения кинетического коэффициента: 0.38 м/(с∙К) для ориентации (100), 0.29 м/(с∙К) для (110) и 0.27 м/(с∙К) для (111). Эти значения хорошо согласуются с полученными также с помощью моделирования в работе [16]: 0.36, 0.26 и 0.24 соответственно. Для объяснения анизотропии скорости кристаллизации следует, очевидно, обратить внимание на второй множитель в формуле (2) и величину Δμ, которая обычно определяется как разность свободных энергий жидкого и кристаллического состояний. Но вблизи самой границы раздела жидкость - кристалл большее значение имеет не разность энергий внутри объемов кристалла и жидкости, а отличие свободных энергий атома вблизи границы в жидкой фазе и «встроенного» в границу растущего кристалла. Если величину Δμ определять таким образом, она перестает быть постоянной и становится зависящей от ориентации границы жидкость - кристалл. Действительно, эту энергию тогда можно сравнить с энергией адатома на соответствующей свободной поверхности кристалла или с энергией активации его миграции по данной поверхности. Например, в [23] с помощью компьютерного моделирования для никеля получены значения энергии активации поверхностной самодиффузии: 0.33 эВ по свободной поверхности (111) и 0.63 эВ по поверхности (100). Заключение Методом молекулярной динамики проведено исследование влияния на скорость движения фронта кристаллизации в никеле температуры переохлаждения и ориентации фронта относительно кристалла. Рассматривались три ориентации фронта: (100), (110) и (111). Быстрее кристаллизация протекает при ориентации (100), медленнее - при ориентациях (110) и (111). Для рассматриваемых ориентаций кинетические коэффициенты кристаллизации составили 0.38, 0.29 и 0.27 м/(с∙К) соответственно. Анизотропия скорости кристаллизации связана с разностью свободных энергий атома вблизи границы в жидкой фазе и «встроенного» в границу растущего кристалла, которая зависит от ориентации границы и, в частности, коррелирует с энергией адатома на соответствующей свободной поверхности кристалла. Согласно полученным данным, скорость кристаллизации с ростом температуры переохлаждения растет не монотонно, а имеет максимум при 0.7Тпл, после которого плавно снижается, что объясняется уменьшением диффузионной подвижности атомов в аморфной фазе.
Ключевые слова
молекулярная динамика,
металл,
кристаллизация,
фронт кристаллизации,
скорость кристаллизацииАвторы
| Полетаев Геннадий Михайлович | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой АлтГТУ | gmpoletaev@mail.ru |
| Каракулова Ирина Владимировна | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | ст. преподаватель АлтГТУ | mail_for_irina@inbox.ru |
| Ракитин Роман Юрьевич | Алтайский государственный университет | к.ф.-м.н., доцент, директор колледжа АлтГУ | movehell@gmail.com |
Всего: 3
Ссылки
Galenko P.K., Ankudinov V., Reuther K., et al. // Philos. Trans. R. Soc. A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. - 2019. - V. 377. - P. 20180205.
Jha S.K., Karthika S., Radhakrishnan T.K. // Resource-Ef cient Technologies. - 2017. - V. 3. - P. 94-100.
Стеценко В.Ю. // Литье и металлургия. - 2013. - T. 69. - № 1. - C. 48-54.
Mazhukin V.I., Shapranov A.V., Perezhigin V.E., et al. // Math. Models Comp. Simulat. - 2017. - V. 9. - P. 448-456.
Mendelev M.I., Zhang F., Song H., et al. //j. Chem. Phys. - 2018. - V. 148. - P. 214705.
Sun G., Xu J., Harrowell P. // Nature Mater. - 2018. - V. 17. - P. 881-886.
Chan W.-L., Averback R.S., Cahill D.G., Ashkenazy Y. // Phys. Rev. Lett. - 2009. - V. 102. - P. 095701.
Zhang H.Y., Liu F., Yang Y., Sun D.Y. // Sci. Rep. - 2017. - V. 7. - 10241.
Turnbull D., Cech R.E. //j. Appl. Phys. - 1950. - V. 21. - P. 804.
Leung K.K., Chiu C.P., Kui H.W. // Scripta Metall. Mater. - 1995. - V. 32. - P. 1559-1563.
MacDonald C.A., Malvezzi A.M., Spaepen F. //j. Appl. Phys. - 1989. - V. 65. - P. 129.
Coriell S.R., Turnbull D. // Acta Metall. - 1982. - V. 30. - P. 2135.
Broughton J.Q., Gilmer G.H., Jackson K.A. // Phys. Rev. Lett. - 1982. - V. 49. - P. 1496.
Mendelev M.I., Rahman M.J., Hoyt J.J., Asta M. // Modelling Simulat. Mater. Sci. Eng. - 2010. - V. 18. - P. 074002.
Hoyt J.J., Asta M., Karma A. // Interface Sci. - 2002. - V. 10. - P. 181-189.
Sun D.Y., Asta M., Hoyt J.J. // Phys. Rev. B. - 2004. - V.69. - P. 024108.
Cleri F., Rosato V. // Phys. Rev. B. - 1993. - V. 48. - No. 1. - P. 22-33.
Кулабухова Н.А., Полетаев Г.М., Старостенков М.Д. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2011. - Т. 54. - № 12. - C. 86-91.
Poletaev G.M., Zorya I.V. // Tech. Phys. Lett. - 2020. - V. 46. - No. 6. - P. 575-578.
Poletaev G.M., Zorya I.V., Starostenkov M.D. //j. Micromech. Mol. Phys. - 2018. - V. 3. - P. 1850001.
Poletaev G.M., Zorya I.V. //j. Exp. Theor. Phys. - 2020. - V. 131. - No. 3. - P. 432-436.
Poletaev G.M., Rakitin R.Y. // Phys. Solid State. - 2021. - V. 63. - No. 5. - P. 682-687.
Liu C.L., Cohen J.M., Adams J.B., Voter A.F. // Surf. Sci. - 1991. - V. 253. - P. 334-344.
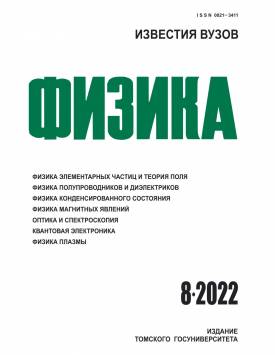
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью