Определение параметров многочастичного состава носителей заряда в CdHgTe. I. Обзор методов анализа спектров подвижности
В работе, состоящей из двух частей, представлено детальное рассмотрение предложенного авторами метода дискретного анализа спектра подвижности и его применения для исследования параметров носителей заряда в CdHgTe. Первая часть работы представляет собой краткий обзор существующих методов анализа полевых зависимостей коэффициента Холла и проводимости в структурах с многочастичным спектром носителей заряда. Рассмотрены основные принципы нескольких методов, включая оригинальный анализ спектра подвижности, предложенный Беком и Андерсоном (Beck and Anderson), многочастичную подгонку и итерационный метод, разработанный Дзюбой и Горской (Dziuba and Górska), а также более поздние разработки. Обсуждаются достоинства, недостатки и границы применимости различных методов.
Determination of the parameters of multi-carrier spectrum in CdHgTe. I. A review of mobility spectrum abalysis methods.pdf Введение Матричные фотоприемники инфракрасного диапазона спектра третьего поколения используют, как правило, сложные многослойные структуры CdHgTe, получаемые эпитаксиальными методами роста, например, молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ) [1-3]. Рост и оптимизация параметров таких структур представляют собой серьезную задачу, и информация о транспортных свойствах (электрофизических параметрах) получаемых структур имеет решающее значение в процессе разработки технологии. Это связано с тем простым фактом, что даже в «однородном» CdHgTe электропроводность определяется вкладом двух и более типов носителей заряда. Таким образом, основная сложность при анализе данных электрических измерений связана с проблемой определения параметров сразу нескольких типов носителей. Для раздельного определения параметров носителей заряда используют исследования зависимостей коэффициента Холла RH(B) и удельного сопротивления ρ(B) (или проводимости σ(B), часто при различных температурах T) от магнитного поля B с последующим их анализом тем или иным методом. Исторически первым таким методом был метод многочастичной подгонки (англ. multi-carrier fitting, MCF) (см., например, [4, 5]). В этом методе концентрация носителей ni, подвижность носителей µi (i - число носителей) являются подгоночными параметрами. Однако этот подход применительно к современным многослойным структурам часто оказывается неадекватным, так как требует первоначального задания количества и типов носителей заряда, а также их приблизительных параметров, и в конечном итоге соответствие экспериментальным данным оказывается не всегда удовлетворительным. По этой причине для анализа RH(B) и σ(B) все чаще стали использовать анализ спектров подвижности (АСП, англ. mobility spectrum analysis, MSA), разработанный Беком и Андерсоном (Beck и Anderson) [6], и его модификации, - такие как итеративный метод MSA, предложенный Дзюбой и Горской (Dziuba и Górska) [7], количественный АСП (англ. quantitative MSA, QMSA) и улучшенный QMSA (англ. improved QMSA, i-QMSA)) [8-11], АСП с использованием принципа максимальной энтропии (англ. maximum entropy MSA, MEMSA) [12], АСП высокого разрешения (англ. high-resolution MSA, HR-MSA) [13] и др. Эти методы использовались для определения параметров носителей заряда как в однородных полупроводниках, содержащих несколько типов носителей, так и в многослойных гетероструктурах на основе материалов IV группы периодической системы [14] и материалов III-V групп [8, 15-19]. Применительно к CdHgTe эти методы применялись, например, для исследования свойств однородных материалов [8, 9, 20] и многослойных структур [11, 21], а также для изучения влияния на свойства материала термического отжига [22], ионного травления [23, 24] и ионной имплантации, причем последняя применялась для изготовления как n+-p- (имплантация бором) [25], так и p+-n-структур (имплантация мышьяком) [26, 27]. В данной работе, состоящей из двух частей, мы подробно рассмотрим еще один метод АСП, предложенный авторами и названный дискретным АСП (англ. discrete MSA, DMSA), а также проанализируем результаты его применения для исследования свойств CdHgTe. С этой целью в первой части работы, т.е. в данной статье, мы сначала дадим краткий обзор существующих методов анализа RH(B) и σ(B) в структурах с многочастичным составом носителей. В следующей статье (второй части работы) мы представим анализ физического смысла огибающей спектра подвижности, получаемой в методе АСП, и рассмотрим особенности и алгоритм метода DMSA. В заключение мы сравним ряд имеющихся в литературе результатов анализа полевых зависимостей компонент тензора проводимости σxx(B) и σxy(B), выполненных с помощью DMSA и других методов АСП, и обсудим преимущества и недостатки различных методов АСП в применении к структурам на основе CdHgTe, используя ряд примеров. 1. Краткий обзор основ метода MSA и его вариаций Эффекты смешанной (многочастичной) проводимости оказывают существенное влияние на явления переноса в полупроводниках, особенно в узкозонных, таких как CdHgTe. Стандартные измерения удельного сопротивления и коэффициента Холла в единичном магнитном поле в этом случае имеют ограниченное применение (как отмечалось выше, даже в однородном р-CdHgTe вклад в проводимость могут давать три и более типа носителей), когда применяются к материалу с многочастичным спектром носителей, так как они дают некие усредненные значения параметров (концентрацию и подвижность), которые далеки от реальной картины. Как было показано (см., например, [4, 5]), гораздо более информативным является исследование магнитно-полевых зависимостей коэффициента Холла RH(B) и удельного сопротивления ρ(B) с последующим их анализом тем или иным методом для определения параметров каждого i-го типа носителей заряда (концентрация ni и подвижность µi). Это связано с тем фактом, что в магнитном поле µiB >> 1 вклад i-го носителя в проводимость становится пренебрежимо малым и поэтому, изменяя магнитное поле, мы можем разделять различные носители заряда. 1.1. Методы многочастичной подгонки (MCF) Методы MCF основаны на приближении смешанной проводимости, когда электрическая проводимость в зависимости от магнитного поля может быть описана двумя способами: как зависимость коэффициента Холла RH(B) и удельного сопротивления ρ(B) от поля или как зависимость компонент тензора проводимости σxx(B) и σxy(B) от поля: (1.1) (1.2) где е - заряд носителя, zi = +1 для дырок, zi = -1 для электронов, М - число типов носителей. Отметим, что здесь и далее в выражениях типа (1.2) полагается, что фактор рассеяния (холл-фактор) равен 1. Такое приближение оправдано тем, что влияние холл-факторов носителей на полевую зависимость значительно меньше, чем влияние многочастичной проводимости. Именно наличие слагаемого [1+ (µB)2] в знаменателе формулы (1.2) и позволяет разделять вклады индивидуальных носителей в коэффициент Холла. Вклад носителя с наиболее высокой подвижностью (как правило, это электроны) «гасится» первым при возрастании поля, в результате чего они оказывают все меньшее и меньшее влияние на величину RH. Из (1.1) и (1.2) следуют следующие выражения для RH(B) и ρ(B) в случае многочастичного спектра носителей (см., например, [5, 28, 29]): (1.3) где . На практике для определения индивидуальных параметров многочастичного спектра носителей использовали оба способа: как зависимость от поля коэффициента Холла RH(B) и удельного сопротивления ρ(B) (1.3) [4, 5, 28-33], так и зависимость от поля компонент тензора проводимости σxx(B) и σxy(B) (1.2) [4, 32-35]. В отмеченных выше работах зависимости RH(B) и ρ(B) для анализа параметров многочастичного спектра носителей использовались в рамках трехзонной модели проводимости, более простой вариант двухзонной проводимости был рассмотрен, например, в работах [36-38]. В трехзонной модели проводимости зависимости RH(B) и ρ(B) (1.3) могут быть представлены в виде [4, 30, 31, 34] (1.4) где величины a0, a1, a2, b1, b2, c0, c1, c2 представляют собой восемь нелинейных функций трех концентраций ni и трех подвижностей µi каждого типа носителей заряда. В самом общем виде метод MCF представляет собой процедуру, посредством которой уравнения (1.2) или (1.4) используются для подгонки экспериментальных данных σxx(Bk) и σxy(Bk) или RH(Bk) и ρ(Вk). Как правило, для этого применяется метод наименьших квадратов для минимизации целевых функций χ2, которые для этих двух способов могут быть записаны в виде (1.5) где приняты следующие обозначения: верхние индексы T и E обозначают «теоретические» (расчетные) и экспериментальные значения соответствующих величин; N - число значений магнитного поля. С математической точки зрения такая процедура соответствует нахождению абсолютного минимума функции многих переменных (функции χ2), необходимым условием существования которого является равенство нулю всех частных производных функции χ2 по искомым параметрам. Для решения задачи могут применяться различные прикладные программы. В качестве исходных данных в работах [5, 28-30, 34, 36-38] использовали полевую зависимость коэффициента Холла RH(B) и значение удельного сопротивления ρ(0) при В = 0, в то время как в работах [4, 31] совместно использовали и ρ(В), и RH(B). Так, например, в [31] для определения восьми функций в (1.4) предлагалось записать уравнения (1.4) для R(B) и ρ(B) для четырех различных значений магнитного поля. Эту систему характеристических уравнений можно решить с помощью техники характеристических определителей Крамера. Набор коэффициентов Холла и удельных сопротивлений выбирался исходя из наилучшего описания зависимостей RH(B) и ρ(B), однако было возможно выбрать несколько различных наборов, дающих несколько разные значения восьми коэффициентов. Поэтому, чтобы свести к минимуму различия в вычисленных коэффициентах, был введен метод итеративной подгонки кривой. В работе [38] для случая двухзонной модели проводимости задача минимизации целевой функции χ2 в методе наименьших квадратов для определения трех коэффициентов в выражении для RH(B) (1.4) была аналитически сведена к решению одного нелинейного уравнения, которое легко решалось любым методом (например, деления отрезка пополам). Это дало возможность автоматического однозначного определения типа носителей и их параметров (двух концентраций и двух подвижностей). Авторы [32, 33] предложили использовать вместо общепринятых компонент тензора проводимости σxx(B) и σxy(B) (1.2) приведенные к значению проводимости при нулевом магнитном поле компоненты тензора проводимости с использованием слоевых значений проводимости и коэффициента Холла. Как отмечают авторы [32, 33], предложенный метод обеспечивает простое и графическое представление данных магнитопроводимости, что дает возможность наглядно определять степень отклонения приведенных компонент тензора проводимости конкретного образца от «идеального» случая одного типа носителей. В работах [4, 34, 35] было проведено сравнение результатов применения двух отмеченных выше способов анализа, основанных на зависимости RH и ρ от поля и зависимости σxx и σxy от поля. По общему мнению, несмотря на то, что параметры носителей, определенные двумя методами, часто удовлетворительно согласуются между собой, использование полевых зависимостей компонент тензора проводимости имеет целый ряд существенных преимуществ (рис. 1). Это, прежде всего, связано с тем, что различные носители дают аддитивный вклад в компоненты тензора проводимости. Например, в случае трех типов носителей компоненты тензора проводимости (1.2) описываются шестью параметрами против восьми при использовании зависимостей RH(B) и ρ(B) (1.4). Параметры компонент тензора проводимости и ni и µi (параметры каждого типа носителей) получают непосредственно в процессе многочастичной подгонки и они допускают более простую интерпретацию, чем параметры aj, bj, cj в зависимостях RH(B) и ρ(B), когда для получения ni и µi требуется дальнейшее решение системы нелинейных уравнений. Кроме этого, использование компонент тензора проводимости в ряде случаев допускает упрощения путем уменьшения числа параметров и определение параметров из характеристических точек на зависимостях σxx и σxy от поля [4]; допускается возможность проведения анализа даже в случае зависимости ni и µi от магнитного поля. Рис. 1. Зависимости коэффициента Холла RH (1, 1') и компоненты тензора проводимости σxy (2, 2') от магнитного поля для образца р-CdxHg1-xTe при 85 К. Точки (1, 2) - экспериментальные значения, линии (1', 2') - результаты многочастичной подгонки MCF в рамках трехзонной модели проводимости [34] На рис. 1 представлена зависимость RH и компоненты σxy тензора проводимости от магнитного поля для образца р-CdxHg1-xTe (х ~ 0.2, концентрация доноров NA-ND = 2.5•1016 см-3) при 85 К. Видно, что зависимость RH от магнитного поля является существенной; при больших полях RH приближается к постоянному значению. При возрастании магнитного поля σxy начинается с нуля, далее уменьшается и проходит через минимум, затем ведет себя как линейная функция от магнитного поля. На этом участке µpB
Ключевые слова
CdHgTe,
электрофизические свойства,
параметры носителей заряда,
спектры подвижностиАвторы
| Ижнин Игорь Иванович | Научно-производственное предприятие «Электрон-Карат»; Национальный исследовательский Томский государственный университет | д.ф.-м.н., ведущ. науч. сотр. НПП «Электрон-Карат», профессор НИ ТГУ | i.izhnin@carat.electron.ua |
| Войцеховский Александр Васильевич | Национальный исследовательский Томский государственный университет | д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой НИ ТГУ | vav43@mail.tsu.ru |
| Коротаев Александр Григорьевич | Национальный исследовательский Томский государственный университет | к.ф.-м.н., декан НИ ТГУ | kor@mail.tsu.ru |
| Мынбаев Карим Джафарович | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе | д.ф.-м.н., зав. лабораторией ФТИ им. А.Ф. Иоффе | mynkad@mail.ioffe.ru |
Всего: 4
Ссылки
Кульчицкий Н., Наумов А., Старцев В. // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. - 2020. - № 6(00197). - С. 114-121.
Варавин В.С., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н. и др. // Автометрия. - 2020. - Т. 56. - № 5. - С. 12-56.
Бурлаков И.Д. // Успехи инфракрасной фотосенсорики: сб. обзорных статей к 75-летию образования НПО «Орион». - М.: АО «НПО «Орион», 2021. - С. 247-270.
Dziuba Z. // Phys. Stat. Sol. (b). - 1987. - V. 140. - No. 4. - P. 213-223.
Gold M.C., Nelson D.A. //j. Vac. Sci. Technol. A. - 1986. - V. 4. - No. 4. - P. 2040-2046.
Beck W.A., Anderson J.R. //j. Appl. Phys. - 1987. - V. 62. - No. 2. - P. 541-553.
Dziuba Z., Górska M. //j. Phys. III. - 1992. - V. 2. - No. 1. - P. 99-110.
Antoszewski J., Seymour D.L., Faraone L., et al. //j. Electron. Mater. - 1995. - V. 24. - No. 9. - P. 1255-1262.
Meyer J.R., Hoffman C.A., Antoszewski J., Faraone L. //j. Appl. Phys. - 1997. - V. 81. - No. 2. - P. 709-713.
Meyer J.R., Hoffman C.A., Bartoli F.J., Antoszewski J., Faraone L. // US Patent No. 5789931. - 1998.
Antoszewski J., Faraone L., Vurgaftman I., et al. //j. Electron. Mater. - 2004. - V. 33. - No. 6. - P. 673-683.
Rothman J., Meilhan J., Perrais G., et al. //j. Electron. Mater. - 2006. - V. 35. - No. 6. - P. 1174-1184.
Umana-Membreno G.A., Antoszewski J., Faraone L., et al. //j. Electron. Mater. - 2010. - V. 39. - No. 7. - P. 1023-1029.
Hock G., Glück M., Hackbarth T., et al. // Thin Sol. Films. - 1998. - V. 336. - No. 1-2. - P. 141-144.
Svensson S.P., Beck W.A., Martel D.C., et al. //j. Cryst. Growth. - 1991. - V. 111. - No. 1-4. - P. 450-455.
Wrobel J., Umana-Membreno G.A., Boguski J., et al. // Phys. Stat. Sol. RRS. - 2020. - V. 14. - No. 1. - P. 1900604.
Umana-Membreno G.A., Antoszewski J., Faraone L. // Microelectron. Eng. - 2013. - V. 109. - No. 9. - P. 232-235.
Pooley O.J., Gilbertson A.M., Buckle P.D., et al. // New J. Phys. - 2010. - V. 12. - No. 5. - P. 053022.
Joung H., Ahn I.H., Yang W., Kim D.Y. // Electron. Mater. Lett. - 2018. - V. 14. - No. 11. - P. 774-783.
Meyer J.R., Hoffman C.A., Bartoli F.J., et al. //j. Electron. Mater. - 1996. - V. 25. - No. 8. - P. 1157-1164.
Meyer J.R., Hoffman C.A., Bartoli F.J., et al. // Semicond. Sci. Technol. - 1993. - V. 8. - No. 6S. - P. 805-823.
Sewell R.H., Musca C.A., Antoszewski J., et al. //j. Electron. Mater. - 2004. - V. 33. - No. 6. - P. 572-578.
Antoszewski J., Musca C.A., Dell J.M., Faraone L. //j. Electron. Mater. - 2000. - V. 29. - No. 6. - P. 837-840.
Nguen T., Antoszewski J., Musca C.A., et al. //j. Electron. Mater. - 2002. - V. 31. - No. 7. - P. 652-659.
Umana-Membreno G.A., Kala H., Antoszewski J., et al. //j. Electron. Mater. - 2013. - V. 42. - No. 11. - P. 3108-3113.
Mollard L., Destefanis G., Rothman J., et al. // Proc. SPIE. - 2008. - V. 6940. - P. 69400F.
Izhnin I.I., Vоitsekhovskii А.V., Коrоtаеv А.G., et al. // Infr. Phys. Technol. - 2017. - V. 81. - No. 3. - P. 52-58.
Tobin S.P., Pultz G.N., Krueger E.E., et al. //j. Electron. Mater. - 1993. - V. 22. - No. 8. - P. 907-914.
Hoerstel W., Klimakow A., Kramer R. //j. Cryst. Growth. - 1990. - V. 101. - No. 1-4. - P. 854-858.
Harman T.C., Honig J.M., Trent P. //j. Phys. Chem. Solids. - 1967. - V. 28. - No. 10. - P. 1995-2001.
Fau C., Dame J.F., DeCarvalho M., et al. // Phys. Stat. Sol. (b). - 1984. - V. 125. - No. 2. - P. 831-838.
Kim J.S., Seiler D.G., Colombo L., Chen M.C. // Semicond. Sci. Technol. - 1994. - V. 9. - No. 9. - P. 1696-1705.
Kim J.S., Seiler D.G., Tseng W.F. //j. Appl. Phys. - 1993. - V. 73. - No. 12. - P. 8324-8335.
Wijewarnasuriya P.S., Boukerche M., Faurie J.P. //j. Appl. Phys. - 1990. - V. 67. - No. 2. - P. 859-852.
Leslie-Pelecky D.L., Seiler D.G., Loloee M.R., Littler C.L. // Appl. Phys. Lett. - 1987. - V. 51. - No. 23. - P. 1916-1918.
Zemel A., Sher Ariel, Eger D. //j. Appl. Phys. - 1987. - V. 62. - No. 5. - P. 1861-1868.
Parat K.K., Taskar N.R., Bhat I.B., Ghandhi S.K. //j. Cryst. Growth. - 1990. - V. 102. - No. 3. - P. 413-418.
Ижнин И.И. Электрофизические свойства CdxHg1-xTe, связанные с бесщелевым состоянием и переходом бесщелевой полупроводник - обычный полупроводник: автореф. дис. … канд. физ-мат. наук. - Львов, 1983. - 22 с.
Hoffman C.A., Meyer J.R., Bartoli F.J., et al. // Phys. Rev. B. - 1989. - V. 39. - No. 6. - P. 52081-5221.
Vurgaftman I., Meyer J.R., Hoffman C.A., et al. //j. Appl. Phys. - 1998. - V. 84. - No. 9. - P. 4966-4973.
Vurgaftman I., Meyer J.R., Hoffman C.A., et al. //j. Electron. Mater. - 1999. - V. 28. - No. 5. - P. 548-552.
Meyer J.R., Vurgaftman I., Redfern D., Antoszewski J., Faraone L., Lindenmuth J.R. // US Patent No. 6100704. - 2000.
Kiatgamolchai S., Myronov M., Mironov O.A., et al. // Phys. Rev. E. - 2002. - V. 66. - No. 3. - Р. 036705.
Chrastina D., Hague J.P., Leadley D.R. //j. Appl. Phys. - 2003. - V. 94. - No. 10. - P. 6583-6590.
Antoszewski J., Umana-Membreno G.A., Faraone L. //j. Electron. Mater. - 2012. - V. 41. - No. 10. - P. 2816-2823.
Kala H., Umana-Membreno G.A., Jolley G., et al. // Appl. Phys. Lett. - 2015. - V. 106. - No. 3. - P. 032103.
Umana-Membreno G.A., Fehlberg T.B., Kolluri S., et al. // Appl. Phys. Lett. - 2011. - V. 98. - No. 22. - P. 222103.
Umana-Membreno G.A., Chang S.J., Bawedin M., et al. // Sol. Stat. Electron. - 2015. - V. 113. - No. 11. - P. 109-115.
Beck W.A. // US Patent No. 10551427 B2. - 2020.
Beck W.A. //j. Appl. Phys. - 2021. - V. 129. - No. 4. - P. 165109.
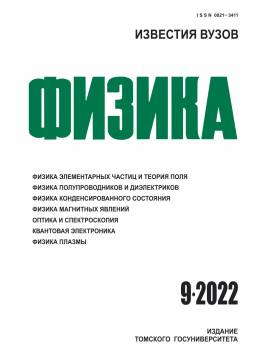
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью