Завоевание Галиции, мыслившееся как необходимый этап для принятия всех русинов Австро-Венгрии в русское подданство, повлияло на археологическую и иконографическую программу Фёдоровского городка и Ратной палаты - крупнейших памятников неорусского стиля предреволюционного времени. В статье доказывается, что Галицийская операция и Лодзинская битва получили символический смысл при обновлении экспозиции Ратной палаты, причём первая знаменовала бесстрашие сразу при двух опасностях - военной и гражданской, а значит, необходимость обустройства славянского мира не только на имперских началах подчинения разных народов императору, но и на национальных допетровских, когда славяне, включая русинов, имели бы единый язык и единое понимание символики. Лодзинская битва подразумевала чудо, способное повлиять даже на врагов. Обе идеи, «покоя» и «чуда», оказались ключевыми при создании сложной иконографической программы росписей и интерьера Фёдоровского городка, так что настоящий смысл её выяснился только после посещения строительства императором и разговора с художниками. Анализ оригинальных документов, касающихся этого посещения, включая записи диалогов царя, и современных художественных размышлений о нём поэта Стратановского, позволяет сказать, что Фёдоровский городок представляет собой сложный диалектический синтез имперского и национального стиля, отличающийся от национального романтизма, и потому сведение Фёдоровского городка к национальному романтизму не оправдано. Напротив, образы и символы, взятые из архитектуры и книг времён первых Романовых, были актуализированы событиями Первой мировой войны, а новая программа объединения славянства, отличавшаяся от всех предыдущих, требовала их объединить особым образом, как никогда раньше. Привлечение контекстов религиозности русского символизма и влияния живописного импрессионизма позволяет уточнить эту программу и понять, как мыслил Николай II будущее русского народа, включая русинов, незадолго до политической катастрофы февраля 1917 г.
The Galician Operation of 1914 and Its Influence on the Development of the Neo-Russian Style: A Case Study of Archeology.pdf Первая мировая война была крупнейшим вызовом восточному славянству, когда был поставлен вопрос одновременно о его единстве и его существовании. В настоящей статье мы исследуем первую и главную репрезентацию операций, приближавших русские войска к Карпатской Руси. Применяя иконологический метод и проводя последовательную интерпретацию текстовых и изобразительных программ, мы покажем, что в самой этой репрезентации был заложен план будущей Руси как государства нового типа, победившего империи Запада и собранного поэтому на новых основаниях, с новым отношением к пространству, времени, факту и символу. Сама по себе рассматриваемая программа была оправдана как суггестивное сопровождение всех тех сдвигов, которые происходили в стране в начале ХХ в., начиная с перевооружения и заканчивая открытием ряда священных топосов. Более того, только она и позволяла вписать военные операции, прежде всего Галицийскую, в общую историю страны, не превратив их в достижения отдельных лиц или случайное стечение обстоятельств. Но определённые противоречия символического языка, который поддерживал в т. ч. военные успехи, показали и некоторые причины нежелательных для страны переломов в войне. Постройка Фёдоровского городка по проекту С.С. Кричинского началась в конце января 1914 г. и к моменту её посещения императором 12 февраля 1917 г. (по старому стилю), за две недели до конца его власти, близилась к завершению. Обращение к стилистическим идеалам первых Романовых, утверждённое празднеством 300-летия царствующего дома, не исключало множественности источников вдохновения, не только монархических. Хотя прообразом всего комплекса был фрагментарно уцелевший ансамбль подмосковной резиденции в Коломенском, многие архитектурные и интерьерные решения щедро брались из архитектуры Ростовского кремля - не царской, а митрополичьей резиденции. Росписи и предметы декоративно-прикладного искусства основывались на коллекции Государственного исторического музея и личном собрании ктитора История 17 Фёдоровского собора полковника Д.Н. Ломана, который был не только знатоком предметов старины и идеологом строительства городка, но и покровителем множества художников неорусского стиля - от братьев Васнецовых до Н. Рериха. Ясно, что большинство этих предметов не были царской собственностью, они, скорее, являлись частью проекта создания большой русской нации, включавшей и русинское население соседней империи. При этом фактические свидетельства о разговорах во время визита были собраны в официальном описании посещения [10], где беседы были записаны со всей точностью, а специальных исследований по реконструкции иконологической программы Фёдоровского городка на настоящий момент не существует. Исключение составляют отдельные проницательные замечания Д.М. Магомедовой о связи образов эсхатологически окрашенной русскости у Есенина с образами росписей Фёдоровского городка [8: 76-78]. Именно война империй за будущее нации, а не торжество монархической империи самой по себе и образовывала идеологию неоромантического Фёдоровского городка. Достаточно указать на смежные с основным комплексном постройки, такие как Ратная палата, возведение которой для нужды военно-исторического музея началось в 1911 г. по образцам псковско-новгородской архитектуры, так что уже в 1914 г. здание приняло первые трофеи с фронтов Первой мировой войны. Ориентация на Псков и Новгород, конечно, продолжала имперский способ утверждения господства над северо-западными землями, символизированный образом Александра Невского: лавра в Петербурге, а также православные храмы в Таллине и Варшаве, знаменовавшие то же господство. Но стремление разместить в этом музее полный набор новейших военных трофеев - от пулеметов и технологичного обмундирования до частей аэропланов - говорит не о господстве, а о столкновении империй и требовании уже детального знания друг о друге. На место прежнего триумфализма приходит специфическая этнография столкновения империй, внимательная к быту и соединявшая всех людей, которые способны также проводить границу между «своим» и «чужим». Связь экспозиции трофеев Ратной палаты с вопросом о русинах прямо прослеживается в помещённых в неё в 1914 г. двух доминантах: ключевых трофеях битв на Западном фронте - Галицийской битвы и Лодзинской операции. Это, соответственно, гравюра с гербом и изображением Львова, добытая («спасённая») при взятии города, и картина С. Масловского «Под Ченстоховом» с изображением немецкого артиллериста, который нехотя направляет пушку на монастырь с чтимой иконой, которую уже успела спасти русская армия. То, что русские не столько берут, сколько спасают города и иконы, сохраняют 18 g J Ml ci ii I 2021. № 66 их в нетронутом виде, соответствовало и общей идеологии Первой мировой войны, где каждая сторона считала себя хранительницей артефактов цивилизации, а также той новой идее народности, которая должна была включать и жителей бывшей Австро-Венгрии. Народ начинал мыслиться как хранитель и одновременно хранимый, и любая этническая экзотика растворялась в этой идее чудесного спасения артефакта. Не икона спасает, а икону спасает народ, который вдруг стал «своим» и потому способен самим духом единства переломить ход войны и спасти артефакты от осквернения. Понимание народа как мгновенно учреждаемого единства, стоящего выше как обычаев, так и опыта любых прежних чудес, любых прежних этнических эмоций, поддерживал Д.Н. Ломан. Будучи коллекционером, он пытался сделать коллекционирование не столько народным увлечением, сколько делом собирания единства культуры, разделяемого всеми людьми, так что военное собирание единой русской империи и станет совместным опытом всех, кто причастен к этому делу. Уже в своей книге для народа «Достопримечательности Санкт-Петербурга» (1898) он изобразил императора как образцового коллекционера, путешественника по экзотическим странам, не забывающего пополнять Кунсткамеру [7: 165-166]. Описывая Петербург, он меньше всего говорил об ансамблевом принципе и восприятии города как ансамбля, но подчёркивал экзотизм и необычность решений, как бы тоже горизонтальных и принадлежащих всем зрителям, всему народу, в т. ч. и приехавшим в столицу и способным стать его жителями. Внимание к судьбам земель Австро-Венгрии проявилось больше всего в деятельности Ломана в годы Первой мировой войны. В противоположность Немецкой гимназии (Петершуле), как бы вражеской, Ломан создал в 1915 г. Славянскую гимназию, которая должна была объединить всё славянство как новое основание культуры. Музей её, поддержанный Нижегородским художественно-историческим древнехранилищем, был, как свидетельствует заметка в газете «Новое время» от 2 декабря 1916 г., соединением принципа древне-хранилища и Ратной палаты, где находились как иконы и предметы старинного русского быта, так и трофеи шедшей войны, на равноправном основании цивилизованности всего славянства, которому и предстоит владеть многими землями бывшей Австро-Венгрии как своими законными. Народническая горизонталь видна во всём образе центральной, как бы исконной и исторической Руси, который создаётся в Фёдоровском городке и который был воспроизведён в СССР в 1969 г. как маршрут «Золотое кольцо». Правда, он был дополнен уже упомянутыми Нов- История 19 городом и Псковом, которые тоже тогда, в конце 1960-х гг., стали предметом повышенного внимания любителей национального демократизма, как, например, исторический романист Д.М. Балашов. Гербы Москвы, Ярославля, Костромы и Владимира, как и двух названных средневековых республик, высечены на белокаменной башне городка, а притрапезная церковь освящена во имя Сергия Радонежского, указывая на Сергиев монастырь и посад, также вошедший позднее в «Золотое кольцо». Только восьмерик башни, а не стены, указывает уже на амбиции собственно династии Романовых. Гербы княжеств «Новгородского, Астраханского, Тверского, Киевского, Владимирского, Казанского, Сибирского и Московского» соответствуют империи Алексея Михайловича, иначе говоря, эпохи перед столкновением империй, которая и противопоставлялась обычно бюрократически-вертикальному проекту Петра Великого и в которой видели потенциал продвижения на юго-западном направлении. Такая эстетика горизонтали сразу же подрывала привилегии зрения, чему сопротивлялся сам Николай II. Согласно отчёту о его посещении Фёдоровского городка [10], он обратил внимание на то, что одежды певцов повторяют те, что он видел на фресках Васнецова. При этом он боялся, что такие громоздкие ткани будут глушить звук - визуальная иллюзия была для него существенна, но он мыслил как специалист по управлению, конструктивно. Проект же Ломана подразумевал не конструктивность, а некоторое общее поле эстетического воздействия, внутри которого оказываются все, кто разделяет русскость так, как её требует понимать военная ситуация. Лучшей интерпретацией проекта Ломана как части операций в Галиции и замысла присоединения Карпатской Руси стало стихотворение С.П Стратановского, профессионального историка литературы, библиографа, в сжатой образности способного выразить содержание целой монографии [14: 300]. Его стихотворение «Посещение императором Николаем II-ым Русского городка в Царском Селе 12 февраля 1917 года» (2013) иронично уже по названию, соединяющему римские цифры с ненужным при них русским окончанием, тем самым указывающему на политику русификации 1914-1915 гг. как необходимую часть внутренней политики времен Первой мировой войны. Стихотворение построено как репортаж, причём не из тогдашней газеты, где слово «Император» надо было писать с прописной, а из нынешней; при этом прописная буква появляется только в «допетровском» слове «Государь» в конце стихотворения, указывая на эстетические предпочтения героя. Вместо тяжести имперской ответственности здесь и сейчас появляется миссия Государя как связывающего равно значимые эпохи в истории культуры, что, конечно, отвечало самой сути эстетического проекта 300-летия 20 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 66 Дома Романовых - доказать отсутствие культурной границы между допетровским и послепетровским / нынешним временем, но при этом с явным предпочтением допетровского в противоположность империи, ориентированной на дела Северной и Центральной Европы. Иконологическая программа Фёдоровского городка подтверждает переориентацию с северо-запада на юго-запад, на карпатское направление независимо от того, как именно шла позиционная война. В этом смысле она дополняет проанализированную выставочную программу Ратной палаты, которую без особых усилий удалось контекстуализировать. Стратановский проницательно анализирует эту иконологическую программу, что прослеживается даже в тонкостях, намекающих на дело Ломана. Так, вступление Стратановского: День был пасмурный, хмурый, но Государь император Прибыл со свитой и дочерьми ровно в три Пополудни, и у ворот его встретили Ктитор собора полковник Ломан И полковник Андреев, его помощник - противоречит метеорологическим сообщениям за тот день, что он был пасмурным, но ясным, и только через день погода испортилась. Но дело в том, что слово «хмурый» в значении «пасмурный» установил Есенин, который находился под покровительством Ломана: как показывает корпусный анализ, у Есенина «хмурый» означает просто бессолнечный в отличие от «пасмурный», означающий непогоду. Другая неточность стихотворения - указание на время прибытия. Согласно отчёту, государь император приехал «около двух часов», как и обещал, причём дочери прибыли ранее. Такая замена времени вряд ли могла иметь какое-то символическое значение в стихотворении, но ключом к ней становится как раз та самая коллекционерская страсть Николая II, которую любил подчёркивать ктитор Ломан: «Осмотрев лестницу и картины, повешенные на её стенах, государь и царевны прошли в детские покои. Здесь Его Императорское Величество обратил внимание на то, как в комнатах много света и тепла, точно определив, с какого по какой час в них солнце. Заметив расставленных на столе солдатиков, государь улыбнулся и сказал: “Павлов-цы”». Н.Н. Андреев, гвардейский полковник, отвечал за дисциплину в гвардейской пехоте, и Николай II узнал в солдатиках павловцев, которые служили образцом дисциплины. Иначе говоря, расчёт времени объединяется с расчётом караула, и император думает как о календаре, так и о внимании не только к дню, но и к часу, к времени суток и погоде. Тем более множество трофейных пушек в Ратной История 21 палате также могло намекать на артиллерийский счёт времени - по часовым пушечным выстрелам. Гравюра города Львова как одна из главных реликвий-трофеев Ратной палаты предопределила использование гравюр для росписей - именно она как некая карта символов, важных для коллекционера и хранителя, для того, кто обеспечит истинное сохранение всей Западной Руси, включая Карпатскую, становится источником творчества символов во всех росписях. По гравюрам были расписаны две лестницы, Царская (посещённая последней, росписи ещё не были закончены) и Круга Солнечного. О проходе царя по ним в отчёте повествуется со всеми подробностями. Иконографическая программа обеих лестниц бралась из «лицевых» (иллюстрированных) календарных книг времён первых Романовых и лубочной литературы, где общая программа аллегоризации человеческой жизни объединяет несколько линий: смена времени суток, возраст человеческой жизни и времена года. Мысленная лестница превратилась в буквальную, как и трофеи должны были материализоваться в горизонтальный контроль России над всеми землями Руси, не в силу имперской бюрократической вертикали, а в силу общности содержаний. Поэтому при подъёме по Царской лестнице посетитель видел соотнесёнными возраст, время суток и времена года и упирался в большое изображение Царя-Года - восседавшего на престоле старца. Эта минитаюра была взята из Лицевого сборника времён Алексея Михайловича из собрания Ф.И. Буслаева, а подпись под изображением гласила: «Царь год. Славен зело, велик, светел, богат, во времена некие его же мы знахом добром обладающу всей вселенной, и бысть ин таковых Царь имеюще Царь златомерителя в царских его палатах. Златове на потребу дающе рабом Царским». Эта подпись была взята не из Буслаева, а из одного рукописного синаксаря, где дана барочная аллегорическая «Притча о царе-годе». У Буслаева объяснено, что венец года - это Христос [1: 319]. Таким образом, новый универсализм простого собрания дней и событий шёл на смену вертикальному старому имперскому универсализму. Русь должна была незаметно сменить петербургскую Россию, став всей вселенной благодаря возможности Царя-Года отмерять всё на земле. При этом получается, что, как с Ченстоховской иконой, спасение святыни является делом всех посетивших поле боя, которые становятся как бы коллекционерами и спасают Царицу и её икону в силу необходимости хотя бы символически восстановить «времена некие». Однако Николай II сначала шёл по лестнице Круга Солнечного, как раз учившей вниманию к гравюрам, календарям и войне как умению ci ii I 2021. № 66 22 сразу пользоваться календарями и спасать гравюры и другие произведения искусства. Её иконография была взята из «Русских народных картинок» Д.А. Ровинского [11] со ссылкой на утраченные росписи Коломенского дворца и представляла собой зодиакальный календарь. Это было вполне в духе новых астрологических увлечений в Европе XVII в. Достаточно вспомнить, что несостоявшийся русский царь и польский король Владислав IV Ваза был главным в Европе покровителем изготовления телескопов для уточнения астрологических прогнозов ради того, чтобы выигрывать битвы, а гороскопами при дворе Алексея Михайловича занимался поэт Симеон Полоцкий. Особенность зодиакальных изображений состояла в том, чтобы с января по июнь они освещались на восходе, а с июля по декабрь - на закате. Такое значение освещения было важным в ренессансной архитектуре, ориентированной на астрологические идеи, и оно же оказалось важнее географической ориентации в Фёодоровском соборе: алтарь его был обращён не на восток, а южнее, чтобы в день памяти св. Серафима Саровского 2 января восходящее солнце осветило весь алтарь, благословив тем самым календарный год. Серафим Саровский, почитание которого открыло время новой народности эпохи Николая II (неслучайно Дивеево и Град Китеж находятся в одних нижегородских землях), был изображен и в притрапезном храме, и важно было, что при его канонизации в 1903 г. счёт дней оказался важнее всего в рассказах (спорной достоверности) о нём, например, что он 1000 дней простоял на камне, а все пророчества Серафима Саровского, как правило, апокрифические, указывают точные даты, места и расстояния будущих событий [12: 22-25]. Согласно отчёту, государь остановился перед изображением Рыб (февраля), недоумевая, откуда подпись. Подпись, заметим, незамысловатая: «Месяц Февруарий. Рыбы. Естеством студен и сух. Имать дней 28, в високос 29». Она взята прямо с гравюры годового круга, народного календаря. Иначе говоря, государь думал о том, что может произойти в текущем месяце, и чувствует день как «хмурый», как точно замечено в разбираемом стихотворении. Именно расчёт времени - по часам, с телеграфом и телефоном - определил успех Галицийской операции, так что трофей, гравюра Львова, которая должна была воскресить Западную Русь как Русь, оказывался точно рассчитанной схемой. Встретившись в притворе с ктитором и помощником, император обратил внимание на древнерусскую деревянную мебель. Ему пояснили, что мебель приобретена как образец для будущих работ над мебелью самого городка. Как заявлено в отчёте (вероятно, со слов ктитора), «эти работы не есть рабский осколок минувшего, а лишь История 23 преемственный пересад вечно зелёного дерева исконного русского художества на почву современности, в условии наших дней». Так была осуществлена эта программа «пересадки», которая подразумевала, что война не механически присоединяет трофеи, а делает их частью текущей народной жизни, причём их можно перемещать, и они дают истинно русскую жизнь и там, где они были, и там, куда перемещены. Согласно отчёту, один из немногих предметов мебели, который был готов к посещению, - это лежанка, но государь отказался её опробовать, исходя из бдительности военного времени, того самого расчёта по минутам и секундам. Однако указания на новые ориентиры государства в эпоху Галицийской операции встречаются дальше и в отчёте, и в стихотворении Стратановского. Поэт пишет: В Тёплых сенях Государь император увидел На стене изреченье о нашем грядущем спасенье, Изобилье плодов, изобилье цветов многокрасочных, Кистью умелой изображённых. В отчёте кратко цитируется: «Здесь по красному полю разбегаются во все стороны произрастающие из причудливых кувшинов жёлтые сплетающиеся травы. Они окаймляют жёлтые поля, на которых красно изображены различные знамения и изречения». Вошедшему в сени, согласно этому документу, прежде всего напоминается о том, что «спасение и победа наша в добром союзе и согласии». Зрительным образом этого изречения является корона, увенчанная лавровыми ветвями. Пашков как художник, гид и собеседник государя был хорошим знатоком иконологии [4: 120-122], и в иконологии надо искать объяснения декору. Согласно отчёту, Пашков и государь даже соревновались в хорошем знании на память предисловия к книге «Символы и эмблемата» [16], потом Николай II стал задавать уже искусствоведческие вопросы. Конечно, здесь прямо использована эмблема № 137 из работы «Символы и эмблемата» [16], где через корону проходят две скрещенные ветви лавра. Но замечательно, что для росписи художник Г.П. Пашков взял ещё шесть эмблем, среди которых № 43 - одноглавый орел, сидящий на стреляющих пушках под грозой и молнией, и № 62 - двуглавый орел, держащий молнии в руке. Тем самым топика плодов - всеобщего изобилия для народа - соединяется с артиллерийской топикой, напоминающей о важности артиллерии и точных расчётов при Галицийской операции. Это отвечает и программе картины Масловского, согласно которой австрийское войско будет разбито и икона не пострадает от случайного попадания, а надпись в 24 g J Ml ci ii I 2021. № 66 сенях «Он не страшится ни того ни другого» говорит о том же самом. Учитывая, что шесть эмблем сразу напоминают о таком же количестве гербов древнерусских городов на несущих стенах башни городка, в этом как раз можно увидеть новый имперский стиль как стиль Руси. Главное, что в этой программе сохранены все результаты Галицийской битвы: дополнение стратегии тактикой, необходимость следить не только за пушками, но и за молниями, т. е. быстрой передачей сообщения, внимание к гравюрам, картам и планам, наконец, мистическое обоснование чудесного спасения царя народом, понимание народа как соучастника чуда. Тогда все причастные Руси принадлежат как подданные императорской короны царственному торжеству и царственному священству, которым являются любые миряне [15: 202], что отражается и в дальнейшей иконографической программе, в которой православные верующие изображаются птицами среди райских ветвей. При этом тут же парят двуглавые орлы - государственность оказывается частью народного выбора рая. Трофейные пушки тогда замолчали, замолчал ренессансный перспективизм, напрямую связанный с развитием артиллерии [13: 80-87], и вместе с ними кончились вертикальнобюрократические проекты империи. Стратановский опять прямо перелагает отчёт: Дальше по переходу изображенья иные. Птицы там золотые. В отчёте этому соответствует «ближний к сеням переход - по серому полю голубые травы с росписью золотом. Ближний к лестнице - по голубому полю серые травы, тоже с росписью золотом». Золотые птицы - это образ уже не просто земного рая, который мы видим, а Царствия Небесного для всех чад Руси, как в сплаве золота царской короны. Но они появляются только после лестницы Круга Солнечного, т. е. после ожидаемой победы: «Заканчивается лестница переходом, выдержанном в том же духе, но расцветка гуще и узор тяжелее. В распалубках и на стенах перехода двуглавые орлы по более тёмному полю». Интересно, что птицы есть и в предтрапезной палате, которая упомянута ниже и в отчёте, и в стихотворении. И там птицы знаменуют летописцев, т. е. носителей точного знания и точного расчёта, прославляющих победу и утверждающих её закономерность и значимость для обновлённой Руси. Приводим диалог Николая II и Г. Пашкова полностью: «- Откуда это взято? - Из летописей и лицевых изображений. В распалубках знамения История 25 лицевых изображений: царя - грифон и лев, бояр - единорог, воинов - стрельцы, летописцев - птицы. - Птицы? Почему это? Государь с любопытством рассматривал птиц. - Но почему же именно птицы? - Они свободны, как птицы небесные, в полёте своего творчества. - А что у летописцев на хартиях? - Слова с Царского места Московского Успенского собора. - Их я хорошо знаю». Иначе говоря, летописцы понимаются как вестники победы и в то же время как свободные люди, демократически и горизонтально утверждающие свободу для народов, прежде покорённых западными империями. В той же строфе стихотворения Стратановского следующие пять строк: ну, а в Палате Предтрапезной Посолиднее росписи: царь в окруженье бояр: Взор из плоскости грузный на фоне багровом - перелагают замечательный эпизод из отчёта, который тоже лучше привести подробно: «Глаз, отдохнувший на тихих красочных впечатлениях, неожиданно поражается багряностью Предтрапезной палаты. Вся она - в лицевых изображениях. Причём особенностью росписи является значительная величина этих изображений, что при относительно низком потолке даёт совершенно своеобразное настроение. Лицевые изображения не производят, однако, впечатлений картины или иконописи, они являются таким же красочным сплетением линий и пятен, как и обычные росписи цветами и травами. - Срединное место занимает царь, восседающий на престоле славы своей - начал Г.П. Пашков. - В руках у него скипетр и держава -знамения власти. По бокам царя стоят два боярина со свитками. Это ближние исполнители воли царской. Далее встали два воина с мечами и знамёнами, имея позади себя церкви и хоромы с башенками, которые они защищают. Это воинство православное. Против царя сидят убелённые сединами старцы с длинными хартиями, на которые они заносят всё, чему являются нелицеприятными свидетелями. Солнце и луна взирают очами своими, как непрестанные стражи времён и лет». Слова «посолиднее» и «грузный» в таком экфрасисе явно указывают на нависание росписей на низком потолке. При этом произошёл ряд смещений. Конечно, роспись была не багровой, а багряной, ярко- 26 g J Ml ci ii I 2021. № 66 красного цвета, и именно так она должна была выглядеть в солнечный день. Но в стихотворении день изображён пасмурным, поэтому торжественный багряный цвет превращается в пугающе-багровый. Далее, композиция напоминает Деисис (моление, иконографический чин), а вовсе не заседание или совещание, чтобы говорить о том, что царь в окружении бояр. И главное - из плоскости поэтического экфрасиса явно не соответствует ни сводчатому, ни плоскому потолку, ни тому импрессионистическому экфрасису, отрицающему любые эффекты плоскостного впечатления, которое мы только что прочли. Поэтому под плоскостью можно иметь в виду саму эту ситуацию застывшего времени - на хартиях летописцев и в неподвижности декоративных солнца и луны, вдруг означающих не законную власть календаря, но безвременье. Так что этот проект вдруг оказывается бессильным, предвещая военное поражение. Можно вспомнить нью-йоркское издание книги «Стихи и песни» В. Высоцкого, где спародирован этот мотив «лубочной» иконописи и просто лубка: Шемякин вставил сигарету в щербатый рот солнца, указав тем самым на бессмысленность и шутовство застойной эпохи. Это солнце есть и на обложке книги, и на многих иллюстрациях, в частности иллюстрации к песне «В одной державе, с населеньем» [3: 54] о руководителе-алкоголике, где искусно пародируется композиция вроде той, что была в Предтрапезной палате: только защищаются бутылки, и против царя стоят бутылки. Заметим, что если говорить не о Брежневе, а о Николае II, то обвинение его в деградации от алкоголизма поддерживалось только его политическими противниками как связка слабости и спонтанного принятия решений. В иконографической программе мы видим, что спонтанное принятие решений шло от внимания к дню и часу и сохранению гравюр к пониманию золота короны как неожиданного чудотворства и единства всех жителей Руси. Об этом удачно говорит Стратановский в следующей строфе, показывая, что достаточно для описания слова «рай», а значит, единый русский язык объединяет всю русскую нацию, включая подданных бывшей Австро-Венгрии: Дальше в Трапезной - рай. Там на сводах - деревья цветущие, Львы стерегущие, Сирины, что-то поющие, Рай, одним словом. Действительно, отчёт указывает: «У корней увенчанные и расцветшие древа держат стерегущие их львы и единороги, а в причудливой листве укрываются бесчисленные птицы На двух срединных досках написаны Романовские гербы, по бокам которых на ветвях сели вещие Сирины. Двери Трапезной и перемычная дуга, ведущая в История 27 Царскую палату, украшены лепным причудливым, под слоновую кость узором, сплетающимся из трав, цветов, птиц и зверей». Прекрасно, что в Трапезной, согласно отчёту, множество двуглавых орлов, каждый из которых «являет славу своего государя, поэтому все они разны» - от Иоанна III Великого (Грозного, как он назывался при жизни) до Алексея Михайловича, включая, кстати, и Лжедимитрия! Тем самым, утверждается новая концепция истории как постоянного связывания равноправных периодов, которое только и позволяет утвердить власть не как над империей, а как над Русью. Для поиска этих орлов широко использовались как знаменитые фонды вроде архива Министерства иностранных дел, так и менее известные, и получалось, что гравюры оказались источником поддержания власти в ситуации опасностей и даже смут, того самого календарного внимания, внимания ко всем нюансам погоды и пересечённой местности, которое было необходимо при Галицийской операции. Замечательно, что в отчёте упомянуто, что над церковными дверями находилась икона Спаса Нерукотворного «Мокрая Брада». Такое принятое среди иконописцев обозначение клиновидной бородки, в отличие от бородки прядками, было категоризировано как иконографический тип в книге Н.П. Кондакова «Лицевой иконописный подлинник» [6: 97]. Кондаков утверждал византийское происхождение этого типа. Без его книги, вероятно, процитированной Пашковым, в отчёт не попало бы такое заковыристое выражение. Так, власть гравюр, подлинников, прообразов оказывается сильнее власти привычных режимов восприятия, к которой привыкли император и его окружение. Также замечательно, что, согласно отчёту, Николай II не понял смысла изображения «Лев и Единорог» - символа Московской синодальной типографии, известного каждому москвичу, проходившему по Никольской улице. Николай II опознал как геральдического зверя только льва, а что единорог тоже выражает величие и непоколебимость власти (а по другой версии - бояр как коммерческое обеспечение власти), подсказал художник. Итак, император мыслил уже не как летописец или историк, но как пребывающий в мире чудесного торжества и чистого присутствия власти, где есть золотая корона, золотой орёл, золотой лев, но белых птиц и белых единорогов нет. Сама иконографическая программа ещё не решила вопрос о природе власти, о том, что абсолютистская монархия несоединима с правильным считыванием всех графических символов. Наконец, финал, который в вариации нашего современника Стра-тановского оказался даже удачнее, чем в официальном отчёте, как раз говорит о том, как именно достигается новое единство Руси, не ci ii I 2021. № 66 28 сводящееся ни к древнерусскому, ни к последующему имперскому опыту, но потребовавшее тяжелейших военных испытаний: Государь император остался доволен увиденным. «Бог вам в помощь, - сказал он, -трудитесь над возрожденьем Красоты, прежде бывшей и на дне Светлояра погибшей. Бог вам в помощь, изографы, резчики, зодчие, И, конечно, рабочие». Монолог государя - это, как у античных историков (а Стратановский - сын крупнейшего переводчика античных историков на русский), фиктивный монолог, выдуманный поэтом. В отчёте только говорится: «Государь император приветливо попрощался, поблагодарив всех за работу на пользу и процветание русского исконного художества, и при прощании жаловал всех рукой». Но в основе вымышленного монолога лежат два эпизода. Первый - это посещение Царской лестницы, где должны были быть, кроме возрастов-сезонов-времён суток, ещё и короны царств, упомянутых в титуле государя. На лестнице должны были располагаться два изречения, под которые на время посещения было оставлено место, но между посещением и Февральской революцией как раз дописаны были по свежей памяти события. Одно - это четверостишие Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять...», а второе - личная благодарность государя, записанная как его устные слова по итогам посещения: «Приветствую добрый почин в деле возрождения / художественной красоты русского обихода. / Спасибо всем потрудившимся. // Бог на помощь вам и всем работникам в русском деле». Если четверостишие Тютчева задавало перспективу «ченстоховского чуда», перед которым пасует немец-артиллерист, то слова Николая II прямо говорят о том, что красота русского обихода, включая гравюры и лубки, не есть просто археологическая данность, она должна быть возрождена, как новая мебель на основе собранной, и тем самым оборудование должно работать безотказно, создавая новую Русь везде, где прошли военные действия. Другой источник - диалог при посещении Царской палаты, которая, согласно отчёту, венчает Трапезную палату «как золотым венцом». Учитывая, что золотой венец Царя Года символизирует Христа, а над дверью из Трапезной - Спас Нерукотворный, то понятно, что символически Трапезная - земной рай, а Царская - само Царствие Небесное. «Золото, изумруд травы, пурпурно-красные ягоды и белые птицы - как венец иконный окружили будущий стол царский». Стол -это престол, а венец - нимб, и внутри этого золотого нимба император История 29 только и желал жить, в чистой репрезентации своей абсолютистской власти, чтобы не просто сбывались пророчества и предостережения летописцев, а чтобы сплавилась как никогда русская нация. Дальше происходит замечательный диалог: «- Скажите почему здесь так много белых птиц? - Их, Ваше Императорское Величество, так любил царь Алексей Михайлович. Основой же для росписи послужили заставки и украшения из церковных книг его времени. - Но разве тогда писали по золотому полю? - Раньше думали, что нет. А теперь последняя расчистка стенописи Московского Успенского собора показала, что писали по золотому полю. - Теперь вспоминаю. Мне князь Ширинский-Шихматов говорил. Там расчищена уже большая площадь. - Почти три четверти всего. - Это очень большое приобретение для русского художества. - А чем здесь исполнена роспись? - Как и во всех зданиях - яичными красками, так называемой вапой. - Почему? - Масляные краски закрывают поры стены, а яичная нет. Стены при росписи вапой продолжают дышать». Оказывается, что император открывает золотое поле как возможность чистого осуществления исторической судьбы, удивляясь, что какие-то ещё участники истории, «белые птицы», входят в эту судьбу. Таким образом, некоторое слепое пятно абсолютизма становится очевидным, что саркастически и выразил поэт: Птицы дивные смирно на сводах сидели. Царь ушёл. Оставалось всего две недели До Революции русской. Заметим, что изобразительная программа Ломана и Пашкова, которую мы назвали бы протоавангардной, раз она претендует на целостное осмысление и пересборку всей реальности, новое осмысление и святости, и власти, и пушек, и народности, была предвосхищена как раз обстоятельствами, сопровождавшими упомянутую канонизацию Серафима Саровского. Как мы знаем, озеро Светлояр, как и град Китеж, после путешествия Мережковского и Гиппиус в 1902 г. [2: 390] стало одним из мифов русской культуры, вплоть до Пришвина и даже Игоря Северянина [9: 72-73]. Это именно светлое озеро альтернативной церковности, Царствия Небесного, охватывающего всех, как 30 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 66 золотым нимбом. В своем очерке «Светлое озеро» [5] З.Н. Гиппиус с самого начала описывает такое паломничество как неканоническую литургию, включающую все композиционные моменты последней с соответствующими режимами созерцаний и переживаний: общее собрание, собеседование, мольба и, наконец, поминание в Царствии Небесном: «Всю ночь происходят молебствия и собеседования. Народу собирается тысячи. Ездят и православные миссионеры из Н., а также из окрестных городов. На заре, по старинному преданию, и видят “достойные” таинственный город отраженным в озере, и слышен бывает по воде тихий звон колоколов». Описание такой литургии оказывается очень живым, как и положено в православной церкви, сопровождающейся молитвенным разнобоем и созерцанием алтаря как «домика», места совершения невидимого таинства, к которому уже все заведомо причастны. При этом великий вход оказывается заменён отходом с места и возвращением «к людям», но с тем же смыслом перехода от проповеди к Страстям: «Кучки, кучки народа. Говорят, кричат, спорят. Слышно: “Лжеученье!”, “Анафема!”, “А преподобный говорит...”, “А в XVII стихе сказано...” Кто-то надрывается тонко: “Сердце-то! Про сердце-то забыли! Бог любы есть.” - Изнемогшие спят на траве, с котомками под головами. Где не спорят - молятся иконам на деревьях, на полотнах, теплят свечи, поют - жужжат. Подальше, где поглуше, тоже молятся, по трое, иногда по двое: мать да дочь. Принесли с собой икону, повесили на ствол, читают на коленях, кладут поклоны. Это разных толков староверы, больше беспоповцы. Огоньки, где поглуше, ярче освещают нижнюю листву берёз. Внизу, на тропе, у воды, - источник, бегущий с холма. Над ним крошечная часовенка, точно кукольный домик, игрушечная церковка. И тут огни, монашки читают по старой книге, молятся. Мы отошли совсем в лес, далеко, и легли отдохнуть на траву, одни. Но скоро нас опять потянуло к людям. Окольной дорогой, через ручьи, мы как-то вышли сразу к часовне и эстраде, где, окружённый толпой народа, сражался о. Никодим, уже полуохрипший. С усилием мы взобрались к нему и присели на сундук с книгами». Замечательно, что при этом крылатость изображённых живых существ на иконах оказывается главным экфрасисом очерка Гиппиус, предвосхищающего тем самым программу Л
Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2. 429 с.
Воронцова Т.В. Путешествие Мережковских на Светлояр и очерк З.Н. Гиппиус «Светлое озеро» // Волшебная гора. 1997. № 6. С. 387-392.
Высоцкий В.С. Стихи и песни. Нью-Йорк: Apollon Foundation, Rossica PubL, 1988. 202 с.
Гаврилова Л.В. Росписи Фёдоровского городка в Царском селе: Об одной странице творческой биографии Георгия Павловича Пашкова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015. № 1. С. 119-137.
Гиппиус З.Н. Светлое озеро. СПб.: Новый путь, 1904. № 1. С. 151-180.
Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. СПб.: Комитет попечительства о русской иконописи, 1905. Т. 1. 97 с.
Ломан Д.Н. Достопримечательности Санкт-Петербурга. СПб., 1898. 202 с.
Магомедова Д.М. «Я один.. и разбитое зеркало..»: литературные маски Сергея Есенина (статья вторая) // Новый филологический вестник. 2006. № 1. С. 74-84.
Марков А.В. Теоретико-литературные итоги первых пятнадцати лет ХХ века. М., Екатеринбург: Ридеро, 2015. 118 с.
Описание посещения Императором. Русского городка. Центральный государственный архив в Ленинграде. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 109.
Ровинский Д.А. Русские народные картинки. СПб., 1900. 100 с.
Степашкин В.А. Серафим Саровский. М.: Молодая гвардия, 2018. 565 с.
Флоренский П.А. Обратная перспектива // Сочинения. Т. 2: У водоразделов мысли. М., 1990. С. 4б-98.
Цыпилева П.А. Античные мифологемы и современный контекст: структурный принцип поэтики С. Стратановского // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Томск, 2015. Вып. 16. С. 300-304.
Шмеман А. Евхаристия: таинство Царства. М.: Паломник, 1992. 313 с.
Symbola et Emblemata. Amsterdam, 1705. 306 с.
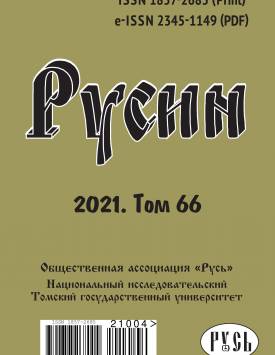

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью