Идиш-славянские языковые параллели (на материале префиксальных глаголов в рассказе Дер Нистера «Shiker» и в его украинском переводе)
С позиций авторской теории языковой гибридности анализируются языковые словообразовательно-семантические параллели в идише и украинском языке. Представлены результаты сопоставительного исследования на материале префиксальных глаголов, использующихся в рассказе советского еврейского писателя Дер Нистера «Shiker» и в его переводе на украинский язык «Сп’яніло» (перевод Э. Райцина). Языковые параллели показаны как славянские феномены в словообразовании и семантике префиксальных глаголов идиша, сформировавшиеся в результате адстратного влияния славянских языков на средневерхненемецкий, послуживший идишу основой. В сравнительно-историческом аспекте даётся информация о немецком плане выражения исследуемых идишских префиксов и их генетически славянском либо немецко-славянском плане содержания. В сопоставительном аспекте показывается, что более половины глаголов идишского исходного текста содержат семантически славянские префиксы-омонимы и префиксы с гибридной немецко-славянской полисемией. В переводоведческом аспекте иллюстрируется переводимость абсолютного большинства этих глаголов на украинский язык методом простой поморфемной и простой альтернативной поморфемной подстановки. В общетеоретическом аспекте уточняются термины и понятия «префиксы-омонимы» и «префикс с гибридной полисемией». Доказывается, что наличие идиш-славянских параллелей в исходном и переводящем языках и текстах является дополнительным свидетельством немецко-славянской гибридности генеалогически германского идиша.
Yiddish-Slavic language parallels (on the material of prefixed verbs in Der Nister’s “Shiker” and its Ukrainian translat.pdf В настоящей статье представлены результаты продолжаемого авторами исследования, которое ставит своей целью получение новых данных о гибридном характере идиша и уточнение авторской теории языковой гибридности а) на материале источников разных функциональных стилей и жанров - беллетристических и публицистических текстов, текстов художественной и общественно-политической литературы и её переводов, а также на материале лексикографическом и корпусном; б) на материале языковых единиц в аспекте их слово- и формообразования, семантики и узуса - глаголов, существительных (прежде всего, композитов и феминитивов), деминутивов разных частей речи и устойчивых словесных комплексов. Теоретическое представление о гибридности идиша восходит к тезису основателя идишистики М. Вайнрайха о том, что ашкеназский идиом являет собой shmeltsshprakh1 [34: 32], или гибридный2 язык (применительно к идишу, в терминологии Р. Якобсона3 [2і: 9]). В своих работах авторы настоящей статьи видят языковую гибридизацию и гибридность в более широком языковедческом контексте как обусловленные системным языковым контактом феномены, характерные не только для становления и современного состояния идиша, но для ряда языков, в частности для ладино (генетически романский язык сефардских евреев), африкаанса (генетически германский язык, родной для большей части населения ЮАР и Намибии, один из государственных в ЮАР) и эйну (неопределенной - тюркской или иранской - генеалогии язык народа эйну, живущего преимущественно на северо-западе Китая). Мы определяем языковую гибридность как результат взаимодействия двух комплексных факторов: а) диахронно-социолингвистиче-ских (факторы 1 и 2 в определении ниже) и б) собственно языковых, рассматриваемых в диахронии (фактор 3) и - применительно к современному состоянию идиомов - в синхронии (фактор 4). Таким образом, в нашем определении гибридный язык представляет собой язык, испытавший гибридизацию - один из видов языкового контактирования, а именно «процесс такого развития языка L, при котором: 1) данный язык L (в анализируемом случае - немецкий) является материнским для вторичного коллектива его носителей (ашкеназских евреев), этнически иного, чем исконные его носители (немцы); 2) язык L функционирует в среде вторичных носителей и контактирует с языками C (семитскими и славянскими), которыми данные носители также пользуются в условиях полилингвизма или полиглосии; 3) с течением времени материнский язык L начинает испытывать влияние, а затем системное воздействие со стороны контактных языков C, в результате чего 4) развивается гибридный язык H (идиш), основа 2021. № 66 210 которого - исходный язык L (немецкий язык-основа), с которым на базе адстрата скрестились системные разноуровневые пласты языков C (семитских и славянских языков-доноров)» [14: 212]). Таким образом, будучи гибридным, идиш объединяет в себе три пласта: основный немецкий, адстратные семитский и славянский, которые охватывают все уровни и подсистемы языка, а также незначительный романский компонент в сфере лексики [35: 272-274]. Наибольшее системное адстратное влияние на идиш оказали «контактные славянские языки: польский, украинский и белорусский» [15: 276], а также еврейско-арамейский и древнееврейский [11; 33]. Термин «немецкий язык» все исследователи понимают как метаязыковую условность - не современный немецкий, но «средневерхненемецкий во всей его многоплановости» [22: 6]. Так, по замечанию М. Вайнрайха, «даже на древнейшей ступени своего развития идиш отличался от немецкого языка Так, некоторые слова которых никогда не было в немецком, встречаются уже в древнейшем идише» [35: 29]. Необходимо также уточнить, что: а) контактирующими семитскими языками выступили библейский иврит и библейский арамейский; б) польский же как хронологически первый контактный славянский язык, провоцировавший системную гибридизацию, следует понимать в первую очередь как разговорный среднепольский язык XVI-XVIII вв.: именно в то время, совпадающее с периодом среднего идиша (1500 - около 1700/1750 гг.), в ашкеназском идиоме наблюдается «отрыв от немецкого проникновение древнееврейских компонентов, всё большее следование образцу славянских языков» [35: 32]; в) украинское и белорусское системное славянское влияние относится к тому же времени - XVI-XVIII вв. [15: 282-283]. Становление классической литературной нормы идиша происходит к концу ХІХ в. Наиболее глубокую гибридизацию испытала идишская глагольная подсистема, в частности глагольно-префиксальное словообразование и семантика. Исследование идишского глагола в диахронном и синхронном сравнении и сопоставлении с немецким, славянским и семитским глаголом имеет давнюю традицию и актуально по настоящее время (см. обзор в [11-14; 35]). Так, ещё М. Вайнрайх определил фундаментальные задачи исследования глагольных префиксов и префиксальных глаголов следующим образом: «(1) проанализировать каждый из префиксов и сформулировать, что он означал в немецком языке (2) определить семантическую функцию каждого префикса (3) выяснить, в какой степени славянские языки повлияли на внутреннюю форму идишского глагола (4) выявить, какие вторичные - отсутствующие в немецком и славянских языках - значения имеют слова в идише» (цит. по: [29: 144-145]). Лингвистика и язык 211 Цель настоящей статьи укладывается в общую цель нашего продолжающегося исследования и заключается в анализе языковых словообразовательно-семантических параллелей в идише и славянских языках в сопоставлении. Цель полностью охватывает задачи, сформулированные М. Вайнрайхом. При этом авторы статьи а) рассматривают, безусловно, лишь те префиксы и глаголы с ними, которые используются в оригинале (все другие префиксы были рассмотрены нами ранее, см., в частности: [12-14]); б) исследуют идишские префиксальные глаголы в сопоставлении с украинскими префиксальными глаголами, использованными в тексте перевода, а именно те, которые в паре «идиш - украинский язык» являются языковыми параллелями. Языковые параллели понимаются нами в трояком аспекте: 1) сравнительно-историческом, как языковые единицы, обладающие генетической общностью; 2) сопоставительном, как языковые единицы, которые имеют в двух сопоставляемых/контактирующих языках взаимно однозначные соответствия, тождественные или сходные в плане выражения и в плане содержания [4: 164; 5: 62]; 3) переводоведческом, как семантически релевантные единицы любого уровня в двух - исходном (ИЯ) и переводящем (ПЯ) - языках, обладающие чертами структурного и семантического тождества или сходства, перевод которых возможен соответственно: а) путём простой подстановки, при которой «замещаемая единица ИЯ и замещающая единица ПЯ полностью совпадают по своему системному значению» [8: 122] и форме; б) путём простой альтернативной подстановки, при которой перевод осуществляется с использованием одного из иных возможных соответствий [8: 124], структурно и семантически сходного с замещаемой единицей ИЯ. Применительно к префиксальным глаголам (ПрГ) в паре «ИЯ идиш - ПЯ украинский» понятие простой подстановки мы уточняем следующим образом. Простая подстановка префиксальной и корневой морфем при переводе с идиша на славянские языки представляет собой, по сути, обратное калькирование, поскольку анализируемые идишские ПрГ являются поморфемными адстратно-славянскими копиями [20: 8], которые поморфемно же - от префикса ИЯ к префиксу ПЯ и от корня ИЯ к корню ПЯ - переводятся украинскими ПрГ. Тем самым они представляют собой простые поморфемные или простые альтернативные поморфемные подстановки (далее также - простая подстановка, альтернативная подстановка), при которых каждому семантически релевантному элементу единицы исходного текста 2021. № 66 212 (ИТ) в тексте перевода (ПТ) соответствует структурно и семантически тождественный элемент. Представленное в статье исследование проведено на материале ПрГ, использующихся в рассказе Дер Нистера4 «Shiker» (тут уоиут «ш'рут»)5, впервые опубликованном в оригинале на идише в 1926 г., и в его переводе на украинский язык («Сп'яніло», перевод Э. Райцина6, 1928 г.). Изучение ИТ и ПТ уже на этапе ознакомления показало следующее: а) ИТ содержит значительное число славянских словообразовательносемантических копий, которые зафиксированы словарями ИЯ и которые в ПТ переданы простой поморфемной подстановкой. При этом в аспекте сопоставления анализируемых ИТ и ПТ идиш-славянские языковые параллели обнаруживаются не только в сфере ПрГ, но и в сфере деминутивов (их словообразования, семантики и узуса), в глагольной морфологии (аспектуальных словоформах) и во фразеологии, что будет отражено в одной из следующих статей (см. также: [12: 57-62]). Последнее согласуется с исходной гипотезой относительно той части исследования, которое проводится авторами на материале ПрГ в художественных текстах и их идиш-славянских и славянско-идишских переводах. Гипотеза заключается в следующем: 1) в идишском ИТ/ПТ должен обнаруживаться адстратно-славянский пласт глагольно-префиксальной лексики; 2) эта лексика должна быть переводима языковыми параллелями, т. е. тождественными или сходными славянскими ПрГ; 3) переводимость ПрГ простой поморфемной подстановкой а) в определенной мере будет аналогична переводу с близкородственных языков, который «значительно облегчается - по сравнению с переводом произведений, принадлежащих народам, исторически удалённым друг от друга» [9: 35], и б) будет дополнительным свидетельством гибридности идиша. Настоящая статья ставит перед собой, таким образом, следующие задачи: на материале ПрГ, используемых в названном идишском рассказе и его украинском ПТ, показать и проанализировать явления немецко-славянской гибридности идиша. Для этого необходимо: 1) в сравнительно-историческом аспекте дать информацию о генетическом происхождении и семантике исследуемых идишских префиксов; 2) в сопоставительном и переводоведческом аспектах: а) проанализировать общее в словообразовании и семантике ПрГ идиша и украинского языка и б) показать переводимость идишских ПрГ на украинский методом простой и простой альтернативной поморфемной подстановки; 3) в общетеоретическом аспекте уточнить термины и понятия «префиксы-омонимы» и «префикс с гибридной полисемией», предложенные ранее авторами статьи для описания гибридности идиша. Лингвистика и язык 213 Исследование проводилось такими методами, как приём целенаправленной выборки, методы морфемного, сопоставительного и компонентного анализа, метод анализа словарных дефиниций, глоссирование по лейпцигской системе, количественный и описательный методы. Весь языковой материал верифицировался по следующим авторитетным источникам: «Современный англо-идиш, идиш-англий-ский словарь» У. Вайнрайха [36], «Средневерхненемецкий словарь» М. Лексера [24] и монография Э. Тимм «Историческая семантика идиша» [32], а также украинско-русский и польско-русский словари [10; 28]. Результаты исследования В работах, посвящённых ПрГ идиша, указывается, что все его глагольные префиксы генетически принадлежат к немецкому пласту (см., в частности, [16: 84; 29: 144-145; 37: 185]). Э. Тимм доказывает, что появление в генетически немецком идиоме - идише - существенного ненемецкого пласта обусловлено а) религиозными причинами - это хронологически первый адстратный семитского пласт, б) влиянием славянских языков, как в случае с «переосмыслением глагольных приставок немецкого происхождения» [23; 32: 6, 136, 253-254, 306]), а также в) ввиду интралингвистического развития идиша [32: 33-35]. Что касается исследуемых идишских глагольных префиксов, то в своих предыдущих работах мы конкретизировали их типологию по генетической принадлежности, а в настоящей статье уточняем её следующим образом: I. Гибридные префиксы: 1) семантически славянские префиксы-омонимы, или семантически славянские префиксы: неотделяемые der-2 и far-2 и отделяемые on-2 и unter-2, омонимичные немецким префиксам-омонимам типа 4а (подробнее см. ниже)7; 2) префиксы с гибридной немецко-славянской полисемией, или полисемичные префиксы: неотделяемый tse, отделяемые ariber-, avek-, funander-, iber-, op-, oys- и tsu- (подробнее см. ниже); 3) слабогибридные префиксы - префиксы, полностью сохранившие обусловленную немецким языком-основой семантику, но частично обнаруживающие семитский и славянский адстрат в глагольно-префиксальных кальках: неотделяемые ant-/an- и ba-, отделяемые afer-/ afir-, aher-, ahin-, arayn-, arop-, aroys-, aruf-/aroyf-, arunter-, ayn-, bay-, durkh-/ adurkh-,farbay-, nokh-, tsunoyf-/tsuzamen-, tsurik-, uf-/oyf- [12: 42]. II. Негибридные компоненты - компоненты, не испытавшие гибридизации: 4) негибридные префиксы: 2021. № 66 214 а) немецкие префиксы-омонимы - префиксы, формально омонимичные семантически славянским префиксам типа і: неотделяемые der-1 и far-1 и отделяемые on-t и unter-1 [12: 69-82, 96-107, 117-123, 132-136, 153-162]; б) семантически «пустой» префикс - неотделяемый ge-, сохранившийся в средневерхненемецких глаголах, а также служащий для образования грамматических словоформ [12: 52]; в) прочие негибридные префиксы: отделяемый for-, сохранивший средневерхненемецкую форму и семантику, отделяемые anider-, ant-kegn-/akegn-, arum/um-, foroys- и mit- [12: 42]; 5) первые связанные компоненты сложных глаголов-дайчеризмов8 - поздних немецких заимствований: iber-d и unter-d [12: 42-43; 26: 304; 36: 657]. m m В семантике префиксов мы выделяем архесему - генетико-этимологически обусловленный семантический инвариант [12: 50], генетически первичную сему префикса [1: 38]. Архесемы установлены нами методом анализа словарных дефиниций по следующим лексикографическим источникам: «Средневерхненемецкий словарь» М. Лексера [24], «Дуден. Этимологический словарь немецкого языка» [18], «Этимологический словарь славянских языков» Ф. Миклошича [27] и «Этимологический словарь польского языка» А. Брюкнера [17]. Семантически славянские префиксы типа 1 трактуются нами как вступающие в отношения омонимии с немецким префиксами типа 4а, поскольку, согласно концепции В.В. Виноградова, «два или больше значения могут совмещаться в одном слове (в нашем случае - в обладающем значением префиксе. - К.Ш., Н.Л.) лишь если одно или два из них являются производными от основного Если такой связи между значениями нет, то мы имеем дело уже с двумя омонимами» [2: 172-173]. У славянских же префиксов адстратно-сла-вянские значения не являются производными от немецких значений идентичного по форме префикса, т. е. несводимы к одной архесеме [12: 34-36, 40-41]. Напротив, у полисемичного префикса немецкая и славянская компоненты сводимы к единой или близкой архесеме, т. к. с немецкой формой и содержанием префикса скрестилось близкое славянское содержание [31: 239]. Исследование глаголов с семантически славянскими и полисемичными префиксами (глаголы с остальными префиксами учитывались лишь в статистических целях) подтвердило изложенную выше гипотезу, что показывается ниже. 1. Глаголы с семантически славянскими префиксами. В ИТ на идише используются глаголы с указанными ниже семантически славянскими префиксами9: Лингвистика и язык 215 1.1. *|-2 (on-2) - отделяемый префикс, омонимичен префиксу on-1, формально и семантически сходному с современным немецким префиксом an-. Идишский on-2: а) в плане формы развился из средневерхненемецкого наречия-префикса an (архесема [24: 5], сохранившаяся у on-2); б) копировал при этом содержание славянского префикса па-/на-(архесема [17: 351; 27: 210]), в частности ввиду фонетического сходства с последним [38: 39-44]. В украинском ПТ используются следующие языковые параллели для передачи семантики ПрГ с on-2: 1) 13 из 19 (68,4 %) словоформ ПрГ с on-2 переданы простой или альтернативной подстановкой глаголов с на-, которые и в ИТ, и в ПТ имеют следующие значения: а) получение результата (дифференциальная сема (ДС) ): (1ИТ) ongisn ‘наливать’: un der batrunkener nemt un gistyenem fun a fleshl on un dernokh zikh 10 der batrunkener -gis-t= yenem =ondef пьяный -лить. stem-pres.sg.3= тому =на-^ЕР (1ПТ) наливати ‘наливать: I Підпилий бере й наливаетому з пляш-ки і потім собі ‘И Пьяный берет и наливает тому из бутылки и потом себе'. (2ПТ) назбирати 'насобирать: - Це я зберіг і назбирав добродійства добрих діл у мішках... ‘Это я сохранил и насобирал благотворительности добрых дел в мешках'. це я на-з-бир-а-в добродійства добрих діл это я на-со-бир-а-л благотворительности добрых дел Підпилий на-ли-ва-е тому Пьяный на-ли-ва-ет тому б) аккумуляция действия (ДС ): (2ИТ) onklaybn ‘насобирать’: «dos hob ikh opgeshport un ongeklibn maysim-toyvim in di zek»... ‘Это я сохранил и насобирал добрых дел в мешках'. dos hob ikh on-ge>klibсобирать.5ТЕм;Аво'shlogбиTЬ.STЕMvalgerвалить. STEMvolXOTеTЬ’SТЕМ;ABLТtrotступать.sтEм;ABLтnarДурИTЬ.STEM
Ключевые слова
идиш,
украинский язык,
языковая гибридность,
языковая параллель,
префиксы-омонимы,
префикс с гибридной полисемией,
перевод,
простая поморфемная подстановка,
простая альтернативная поморфемная подстановкаАвторы
| Шишигин Кирилл Александрович | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков № 3 | schischigin-ka@rambler.ru |
| Лебедева Наталья Борисовна | Кемеровский государственный университет | доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики и риторики | nlebedevab@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
Бадер О.В. Словообразовательные, морфосинтаксические и стилистические характеристики глаголов с префиксом der- в языке идиш // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 7 (37), ч. II. C. 33-37.
Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. 313 с.
Дер Нистер // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 2 / Гл. ред. И. Орен (Надель), М. Занд. Иерусалим: Общество по исследованию еврейских общин, 1982. Кол. 331-334.
Добровольский Д.О. Беседы о немецком слове. М.: Языки славянской культуры, 2013. 744 с.
Дубичинский В.В., Ройтер Т. Теория и лексикографическое описание лексических параллелей. Харьков: Підручник НТУ «ХПІ», 2015. 148 с.
Дымшиц В. «Семья Машбер»: трудности перевода. URL: http://narodknigi.ru/journals/85/semya_mashber_trudnosti_perevoda/?sphrase_id=2421 (дата обращения: 23.10.2021).
Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Донецьк: ДонДУ, 1996. 437 с.
Латышев Л.К., Семёнов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: Академия, 2005. 192 с.
Райгоша В.П. Проблемы перевода с близкородственных языков. Белорусско-русско-украинский поэтический взаимоперевод. Минск: БГУ им. В.И. Ленина, 1980. 184 с.
Українсько-російський словник / Ред. Л.С. Паламарчук, Л.Г. Скрипник. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1986. 940 с.
Федченко В.В. Развитие видо-временной семантики у маркеров пассивного залога в идише // Вопросы языкознания. 2016. № 1. С. 94-113.
Шишигин К.А. Гибридизация языков: глагольно-префиксальная система идиша / Науч. ред. Н.Б. Лебедева. М.: Флинта; Наука, 2016. 208 с.
Шишигин К.А. Славянский адстрат в гибридной глагольно-префиксальной системе идиша // Русин. 2016. № 3 (45). С. 129-145. DOI 10.17223/18572685/45/10
Шишигин К.А., Лебедева Н.Б. Славянские языки как фактор гибридизации идиша // Русин. 2015. № 3 (41). С. 210-225. DOI 10.17223/18572685/41/15
Beider A. Yiddish in Eastern Europe // Languages in Jewish Communities, Past and Present / ed. by B. Hary, S.B. Benor. Berlin; Boston: Walter De Gruyter, 2018. P. 276-312.
Birnbaum S. A. Yiddish: A survey and a grammar. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1979. 399 p.
Brückner A. Słownik etymologiczny jęnzyka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. 822 s.
Duden. Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2001. 960 s.
Estraikh G. Soviet Yiddish. Language planning and linguistic development. Oxford: Clarendon Press, 1999. 217 p.
Gоłąb Z. The conception of “isogrammatism” // Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. 1956. Z. XV. S. 3-12.
Jakobson R. Preface to the first edition (1949) // Weinreich U. College Yiddish: An introduction to the Yiddish language and to the life and culture. New York: YIVO Institute for Jewish Research, 1995. P. 9-10.
Krogh S. Das Ostjiddische im Sprachkontakt: Deutsch im Spannungsfeld zwischen Semitisch und Slavisch. Tübingen: Max Niemeyer, 2001. 78 s.
Landau A. Di slavishe elementn un hashpoes in yidish // Shriftn fun yidishn visnshaftlekhn institut. Filologishe shriftn. 1928. Num. 2. Z. 199-214.
Lexer M. Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Stuttgart: Hirzel, 1992. 516 s.
Ludwig J. Z. Multiply-Prefixed Verbs in Russian, Polish, and Ukrainian: Doctoral dissertation. Bloomington: Indiana University, 1995. 210 p.
Mark Y. Gramatik fun der yidisher klal-shprakh. New York: Alveltlekher yidisher kultur-kongres, 1978. 407 z.
Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien: Wilhelm Braumüller, 1886. 555 s.
Podręczny słownik polsko-rosyjski z suplementem / Pod red. M.F. Rozwadowskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. 856 s.
Rothstein R.A. Yiddish Aspectology // Studies in Yiddish Linguistics / Ed. by P. Wexler. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1990. S. 143-153.
Schächter M. Aktionen im Jiddischen: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Wien: Universität Wien, 1951. 29 s.
Talmy L. Borrowing semantic space: Yiddish verb prefixes between Germanic and Slavic // Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society / eds. by M. Macaulay, et al. Berkeley, 1982. P. 231-250.
Timm E. Historische jiddische Semantik: Die Bibelübersetzungssprache als Faktor der Auseinanderentwicklung des jiddischen und des deutschen Wortschatzes. Tübingen: Max Niemeyer, 2005. 744 s.
Vaynraykh M. Vos volt yidish geven on hebreish? // Di tsukunft. 1931. Num. 36.3. Z. 194-205.
Vaynraykh M. Geshikhte fun der yidisher shprakh: bagrifn, faktn, metodn. New York: YIVO, 1973. Bd. I. 370 z.
Weinreich M. Geschichte der jiddischen Sprachforschung. Tampa: University of South Florida, 1993. 351 s.
Weinreich U. Modern English-Yiddish, Yiddish-English Dictionary. New York: YIVO; Shoken, 1977. 833 p.
Weissberg J.D. Der Aspekt in abgeleiteten jiddischen Verben. Dargestellt anhand der korrelierenden Konverben iber- und ariber-. Eine kontrastive jiddisch-deutsch-slawische Darstellung // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 1991. Jg. 58. S. 175-195.
Wexler P.N. Slavic contributions to the grammatical functions of three Yiddish verbal prefixes: Thesis for the degree of Master of Arts. New York: Columbia University, 1951. 55 p.
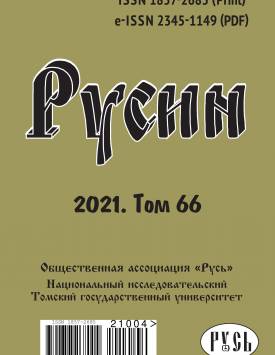

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью