Понятие «покорный» в истории русинского языка
Языковая репрезентация важнейших культурно значимых этических понятий находится в сфере интересов современного языкознания. Представлена история формирования понятия «покорный, подчиняющийся во всем, послушный» в русинском языке. Данное понятие выражают три русинских прилагательных - две однокоренные лексемы покорный, покорливый и резігнованый. Сравнительно-исторический и лингвогеографический анализ указанного синонимического ряда позволил выявить, что данное языковое выражение исследуемого понятия либо унаследовано из древнерусского лексического фонда (покорный), либо является церковнославянизмом (покорливый), либо заимствовано из польского языка (резігнованый). Понятие «покорный» в русинском языке изменилось в связи с развитием общества, что представлено в переходе к новым социальным отношениям. Унаследованное из древнерусского прилагательное покорный выражает насильственный отказ от прав вследствие силового воздействия, покорения; церковнославянизм покорливый выражает активное свойство, покорность, отказ по своей воле, заимствованный из западноевропейских языков адъектив резігнованый - уже добровольный отказ от своих прав, отражающий другое основание покорности.
The concept pokornyy in the history of the Rusin language.pdf Покорность - одно из культурно значимых этических понятий, характеризующих поведение человека, его отношения в социуме, следовательно, языковая репрезентация этого понятия находится в сфере интересов современных языковедов в различных аспектах. Чаще всего в современной лингвистике понятие / концепт «покорный / покорность» рассматривается как важнейший элемент языковой картины мира разных народов (славянских и неславянских). Например, в статье Д.И. Илиевой «Ядро концепта “власть” и его прия-дерная зона со смысловым концептом “подчинение” сквозь призму болгарских паремий» покорность рассматривается как фрагмент ядерной части концепта «власть», а именно концепт «подчинение» 2022. № 68 238 на материале болгарских фольклорных текстов. Болгарская лексика покоряване,покорност входит в достаточно большой ряд синонимов в значении подчинения, количество которого «свидетельствует о большом внимании, которое болгарское лингвокультурологическое сознание уделяет отношению зависимости и в этой связи - господству, власти» [7: 67]. Автор делает вывод, что в болгарских паремиях, репрезентирующих концепт «власть», находит отражение преимущественно приядерная зона «господство»; вторая приядерная зона - «подчинение» (куда входят и интересующие нас лексемы (по) кор- не отмечена развернуто). И.Е. Колесникова в работе «Особенности понятия “покорность” в украинской и английской лингвокультурах (на примере фразеологических единиц, выражающих черты характера человека)» обращается к интересующему нас понятию, но в других языках и на примере не лексических единиц, а фразеологических [10]. Русской и древнерусской лексике с корнем (по)кор- посвящена статья Н.В. Семеновой «Лексика самооценки в истории русского языка: покорность», где представлена история возникновения в русском литературном языке лексемы покорность и однокорневых образований в сопоставлении с другой лексикой самооценки (гордость, кротость, смирение и др.). Единицу покорность автор считает третьим промежуточным элементом триады «недолжное» (гордость) - «должное» (покорность) - «сверхдолжное» (смирение), «ярче всего отражающим лингвокультурные предпочтения русского человека» [15]. В статье Б. Тафры «Лексико-семантические связи в хорватском языке в диахронической перспективе» рассматривается процесс десинонимизации, когда некоторые члены синонимических пар могут употребляться как синонимы и как паронимы. В качестве одного из примеров автор приводит хорватскую пару прилагательных pokoran и pokorljiv, которые были синонимами, а в современном языке эта пара уже является паронимами [31: 867]. Такой исторический путь развития проходит эта пара и в других славянских языках, ср. рус. покорный и покорливый, которые еще в XIX в. были синонимами, сейчас являются паронимами. Если первый член этой пары - обозначение пассивного свойства, то второй - активного [31: 867]. Мы опирались, прежде всего, на выводы указанных работ Н.В. Семеновой и Б. Тафры, но рассматриваем лексику с корнем (по)кор- и другие лексические единицы как репрезентацию понятия «покорный, послушный» в другом восточнославянском языке - русинском. С целью выявить особенности формирования понятия «покорный» в русинском языке определим, когда и в связи с чем возникло данное понятие, самостоятельно или под влиянием других языков и культур, Лингвистика и язык 239 что именно и на каком этапе послужило мотивирующим признаком для каждого из его трех репрезентантов. Глубину формирования понятия можно выявить на основе анализа языковых данных с использованием, прежде всего, сравнительноисторического метода. Для этого мы обращаемся сначала к материалам русинского языка, потом - по мере необходимости - к данным родственных других восточнославянских, затем - контактных языков, далее всех остальных славянских языков. Лексические единицы для анализа набирались по «Русско-русинскому словарю» И. Керчи. В русинском языке понятие «покорный» выражают прилагательные покорный, покорливый, резігнованый [8: 118] и однокорневая им лексика. Доминантой указанного синонимического ряда является прилагательное покорный (оно указывается первым в словаре и выражает разные аспекты рассматриваемого понятия) [3: 306; 8: 118; 9: 161]. С целью выявить особенности формирования понятия «покорный» в русинском языке была проанализирована семантическая структура этих лексических единиц в истории данного языка. Покорный характеризует структуру анализируемого понятия как состоящего из признаков: ‘подчиняющийся во всем, послушный' (о человеке): Послушность л'і'пша, як добрый дар; слуга покорный (пей: несогласие). Дякую файненько! и ‘выражающий покорность’ [9: 161]. Прилагательное покорливый выражает признак ‘послушный, покладистый’ (а также наречие покорливо) как характеристику не социальных, а межличностных отношений [8: 118]. Контексты для русинского прилагательного покорливый не найдены, но есть для ряда однокорневых обозначений. Однокорневые покора, покорность, покорно также выражают признак послушания: покорно: Дякую дуже покорно Вашуй Ексцеленціі ‘Весьма покорно благодарю Ваше сиятельство’ [8: 118]. Производные покореня ‘покорение, действие по глаголу покорить’, покоритель ‘покоритель, тот, кто покорил кого-то’ обозначают активный признак и активного деятеля. Производящий для покорный глагол покориться имеет ту же семантику, что и в русском языке - ‘подчинить своей власти; заставить повиноваться’: 1830 року Франція покоряет Алгірію ‘В 1830 году Франция покоряет Алжир’ [8: 118]. В словаре И. Саба-доша, характеризующем лексику говора закарпатского села Сокир-ниця, глагол покоритися представлен в противоположном значении (возможно, это проявление диалектной энантиосемии) - ‘на какое-то время стать непокорным’: Моя дівка спершу покорилас’а, шчо не пуде за Йуру, а пакпушла [14: 249]. Этот пример является единичным, пока однозначно не можем его прокомментировать. 2022. № 68 240 Префиксальные упокоряти /упокорити ‘покоряться, пресмыкаться, поджимать хвост перед кем-то' и упокореня ‘унижение, пресмыкание' имеют семантику внешнего выражения подчинения [8: 500-501]. Поскольку данные истории русинского языка нам практически недоступны, с целью выявить истоки и глубину значения ‘покорный' следует обратиться к материалу других славянских языков. Русинский язык формировался в окружении таких славянских языков, как украинский, польский, словацкий, поэтому прежде всего следует в них посмотреть семантическую структуру прилагательных покорный и покорливый. В украинском представлен признак, характеризующий личную зависимость - покірний ‘послушный, который всегда покоряется, не перечит': А вже він такий був покірний та слухняний - що б йому жінка не звеліла, чи воно до ладу, чи ні, то так сааме й зробить // ‘выражающий покорность’: За селом над свіжою ямою сто'і'ть, покірна долі, тиха й добра Федорченкова мати. По-кірливий имеет такую же семантическую структуру, как и покорный: Лукина пішла через греблю з Іваном, наче покірлива овечка. Покір-ливи були, плохі, боялись кожного [6: 264; 25: 25-26; 27: 271-272], в староукраинском есть социальная характеристика - ‘вассально зависимый': Мы Стефан воевода... вызнавамы... аже... яко соут были и передкове наши... покорни коу... короунѣ полской, так и мы имаемь бытии (XV в.) [23: 179]. В словацком языке также представлен признак, характеризующий личную зависимость человека pokorny ‘покорный, смиренный' [22: 339]. В польском языке наблюдаются оба признака, как социального характера: ‘признающий чье-то превосходство', так и личностного: ‘униженный' как следствие покоренности, подчинения, ср. польск. pokorny ‘смиренный, покорный, кроткий', ст.-польск. pokorny ‘послушный, податливый, скромный' (о человеке): Niemasz miecza na pokornego... и выражающий покорность (о предмете): Pokornaprosba) [2: 723; 43: 325; 44: 361]. Причем более ранней является семантика покорности социального характера, в современный период в основном анализируемое прилагательное выражает личное смирение добровольного характера. Однокорневая лексика в этих трех контактных славянских языках, с одной стороны, развивает уже указанную выше семантику покорности личной и социальной (польск. pokora, как ‘послушность, так и ‘униженность, ‘акт публичного покаяния, просьба о прощении' с XVI в.) [2: 723; 37: 457], с другой стороны - и некоторые другие значения, например, ‘скорбь’ как чувство, сопровождающее покорность (польск. диал. pokora ‘скорбь’), покорения как преодоления чего-либо (pokorac, pokurac ‘справиться с чем-либо', ‘добиться чего-либо': Z ledwosciq poko-rasz colek ‘С легкостью справишься с чем-либо') [37: 457; 39: 225-226]. Лингвистика и язык 241 Для уточнения формирования семантики исследуемых прилагательных материал был рассмотрен в древнерусском языке, где зафиксированы оба прилагательных: покорный и покорливый. Слово покорный в древнерусском языке характеризовало социальную подчиненность человека под влиянием силы - ‘покорный, послушный, подчиняющийся чьей-либо власти': Феодоръ же... мня-шеть ни убо дьржащимъ ли помалу покорьномъ бывати, нъ глаше исповѣдания бжия предъ самѣми тѣми цсри.Ж. Феод. Студ. XII в. [17: 50; 21: 171], ср. пассивное причастие покоренный. Позже в старорусский период с XVI в. стало обозначать и личное - подчинение ‘послушный, почтительный', ‘выражающий покорность’ [21: 171]. Древнерусское покорливый развивает семантику личной покорности человека по доброй воле, в результате собственного выбора или признак активного характера - то, что может заставить стать покорным: ‘покорный, смиренный’ (о человеке): [Мария] вниде в манастырь ипострижеся иработаше съпокорливою братею, мнихомъ. Пролог. XIII-XIV вв., ‘способствующий покорности, заставляющий повиноваться’ (о предмете, явлении): Житие несквьрньно показавъ, учение покорьливо и млстивьныя щедроты на послушание. Мин. Ноябрь. 1097, ‘убедительный, заставляющий подчиняться убедительным доводам’ (о предмете, явлении): Обладаемыимъ же бещьствьемь и веденомъ нуждею и бѣдою, ключися убо даяти отьпущение, имѣти же и мѣсто клироса, паче яко отъветъ покорлив сътвориша. Евр. Корм. XII в. [17: 49; 21: 170]. Н.В. Семенова, сопоставляя древнерусские покорный и покорливый, утверждает: «Лексема покорный акцентирует уже совсем другой семантический компонент, чем покорливый. Это уже не самоподчинение (как ‘склонность к’), а подчинение под влиянием посторонней силы. Таким образом, если значения прилагательного покорливый дают основания говорить о добровольном подчинении, то семантика прилагательного покорный такую трактовку исключает: в языке XI-XVII вв. покорный - это: 1) ‘послушный, подчиняющийся чьей-либо власти’; 2) (с XVI в.) ‘выражающий покорность, смирение; почтительный’» [15: 29]. Слово покорливый является по происхождению церковнославянизмом, который имел в древнерусском более широкое хождение, чем покорный [12; 15: 29; 16: 597; 28: 127]. Церковнославянское происхождение адъектива покорливый объясняет его появление в русинском языке, поскольку в течение долгого времени литературным языком русинов был церковнославянский, и поэтому в русинском языке представлено большое количество церковнославянизмов [11; 30: 132]. Древнерусское словообразовательное гнездо (по)кор- является достаточно объемным (более 20 лексических единиц) и представляет 2022. № 68 242 семантику покорения, подчинения, смирения, послушания [15: 29; 17: 44-49; 21: 169-171]. Реже встречается также семантика речевого воздействия, порицания: покоръ ‘укор, упрек, порицание', покоровати ‘поносить, ругать, корить’ [17: 49; 21: 169-171]. В других славянских языках анализируемые прилагательные представлены в основном в тех же значениях, что и в русинском -‘послушный, податливый’, ‘выражающий покорность’ как выражение личного подчинения (укр., слвц. и польск. данные см. выше): болг. покорный, серб. покоран, рус. покорный: Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное и устаревшее покорливый: Аннушка, покорливая, серьезная - вся вылитая мать, блр. пакорны: Марыля была ціхая, пакорная работніца і жаль свой дзявочы хавала глыбока и пакорливы: Заусёды ціхая і пакорлівая, маці гаварыла на гэты раз гучна і рашуча, блр. диал. пакорны ‘послушный’: Такія пакорныя дзеці [1: 588; 20: 249-250; 24: 342; 32], чешск. pokorny ‘покорный, смиренный, безропотный’: pokorna prosba ‘покорная просьба’ [36: 70], кашуб. pokorni: Pokornijakbarank [45: 117]. Прилагательное покорливый представлено только в восточнославянском ареале, что поясняется заимствованием из церковнославянского языка. В русских народных говорах встречаются интересные значения, выбивающиеся из общеславянской семантической структуры анализируемого прилагательного: ‘имеющий какой-либо недостаток, изъян’ (тул.) и ‘необходимый, нужный’ (том.) [18: 396-397]. Второе значение приводится в СРНГ с вопросом, возможно, это какое-то вторичное сближение. Производное наречие покорно тоже имеет специфические значения ‘стыдно’: Ты дарись, моя радость, не скупись, чтоб головушке твоей было не покорно (калуж.), ‘о том, что подходит, пригодно’: Что к чему покорно: щи к пирогу, хлеб к молоку [18: 396-397]. Покорливый тоже есть в русских диалектах в том же значении, что и в других восточнославянских языках: ‘исполненный послушания, покорности, незлобивый’: Будь сердчушко покорливо (олон., онеж.) Моя головушка не покорливая и не поклончивая! (песня). Терек. [18: 397]. Диалектное существительное покор тоже имеет семантику ‘изъян’ (орл.): У другую диревню девки выхадили с пакоръми какими, а также встречающееся на обширной территории во всех группах говоров ‘стыд, позор, бесчестье’ (орл., новг., олон., арх., пенз., ряз., тул., моск., ворон., калуж., тобол., сиб., вят., груз. сср, тамб., дон.): Пакор, пакор, жэнщина так адета [18: 397; 19: 104]. Возможно, значения типа ‘изъян’, ‘стыд’ связаны с речевым значением ‘то, что нужно осуждать, порицать, ср. уст. покор ‘укор, упрек, позор’ и с другой приставкой - укор ‘упрек, порицание’. В сербском языке существительное покора выступает как ‘наказание, Лингвистика и язык 243 кара' [13: 1211], видимо, как словесное выражение крайней степени неодобрения, порицания. Производящий глагол покорити(ся) ^ праслав. *(po)koriti имел исходное значение ‘признать унижение, отречься от прав'. Праславянское *koriti в ЭССЯ характеризуется как «этимологически трудное слово», оно относится к сфере моральной и отрицательной экспрессивности устных действий (‘осуждать, хулить, оскорблять, унижать’), ср. также праслав. *ukorb, *ukoriti, *perkor [34: 305; 35: 75-76]. Развитие семантики анализируемого прилагательного, таким образом, по всей видимости, в славянских языках шло от речевого значения: ‘отрекающийся, отказывающийся (от прав), признающий унижение’ ^ ‘подчиняющийся (власти)’ ^ ‘послушный, покладистый’. Третье слово анализируемого синонимического ряда - прилагательное резігнованый, представлено в русинском языке в значении ‘покорный, безропотный, смиренный’. Контексты для прилагательного не найдены, но представлены для родственных репрезентантов понятия «покорный» - существительного резігнація и глагола резігновати, которые развивают семантику не только послушания, безропотности, но и отказа. В сочетании резігнаціяз чого существительное представлено в значении ‘отказ от чего, отставка’: Пишет пану Андрашови, обы резігнацію строны Бобовищ и Лавкы лелеську вуглядав ‘Сообщается господину Андрашу, чтобы он отыскал в лелесском архиве отказ со стороны сел Бобовищи и Лавка’. Глагол резігновати имеет значение ‘смиряться’ и тоже используется в сочетании з чого ‘отказываться от чего; оставлять/покидать что’: На вершиш своУкарьеры она нечеканно резігнуе из позваня до Лондона ‘На вершине своей карьеры она неожиданно отказывается от приглашения в Лондон’ [8: 262]. Данное прилагательное наблюдается и в контактных языках -словацком, польском, украинском. Адъектив резігнованый (отпри-частная форма) пришло в русинский язык из польск. rezygnowany. В польский и другие славянские языки этот материал был заимствован из европейских языков (фр. resignation, нем. Resignation. ‘покорность судьбе, смирение, безропотность’ ^ ср.-лат. resignatio ‘отречение’ ^ лат. re-signare ‘отменять, уничтожать, объявлять недействительным’ ^ ‘снимать печать, распечатывать, вскрывать’) [4: 834; 5: 48; 38: 1362]. В ряде других славянских языков (преимущественно западных) эта лексика также имеет семантику послушания и отказа от (части) своих прав в пользу другого (болг. резигнация ‘покорность, примирение с судьбой’, польск. rezygnowany, причастие от rezygnowac, rezygnowac ‘отказываться, отрекаться’, ‘смиряться, примиряться’, rezygnacja ‘отказ, отречение’, ‘смирение, покорность, слвц. rezignacia ‘отказ, отречение’, ‘покорность судьбе’, rezignovat ‘отказываться, уходить в отставку’, ‘по- 2022. № 68 244 коряться судьбе, смириться', чешск. rezignowany, resignowany ‘покорный, смиренный', rezignace, resignace ‘покорность, смирение', ‘отставка', rezignovati, resignovati ‘смиряться', ‘подавать в отставку', в.-луж., н.-луж. rezignacija, с.-хорв. pe3^Hau,uja, рус. уст. резигнация‘безропотное смирение, полная покорность судьбе', ‘отказ от личного счастья, отречение', укр. резігнация ‘полная покорность судьбе'), которая фиксируется в указанных славянских языках с начала XIX в. [1: 746; 2: 889; 5: 48; 22: 430; 26: 487; 33; 36: 241; 40: 504; 41: 34; 42]. В кашубском языке в связи с употреблением в сфере бытового общения семантика сузилась от ‘отказ' до ‘отказ размножаться'; rezegnovac ‘отказываться размножаться (о животных)': Nasa jedna svina rёzёgnёje [45: 328]. Итак, на основании рассмотренных языковых фактов можно сделать следующие выводы. Понятие «покорный» в русинском языке изменилось в связи с развитием социума, что отражает переход к новым социальным отношениям - вассальной зависимости. Если унаследованное из древнерусского языка покорный выражает насильственный отказ от прав вследствие внешнего силового покорения, церковнославянизм покорливый выражает активное свойство, покорность, отказ по своей воле, то пришедшее из западноевропейского мира резігнованый - уже отказ добровольный, отражающий другое основание покорности. Изменение семантики анализируемых единиц связано с экстралингвистическими данными. Крепостное право было не у всех русинов, но на интересующей нас территории Закарпатья крепостное право длилось с XVI в. до середины XIX в. [11; 29]. И в XIX в. появляются заимствованные лексемы с резігн-, отражающие уже новый вариант социальной зависимости. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ Арх. - архангельский; блр. - белорусский; болг. - болгарский; в.-луж. - верхнелужицкий; ворон. - воронежский; вят. - вятский; диал. -диалектный; дон. - донской; калуж. - калужский; кашуб. - кашубское; лат. - латинский; моск. - московский; нем. - немецкий; н.-луж. - нижнелужицкий; новг. - новгородский; олон. - олонецкий; онеж. - онежский; пенз. - пензенский; польск. - польский; праслав. - праславянский; орл. - орловский; рус. - русский; ряз. - рязанский; серб. - сербский; сиб. - сибирский; слвц. - словацкий; ср.-лат. - средневековый латинский; ст.-польск. - старопольский; с.-хорв. - сербскохорватский; тамб. - тамбовский; тобол. - тобольский; том - томский; тул. - тульский; укр. - украинский; фр. - французский; чешск. - чешский.
Ключевые слова
русинский язык,
славянские языки,
мотивация,
сравнительноисторическое языкознание,
этимология,
диахрония,
историческая лексикологияАвторы
| Толстик Светлана Александровна | Томский государственный университет | кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии | stolstik@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 1955. 972 с.
Гессен Д., Стыпула Р. Большой польско-русский словарь = Wielki słownik polsko-rosyiski. Москва: Рус. яз.; Варшава: Ведза Повшехна, 1967. 1344 с.
Горощак Я. Перший лемквско-польский словник. Pierwszy stownik lemkowsko-polski. Легница, 1993. 257 с.
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 12-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2009. 1055 [7] с.
Етимологiчний cловник украïньскоï мови = Этимологический словарь украинского языка: в 7 т. / голов. ред. О.С. Мельничук; укладачi Р.В. Болдырєв, В.Т. Коломiєць, Т.Б. Лукiнова. Т. 5: Р-Т. Киiев: Наукова думка, 2006. 704 c.
Желеховский Є. Малоруско-німецький словар. Ruthe-nian-deutsdhes Wörterbuch: в 2 т. Т. 2: П-Я. Львiв; Lemberg, 1886. 1117, [1] с.
Илиева Д.И. Ядро концепта «власть» и его приядерная зона со смысловым концептом «подчинение» сквозь призму болгарских паремий. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yadro-kontsepta-vlast-i-ego-priyadernaya-zona-so-smyslovym-kontseptom-podchinenie-skvoz-prizmu-bolgarskih-paremiy (дата обращения: 29.03.2022).
Керча И. Русинсько-російський словник. Понад 58 000 слів = Русинско-русский словарь. Свыше 58 000 слов: в 2 т. Т. 2: О-Я. Ужгород: ПолiПрiнт, 2007. 608 с.
Керча И. Російсько-русинський словник - 65 000 слів = Русско-русинский словарь - 65 000 слов: в 2 т. Т. 2: О-Я. Ужгород: ПоліПрінт, 2012. 596 с.
Колесникова И.Е. Особенности понятия «покорность» в украинской и английской лингвокультурах (на примере фразеологических единиц, выражающих черты характера человека) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12 (66): в 4 ч. Ч. 3. C. 116-118.
Лебедев С. Карпатская Русь. Этническая история. Русинский вопрос. URL: https://ruskline.ru/analitika/2014/02/04/karpatskaya_rus (дата обращения: 25.03.2022).
Поляков А.Е. Грамматический словарь церковнославянского языка (по материалам корпуса). URL: http://dic.feb-web.ru/slavonic/dicgram/1/0f.htm (дата обращения: 29.03.2022).
Руско-српски, српско-руски речник / приредио Р. Бошковић. Београд: Jacen, 2007. 1580 с.
Сабадош I. Словник Закарпатськоï говiрки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Лiраб, 2008. 480 с.
Семенова Н.В. Лексика самооценки в истории русского языка: покорность // Вестник Пермского университета. 2012. Российская и зарубежная филология. Вып. 1 (17). С. 25-32.
Словарь древнего славянского языка, составленный по Остромирову Евангелию. СПб., 1899. 946 с.
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / гл. ред. Р.И. Аванесов: в 10 вып. М.: Русский язык, 2004. Вып. 7. 505 с.
Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Сороколетов; ред. П.И. Павленко, Ф.П. Сороколетов: в 49 вып. Вып. 28: Подель-Покороче. СПб.: Наука, 1994. 401 с.
Словарь орловских говоров: Учебное пособие по русской диалектологии: в 15 вып. Орел: Орлов. гос. пед. ин-т., 1999. Вып. 10. 237 с.
Словарь русского языка: в 4 т. / ред. А.П. Евгеньева. 3-е изд., стереотип: в 4 т. Т. 3: П-Р. М.: Рус. яз., 1987. 752 с.
Словарь русского языка XI-XVII вв. / гл. ред. Ф.П. Филин; ред. Г.А. Богатова: в 31 вып. Вып. 16: Поднавѣсъ-Поманути. М.: Наука, 1990. 295 с.
Словацко-русский словарь. Около 45 000 слов = Slovensko - ruský slovník. Москва; Братислава: Рус. яз.; Словац. пед. изд-во, 1976. 768 с.
Словник староукраiньскоi мови XIV-XIV: в 2 т. Киiв: Наукова думка, 1978. Т. 2. 592, [1] c.
Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларуси i яе пагранiчча: в 5 т. Т. 3: М-П. Мiнск, 1982. 536 с.
Словник україньскоi мови: в 11 т. Т. 7: Поïхати-Приробляти / зав. ред. I.K. Бiлодiд. Киiев: Наукова думка, 1976. 724 с.
Словник україньскоi мови: в 11 т. Т. 8: Природа-Ряхтливый / зав. ред. I.K. Бiлодiд. Киiев: Наукова думка, 1977. 929 с.
Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала «Киевская старина»: в 4 т / ред. с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. Т. 4: О-П. Киев, 1909. 507 с.
Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.): Около 10 000 слов / ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова. М.: Рус. яз., 1994. 842 с.
Суляк С.Г. Русины: уроки трагической истории // Русин. 2008. № 3-4 (13-14). С. 7-34.
Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию: учеб. пособие для филол. спец. ун-тов. 2-е изд., перераб. Минск: Выш. шк., 1989. 480 с.
Тафра Б. Лексико-семантические связи в хорватском языке в диахронической перспективе // Лексикология и лексикография славянских языков. М.: ЛЕКСРУС, 2018. С. 846-875.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. URL: http://https://www.skarnik.by/tsbm/53505 (дата обращения: 29.03.2022).
Українська літературна мова на Буковині. URL: https://slovnyk.me/dict/bukovina/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%94 (дата обращения: 25.03.2022).
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд., стереотип. / пер. с нем. и доп. чл.-кор. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. проф. Б.А. Ларина: в 4 т. Т. 3: Муза-Сят. М.: Прогресс, 1987. 832 с.
Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / подгот. О.Н. Трубачев, В.А. Меркулова, Ж.Ж. Варбот и др.; под ред. О.Н. Трубачева: в 41 вып. М.: Наука, 1984. Вып. 11. 220 с.
Чешско-русский словарь = Cesko-ruský slovnik / под ред. Л.В. Копецкого и Й. Филипца: в 2 т. Т. 2: P-Ž. Москва: Советская энциклопедия; Praha: Stat. ped. nakl., 1973. 864 с.
Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo literackie, 2005. 863 s.
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Paris, 1883. V. 5.
Karłowicz J. Słownik gwar polskich: w 6 t. Т. 4: P. Kraków: Nakładem Akademji Umiejętności, drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagielloskiego, 1906. 466 s.
Kralik L. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda. 704 s.
Linde S.B. Słownik języka polskiego: w 6 t. T. 5: R-T. Warszawa, 1812. 704 s.
Słownik języka polskiego. URL: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/rezygnowac; 5490071.html; https://slovnyk.me/dict/bukovina/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D2%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%94 (дата обращения: 29.03.2022).
Słownik staropolski. Redaktor naczelny, kierownik S. Urbanczyk: w 11 t. Т. 6. Z. 5 (38): Pokolenie-Poradować. Wrocław; Warszawa; Krakow: Polska Akademia Nauk, 1972. 401 s.
Słownik polszczyzny XVI wieku: w 36 t. T. 26: Podoba-Polżyć/ redaktor tomu K. Wilczewska. Wroctaw; Warszawa; Krakow; Gdansk: Zaktad Narodowy im. Ossolinskich; Polska Akademia Nauk, 1988. 467 s.
Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej: w 7 t. T. 4: P-R. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1970. 433 s.
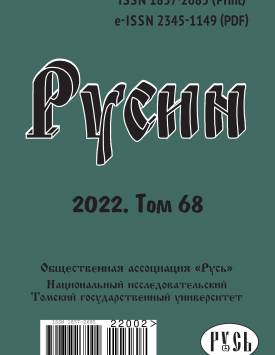

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью