Рассмотрены основные способы синхронного словообразования в русинском языке. Один из приоритетов современной лингвистики - динамический подход к изучению лингвистических объектов, который позволяет не только исследовать механизм словообразовательных процессов, но и обозначить тенденции языковой эволюции в целом. Вплоть до середины XX в. лингвисты не выделяли словообразование как самостоятельную область языкознания. Все аспекты словообразования рассматривались в рамках других областей - лексикологии и морфологии. На современном этапе развития лингвистики словообразование имеет статус самостоятельной науки, тесно связанной с другими лингвистическими дисциплинами - такими, как морфология, лексикология, семантика, фонология и др. Большое внимание уделяется флективным языкам с богатой системой средств и способов словообразования; именно такими являются славянские языки (русинский, словацкий, русский). Современные исследования ориентируются на живые словообразовательные процессы в языке, семантические отношения производящего и производного слов, т. е. на проблему уровня синхронной мотивированности производных слов. Теоретические основы словообразования русинского языка опираются на теорию образования слов словацкого лингвиста Ю. Фурдика, который назвал науку о словообразовании дериватологией. Истоки терминологических понятий науки об образовании слов русинского языка (например, мотівація, тinы мотівації, мотівант, мотіват и др.) также есть в концепции Фурдика. На наш взгляд, исследовать словообразовательные процессы важно, поскольку это впоследствии поможет в решении морфонологических, морфологических, лексических и других вопросов в синхронном и диахронном аспектах языковой системы.
Analysis of word-formation methods and types in the Rusin language.pdf Методологическая база русинской дериватологии В русинском языке словообразование является важнейшей отраслью уровневой лингвистики наряду с фонологией, лексикологией, морфологией и синтаксисом. Исследование современного русинского кодифицированного языка связано с научным описанием словообразовательных процессов в системе языка, которые тесно связаны как с лексикой, для пополнения которой они служат, так и с грамматикой, в соответствии с которой оформляется каждое появляющееся в языке слово. На развитие словообразования русинского языка как науки повлияли теоретические исследования ученых-словакистов, особенно Ю. Фурдика, яркого представителя лингвистики конца 1990-х гг. Долгое время занимаясь исследованием словообразования лексических единиц (см. труды: «О suCasnych smeroch slovotvorneho vyskumu» (Furd^k 1969), «Zo slovotvorneho vyvoja slovenCiny» (Furd^k 1971), «Supis prac profesora Juraja Furd^ka za roky 1995-2002» (DvonC 2002), «Slovenska slovotvorba. (Teoria, opis, cviCenia)» (Furd^k 2004) и др.), Ю. Фурдик ввел понятие дериватология (словац. derivatologia / nauka o tvorenf slov / nauka o slovotvornej motivacii / slovotvorba) (Furd^k 2004) для обозначения науки об образовании слов и выделил дериватологию / мотиватологию (derivatologiu / motivatologiu) в качестве отдельной лексикологической дисциплины. Размышляя над ними, лингвист предпочитает использовать термин дериватоло-гия, считая мотивологию малообоснованным термином: «...термин мотивация касается не только словообразовательной мотивации, но и парадигматической, фонической, семантической, синтаксической, фразеологической мотивации. Поэтому дериватология подходит больше, так как в словацком языке центром словообразовательной системы является именно проблема производности / деривации» (Furd^k 1995-1996). Ю. Фурдик приводит еще один аргумент в пользу дериватоло-гии: «термин "мотивология" еще нигде не использовался» (Furd^k 356 JF’v/’iTHTBC-fl 2019, № 55 1995-1996). Несмотря на то что словацкий лингвист опирался на труды известного чешского дериватолога М. Докулила (Dokulil 1963; Dokulil 1968), Фурдик изучал и работы по словообразованию русских ученых, которые в начале 70-х гг. XX в. nиcали о проблеме мотивированности: «...70-80-е гг. XX в. получили такие характеристики, как "словообразовательный бум", "паронимический взрыв", "лексикографическая вспышка" и др.» (Блинова 2007: 3). О.И. Блинова в 1974 г. защитила докторскую диссертацию, в которой были «определены в лексикологическом ключе исходные понятия мотивологии, проанализированы лексические процессы, обслуживающие тенденции к мотивированности и произвольности языкового знака, обращено внимание на функции внутренней формы слова. В качестве одного из приложений к диссертации был предложен фрагмент толкового мотивационного словаря» (Блинова 1974: 4). Ранее, в 1966 г., в «Основах построения описательной грамматки современного русского литературного языка» (Шведова 1955: 57) были введены термины «мотивированные слова» и «мотивирующие слова» как центральные понятия словообразования. Данное лингвистическое нововведение, однако, не было зафиксировано в исследовании Ю. Фурдика 1969 г. под названием «О sucasnych smeroch slovotvorneho vyskumu» (Furd^k 1969). В этой работе ученый подробно проанализировал зарубежные научные направления в изучении словообразования лексем, уделил внимание польской, американской, а также русской словообразовательным школам: «Советские авторы обращают внимание, главным образом, на определение словообразовательного типа, который понимали как основную единицу классификации словообразовательной системы (Винокур, Левковская, Ковалик»1. В статье также упоминается «проблема бинарности словообразовательных структур, продуктивности словообразовательных приемов (Шанский, Смирницкий, Нещименкова)» (Furd^k 1969: 67). В своих работах Фурдик определяет предмет дериватологии, который касается словообразовательной системы языка (словац. slovotvornomotivacny / slovotvorny system), лексический запас языка, единицы которого связаны посредством словообразовательной мотивации (Furd^k 2004). Термин slovotvorna motivacia становится основообразующим понятием дериватологической концепции лингвиста, под которым он понимает единство трех компонентов: процесса, связи и свойства. Предметом изучения синхронного словообразования являются мотивированные слова. Процесс осмысления мотивированности слова в русинском и словацком языках и связанных с ним научных понятий опирается на три основных принципа: antropomorfizacia (аналогия с человеком: Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 357 язык - это человеческий продукт; сравнение лексической единицы с человеком как личностью и всей лексики с человеческим обществом), parametrizacia (каждая единица имеет собственные параметры: 1) часть речи и ее грамматико-семантическая характеристика; стилистическая характеристика; 2) мотивированность - немотивирован-ность; 3) мотиватор (-ы) (словац. motivant, русин. мотівант); часть речи мотиватора, его грамматико-семантическая характеристика, мотивированность - немотивированность; дополнительная стилистическая характеристика мотиватора; отношения мотиватор - мотивема (словац. motivat, русин. мотіват); характер мотивемы (motivate); 4) словообразовательная основа (словац. slovotvorny zaklad, русин. словотворна основа, т. е. основа мотівуючого слова); морфонологическая вариантность; соединительная морфема (при композитах); 5) словообразовательный формант (словац. slovotvorny formant, русин. формант); тип форманта; вариативность форманта; 6) словообразовательный способ; 7) словообразовательный образец; 8) мотивационное значение; 9) словообразовательное значение; 10) принадлежность к ономасиологической категории; 11) тип ономасиологической категории; 12) примеры слов словообразовательного типа; 13) мотивационная интенция, место слова в словообразовательном гнезде; 14) общая характеристика (Furd^k 2004: 126-137) и мотивация (словац. motivacia, русин. мотівація) (Furd^k 2008: 28). О.И. Блинова также выделяет три принципа мотивологического исследования: «... принцип антропоцентризма (учет осознания мотивированности слова носителями языка), принцип синхронности (поскольку мотивация слов - синхронное явление), принцип системности (мотивационные отношения - один из видов системных связей ЛЕ)» (Блинова 2007: 15). Первый принцип - антропоцентрический. Его как Ю. Фурдик, так и О.И. Блинова считают ключевым принципом «мотивологического и иного исследования посредством обращения к метаязыковому сознанию говорящего, носителя языка» (Блинова 2007: 267). Итак, многие идеи концепции Ю. Фурдика не были новыми, но, как справедливо замечает М. Олоштяк, «оригинальность и иновативность словообразовательной концепции "мотиватолога"-Фурдика состоит в том, что он один из первых системно анализирует, описывает и объясняет функционирование и динамику лексической системы» словацкого языка (Furd^k 2008: 12). При исследовании словообразования с применением синхронного метода возникает возможность описывать живой язык в сознании его носителей, поэтому «задача синхронных исследований состоит в изучении многомерных мотивационных отношений, в постановке объективных критериев для их определения» (Furd^k 2005: 58). 358 Дериватема как основная единица русинского В русинской словообразовательной науке2 основной единицей словообразо-ваниясявлется « деріватема», т. е. лексическая единица как составная часть слово-слзібРазОв^ітел^ь^іай ият^і^.лци’ся р1екОвсіп'^(;ма,-5. е.ліексо^'бесз^івя едіннис^ір у^как со^т^аде^;^^ ^г^с^ыьс^к^ок^(злС^|л^зсв;^’^ес^1эНО|Т с^отиіскк^ил (С^І^іеЛ^і^^й К^ІЗКС^: 15ітіждестсляемійзс мітсслнтім без егі гелммлтсчес ксхем іефем,ус сл іс і ібелз і-и она состоит из словообразовательной основы, отождествляемой с мослНелін іг іф іемлнНл.грамматических морфем, и словообразовательного фДлнные Нспы деесслНем сыделены нл схеме 1: Данные типы дериватем выделены на схеме 1: Схема 1. Типы1 дериватем . Источники: Furd^k 2004: 29; Pliskova 2015: 151. Как показывает схема, дериватемы - это не только производные сложные слова / композиты, но и их мотиванты, независимо от того, являются ли они мотивированными6словами, одноструктурными или составными. Образование односоставных мотивированных слов реализуется двумя основными способами3: а) образованием (одводжованём / деривацией / деріваціов); б) сложением, соединением (складанём / композитным способом словообразования / композіціов). В русинском языке выделяют несколько способов словообразования: а) деривационный / дерівачный - к одной словообразовательной основе прибавляется один или больше словообразовательных формантов: писа-тель, Під-карпат-я; Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 359 б) композитный способ / композічный - сочетаются две основы или слова: благожеланя,лїт-о-пис, кул-ё-мет, кам1н-ё-лом; чорно-бкпый, кіловат-година; в) комбинированный / комбінованый (композічно-дерівачный) - в одном словообразовательном действии связываются две основы с формантом: сто років сто-роч-а, лапати мухы мух-о-лап-ка. Типы словообразования русинского языка с учетом характера дериватора Типы словообразовательно-мотивационной системы языка4 (русин. словотворно-мотівачна / словотворна сістема языка) выделены на основе концепции словацкого ученого Ю. Фурдика: выделяются словообразовательные типы в соответствии с типом форманта, прибавляющимся к словообразовательной основе. Словообразовательные типы в русинском языке изображены на схеме 2: суфіксація сінтетічн^і префіксація трансфлексія просты аналітічн^і рефлексівізація ДЕРІВАЧН^І ПОСТУПЫ 'інтетічны комбінованої рефіксація + трансфлексія рефіксація + суфіксація аналіті суфіксація + рефлексівізація префіксація + рефлексівізація ансфлексія + рефлексівізація префіксація + трансфлексія + рефлексівізація префіксація + суфіксація + рефлексівізація Схема 2. Словообразовательные типы на основе типа форманта. Источники: Furd^k 2004: 65; Плишкова 2011:71. 360 JF’v/’iTHTBC-fl 2019, № 55 В русинской классификации выделяются простые и комбинированные, синтетические и аналитические группы формантов, внутри которых находятся многочисленные типы словообразовательных формантов. Самым продуктивным способом словообразования в русинском языке является суффиксация, т. е. присоединение суффиксов к корням и основам слов. Суффиксация - это простой синтетический дерива-ционнный способ, доминирующий при образовании субстантивов (Плишкова 2011: 70). С точки зрения синхронии, русинский язык для образования субстантивных дериватов использует несколько десятков суффиксов, таких, как -ок, -ар', -ач, -ак, -ик, -ник, -ан(-чан), -ец', -тел', -іц'(а), -к(а), -ічк(а), -ба, -ко, -а, -ча, -ин(а), -иск(о), -ищ(е) и мн. др. В процесс заимствования и адаптации чужих словообразовательных формантов используются следующие суффиксы: -іста, -ант, -ат, -ер, -ор, -ія и др., а также префиксы: анті-, архі-, діс-, де-, віце- и др. (Ябур, Плїшкова 2009: 125-135). Среди других деривационных способов словообразования субстантивных дериватов можно выделить такие, как: а) префиксация - образование дериватов, при котором новое слово образуется путем присоединения приставки: під-плуковник, екс-прі-матор, не-шофер, перед-слово, при-спів, над-вага и др.; данный способ доминирует при глаголах: писати - на-писати, спати - пере-спати, летїти - вы-лет/ти; б) трансфлексия - словообразование при помощи комплекса грамматических (соединительных) морфем, выполняющих роль словообразовательного форманта; для обозначения трансфлексии в лингвистике используется также термин конверсия, т. е. образование путем нулевого суффикса (безаффиксное словообразование); в) универбизация - создание одного слова из словосочетания при помощи суффикса: мінерална воДа мінерал-ка, учітель математікы математік-арь, асфалтова путь асфалт-ка и др.; г) рефлексивизация - добавление возвратного местоимения или аффикса ся, собі/сі; Данный аналитический способ может быть одноструктурным: мыти мыти ся, любити любити ся, или комбинированным: бавити за-бавити ся, повісти од-повісти собі/сі; д) конфиксация - комбинированный способ деривации, при котором используются двойные, иногда тройные форманты в одном словообразовательном действии. Среди комбинированных формантов выделяются: - префиксально-суффиксальный способ деривации (комбинация префикса и суффикса): груДь - по-груД-ніця, путь - рос-пут-я; Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 361 - префиксально-трансфлексный способ (префикс и грамматическая морфема): червен-ый с-червен-ї-ти, садити - по-сад-и-ти; - префиксально-рефлексивный способ (префикс плюс самостоятельная морфема ся, собі/сі):жыти До-жыти ся, позерати по-позерати собі/сі; - суффиксально-рефлексивный способ (суффикс плюс самостоятельная морфема ся, собі/сі):лижы лиж-овати ся, білый біл-и-ти собі/сі; - трансфлексно-рефлексивный способ (грамматическая морфема плюс самостоятельная морфема ся, собі/сі): приятель-0 приятел-и-ти ся, сіль-0 - сол-и-ти собі/сі; - префиксально-трансфлексно-рефлексивный способ (префикс, грамматическая морфема и самостоятельная морфема ся, собі/сі): крив-ый с-крив-и-ти ся, роб-и-ти по-роб-и-ти собі/сі; - префиксально-суффиксально-рефлексивный способ (префикс, суффикс и самостоятельная морфема ся, собі/сі): співати по-спів-овати собі/сі, хмара за-хмар-и-ти ся (Pliskova 2015: 172). К самым продуктивным способам образования девербативных, десубстантивных и деадъективных субстантивов относятся: - девербативный: біг-а-ти біг-0 Р(Р - нулевая морфема), крич-а-ти крик-0, плак-а-ти плач-0, гр-а-ти гра-0 и др.; - десубстантивный: кум-0 кум-а, сусїд-0 сусїд-а, камінь-0 камін-я, ґеоґраф-ія ґеоґраф-0 и др.; - деадъективный: стар-ый стар-оба, добр-ый добр-ота, лїнив-ый лїнив-ство, чорн-ый чорн-іця и др. Среди продуктивных способов образования других частей речи находятся следующие: - десубстантивные адъективы: злат-о злат-ый, здрав-я здрав-ый; - десубстантивные глаголы: кос-а кос-и-ти, жаль-0 жал-ї-ти; - деадъективные глаголы: біл-ый біл-и-ти, ясн-ый ясн-ї-ти; - девербативные глаголы: бити за-бити, быти пере-быти, жыти про-жыти, лячі з-лячі и др. - деадъективные наречия: красн-ый красн-о, прост-ый прост-о; - денумеральные порядковые числительные: вісем-0 восьм-ый, десять-0 десят-ый. Поскольку суффиксальный способ словообразования в русинском языке является одним из самых продуктивных, рассмотрим морфе-матическую структуру слов: выхователь / выхователька (русин.) / vychovavatel/vychovavatelka (словац.) / воспитатель/воспитатель-ница (рус.). Морфематическая структура слова многоступенчатая, 362 JF’v/’iTHTBC-fl 2019, № 55 словообразовательная структура дериватемы двухсоставная (бинарная). Строение слова по морфемам (лексема словацкого языка): vy-chov-av-a-tel'-k-a: vy- префиксально-деривационная (слов. prefixalna derivаCna), -chov- корневая (слов. korenova), -av- модификационная (слов. modifikacna), -a- тематическая (tematicka), -tel- деривационая (слов. derivacna1), -k- деривационная (слов. derivacna), -а- релационная (слов. relacna2). Строение слова по морфемам (лексема русинского языка): вы-хов-а-тель-к-а подобно словацкому. Строение слова по морфемам (лексема русского языка): воспит-а-тель-ниц-а: [воспит] корень + [а] суффикс + [тель] суффикс + [ниц] суффикс + [а] окончание. Таким образом, пример свидетельствует о производном словообразовании, т. к. оно образовано одним суффиксальным способом. Русское слово имеет простую основу слова (один корень), она производная, членимая (есть словообразовательные аффиксы). С точки зрения словообразования, слово выхователька делится на две части: словообразовательную основу выхователь (мотивант без грамматических морфем) и словообразовательный формант -ка (суффиксально-деривационная морфема и флексивная морфема), показывающий на лицо женского пола. В словацком и русинском языках формант используется для образования женского рода от существительных мужского рода (словац. prechylovaf): riaditel- riaditelka; doktor - doktorka, lekar - lekarka, manzel - manzelka. В словацком и русинском языках в словообразовательном процессе участвуют пять аффиксальных морфем. В русском эквиваленте не присутствует префиксальная морфема, а есть корневая и четыре аффиксальных морфемы. С точки зрения словообразования, лексема воспитательница делится на две части: словообразовательную основу воспитатель (мотивант без грамматических морфем) и словообразовательный формант -ница (суффиксально-деривационная морфема и флексивная морфема). Суффикс -ниц-a, во-первых, обозначает лицо женского пола; во-вторых, при помощи его образуются существительные для обозначения лиц женского пола по их отношению к профессии, учреждению, роду занятий и т. д. (воспитательница, учительница, писательница, работница); в-третьих, суффикс -ниц-а присоединяется непосредственно к существительным мужского рода на -тель или заменяет суффикс мужского рода -ник (с чередованием к/ц) (Валгина 2002: 128). Интересным случаем в словацком, русинском и русском языках являются способы словообразования отглагольных существительных, Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 363 т. н. общих синонимов, у которых очень похожая словообразовательная структура, но они отличаются формантами. Эту вариативность плана выражения сопровождает вариативность плана содержания; речь идет о связи словообразующей синонимии со ступенчатостью лексиколизацией слова. Например, тип - производитель действия. К нему можно отнести слова из словацкого языка pisatel' (автор любого письменного высказывания) - pisar. Словацкая лексема pisatel (в переводе на русский: автор, создатель) в «Словаре современного словацкого языка» толкуется как автор любого письменного высказывания (Buzassyova, Jarosova 2011: 87), а русское слово писатель (переводим на словацкий как spisovatel), согласно комментарию «Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой», - это человек, который занимается литературным трудом, пишет художественные литературные произведения (Ожегов, Шведова 2006: 518). В близкородственном русинском языке также есть лексема писатель (русинский синоним повідкарь), которая имеет то же значение, что и в русском языке. Формы слов pisatel и писатель тождественны в словацком, русском и русинском языках, но у них разное значение. Эти лексические единицы могут вызывать у носителя языка в контексте языковых контактов неправильные ассоциации. Данное явление мы относим к cлавянской межъязыковой омонимии. Но поскольку расхождение в плане содержания наблюдается в отдельных оттенках значения или в сфере употребления, то некоторые авторы для обозначения явлений подобного рода предпочитают использовать термин межъязыковые квазисинонимы (Buzassyova 1997: 73). Вторая словацкая лексема - pisar (русский эквивалент: переписчик, писарь, (истор.) писец) обозначает лицо, переписывающее, например, документы, указы и др. (Buzassyova, Jarosova 2011), в русинском языке присутствует синонимичная лексема писарь (писарька), в русском языке лексема писарь имеет ту жє форму и значение, что и в вышеупомянутых славянских языках. Словацкие лексемы pisatel и pisar имеют одинаковое общее словообразовательное значение, но они отличаются частичными словообразовательными значениями, которые можно описать путем сопровождающих (дифференциальных) признаков (Buzassyova 1974). Слова различаются прежде всего по принципу лексической мотивации, вытекающей с различного объекта действия (противоположность окказиональной и постоянной деятельности). По словам К. Бузашшиовой (Buzassyova 1974: 87), такие же отношения имеют место между префиксальными дериватами: odpisovatel (тот, кто списывает, воспроизводит что-то) / рус. списчик (вагонов), списатель 364 JF’v/’iTHTBC-fl 2019, № 55 (церк.), писатель, сочинитель, списчик, -чица, списыватель - odpisovac, prepisovatel' - prepisovac (переписчик древних документов) / переписчик (составитель рукописных книг, писец - устар.; в наше время чаще всего используется для обозначения переписчика VHS-кассет; тот, кто занимается переписью населения). Итак, при словообразовательном анализе необходимо учитывать основную парадигматическую мотивацию, а также лексическую, звуковую, семантическую, синтаксическую и фразеологическую. Все типы взаимообусловлены и cинергетически взаимодействуют. На основе вышесказанного можно констатировать, что русинский язык имеет пестрый набор словообразовательных суффиксов. Набор словообразовательных основ обширен, открыт, но переменчив. Словообразовательные форманты также представляют богатый комплекс, но он относительно ограничен и изменяется в течение длительного времени. Их количество сложно точно подсчитать. Иногда даже трудно установить, когда это самостоятельный формант, а когда условный вариант. Во внимание необходимо принимать и динамические процессы заимствования, и адаптацию чужих формантов вместе с новыми лексемами. Заключение В данной статье мы выявили методологические предпосылки исследования словообразования в русинском языке, используя научные концепции словацкого и русского словообразования (Не-щименко 1987). Русинская дериватология является самостоятельной и активно развивающейся наукой, которая использует знания других дисциплин: фонетики, семантики, морфологии, синтаксиса, фразеологии, ономастики. Основной единицей словообразования является дериватема (деріватема), причем понимается в широком смысле слова и как мотивант, и как мотиват. В узком смысле дери-ватема используется только для обозначения дериватов и сложных слов (композитов). В словацко-русинской терминологии термин slovotvorna motivacia / словотворна мотівація становится основополагающим понятием дериватологической концепции. В русской теории словообразования используются термины мотивология, мотивированность, мотиват, мотивант, мотивема (мотивируемое слово). В близкородстевенных языках практически каждое полнозначное слово может вступать в мотивированные отношения как основное слово / zakladove slovo (motivant / мотівант) или как составное слово / zlozene slovo (mo-tivovane slovo / мотівоване слово, motivat / мотіват). Основное сло- Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне 365 во не обязательно должно быть мотивированно. Основным типом мотивированного отношения является такое отношение, в котором мотивантом является немотивированное слово. Русинский язык Восточной Словакии богат словообразовательными формантами аффиксного типа, который свойствен всем славянским языкам. Это свидетельствует об их генетической связи. К общеславянским явлениям относятся аффиксация (в виде префиксации, суффиксации и префиксально-суффиксации типа робити - переробити, млин - млинарь, путь - розпутя), конверсия морфологических форм (бігати - біг, кричати - крик), сложение (лїтопис, кулёмет, горїзнач), и аббревиация. Суффиксальный способ словообразования в русинском языке касается таких названий, как лицо, конкретные предметы, явления. В русинском языке развиты словообразовательная система и ономасиологические категории. Передаваемые структуры знаний между коммуникантами связаны с определенными словообразовательными конструкциями. Словообразовательная среда, по-мнению Е.С. Кубряковой, работает как среда порождающая, в которой «каждая единица способна не только к простому ее воспроизведению в тексте, но и к аналогическому ее повторению в серии единиц» (Кубрякова 2004: 393). Производное слово выступает как единица хранения, «извлечения, получения и систематизации нового знания» (Кубрякова 2004: 393). К основным словообразовательным признакам русинского языка относится деление всех слов на корневые (непроизводные, словообразовательно немотивированные) и производные (мотивированные). Например, в русинском языке слово лавочка мотивированно словом лавка; слово гуслярь - словом гуслї; слово чорнявый - словом чорный; слово присїсти - словом сїсти. При сравнении словообразовательного процесса слов выхователь-ка/vychovavatelka/воспитательница в словацко-русинско-русском плане был выявлен словообразовательный формант - суффикс -к-а, суффикс -ниц-а, указывающие на лицо женского пола и на отношение к профессии. Единицы русинского и словацкого языков в данном случае демонстрируют близость способа словообразования. Таким образом, рассмотренный нами материал позволяет сделать вывод, что русинский язык имеет очень богатую систему суффиксов, которая по развитости и когнитивному потенциалу превосходит систему префиксов. У каждой части речи имеется собственный набор суффиксов, которые выполняют в этом случае свои понятийно-когнитивные функции. Самую разнообразную и богатую систему суффиксов имеет имя существительное. 366 JF’v/’iTHTBC-fl 2019, № 55 ПРИМЕЧАНИЯ 1. Sovietski autori venovali pozornosf najma vymedzeniu pojmu slovotvorneho modelu (typu), v ktorom videli zakladnu klasifikacnu jednotku slovotvorneho systemu (Vinokur, Levkovskaja, Kovalyk) (Furdik 1969: 67}. 2. В словацком языкознании словообразовательно мотивированное слово - это билатеральная, формально-семантическая лексическая единица (Olostiak 2017: 46). 3. Первую развернутую классификацию способов образования в русском языке предложил В.В. Виноградов: а) морфологическое словообразование; б) морфолого-синтаксическое словообразование (синхронный подход); в) лексико-синтаксическое словообразование (диахронный подход); г) лексико-семантическое словообразование (диахронный подход) (Белошапкова 1989: 318-319). 4. С учетом характера дериватора в русском языке выделяют следующие типы словообразования: суффиксация, префиксация, постфиксация, префиксально-постфиксальный, суффиксальный-постфиксаль-ный (Шведова 1980: 139). П.А. Лекант строит классификацию типов словообразования в плане синхронии с учетом характера форманта: 1) аффиксальные: префиксальный, суффиксальный, постфиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксально-постфиксальный, суф-фиксально-постфиксальный, префиксально-суффиксально-постфик-сальный; 2) безаффиксные - с дериватором «операционного» типа: конверсия, сокращение, сложение (чистое сложение, аббревиация, словосложение, сращение); 3) смешанные: префиксально-сложный, суффиксально-сложный, сложение с префиксацией и суффиксацией, сращение суффиксацией, сокращение с суффиксацией, сокращение с префиксацией и суффиксацией (Лекант 2007: 212).
Белошапкова В.А. (отв. ред.). Современный русский язык. Издание второе, испр. и доп. М.: Высш. шк., 1989. 800 с.
Блинова О.И. Проблемы диалектной лексикологии. Томск, 1974.
Блинова О.И. Мотивология и ее аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. 394 с.
Валгина Н.С. Современный русский язык: учеб. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2002. 528 с.
Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 c.
Лекант П.А. (отв. ред.). Современный русский язык: учеб. для студет. вузов. М.: Дрофа, 2007. 557 с.
Нещименко Г.П. (отв. ред.) Сопоставительное изучение словообразования славянских языков: материалы симп. 4-7 дек. 1984 г. М.: Наука, 1987.
Ожегов С.И., Шведова H.Ю. Toлковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2006. 944 с.
Плишкова А. Найфреквентованїшы словотворны поступы субстантівных деріватів // Literárna tvorba M. Maľcovskej v kontexte súčasnej rusínskej literatúry: zborník príspevkov z Medzinárodného literárneho seminára k nedožitým 60-tym narodeninám autorky, 2 decembra 2011 / ed. М. Beňková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove - Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2011. S. 68-80.
Шведова Н.Ю. (ред.) Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. М.: Наука, 1955. 211 c.
Шведовa Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т. 1.
Ябур В., Плїшкова А. Сучасный русиньскый списовный язык. Пряшів: Пряшівска універзіта в Пряшові - Інштітут русиньского языка і културы, 2009.
Buzássyová K. Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava: Veda, 1974. 235 c.
Buzássyová K. Lexikálna synonymia v slovníkovom spracovaní // Slovenská reč. 1997. Roč. 62, č. 2. S. 72-79.
Buzássyová K., Jarošová A. (Eds.) Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: VEDA, 2011. 1087 s.
Dokulil M. Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“ // Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 1963. Roč. 24, č. 2. S. 85-105.
Dokulil M. Stav a úlohy zkoumání morfologické stavby současné češtiny. In: Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1968. Roč. 39. S. 231-236.
Dvonč, L. Súpis prác profesora Juraja Furdíka za roky 1995-2002 // Slovenská reč. 2002. Roč. 67, č. 6. S. 371-374.
Ološtiak M. Slovotvorba, slovnodruhové prechody, preberanie a skracovanie lexém. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. 120 s. URL: http: //www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak11 (дата обращения: 8.11.2018).
Plišková A. Lexikológia a slovotvorba rusínskeho jazyka. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove - Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015. 194 s.
Furdík J. O súčasných smeroch slovotvorného výskumu // Jazykovedný časopis. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1969. Roč. 20, č. 1. S. 63-78.
Furdík J. Zo slovotvorného vývoja slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971. 81 + 2 s. V rozšírenej podobe publikované // Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin / Eds. M. Ološtiak, L. Gianitsová-Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG, 2005. S. 39-186.
Furdík J. Prednášky. Teória tvorenia slov. Prešov, 1995-1996.
Furdík J. Slovenská slovotvorba. (Teória, opis, cvičenia) / Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka, 2004. 200 s.
Furdík J. Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin / Ed. Martin Ološtiak a Lucia Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Vydavateľstvo LG, 2005.
Furdík J. Teória motivácie v lexikálnej zásobe / Editor: Mgr. Martin Ološtiak. Prešov: Vydavateľstvo LG, Košice, 2008. 95 s.
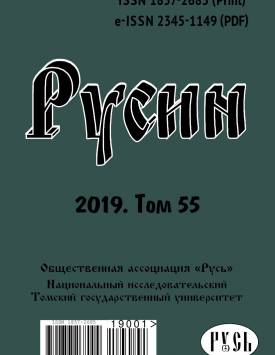

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью