Исследуется малоизученный аспект религиозной жизни в Омске в период Первой мировой войны, связанный с массовыми обращениями в православную веру военнопленных русинов - бывших солдат и офицеров австро-венгерской армии. Источниковой базой исследования послужили репрезентативные по заявленной проблеме журнал «Омские епархиальные ведомости» и актовые записи метрических книг православных храмов Омска за 1915-1917 гг. Антропологический подход, проблемно-хронологический и историко-сравнительный методы составили методологическую основу исследования. Данная теоретическая комбинация позволила максимально подробно изучить феномен массовых присоединений военнопленных русинов к православию, увязывая это явление с конкретно-исторической обстановкой и личностями церковных иерархов, служивших в Сибири. Авторы приходят к выводу об «омском феномене» присоединения к православию русинов благодаря подвижнической деятельности радевших за дело миссионеров Омской и Павлодарской епархии, которых возглавлял епископ Сильвестр (Ольшевский). При этом подчёркивается, что динамичное развитие этого процесса обеспечивалось господствовавшей в Российской империи официальной идеологией, основывавшейся на православных ценностях. Идеологический фактор при переходе в православие для русинов был определяющим. Наличие православной империи, «государства русского народа», являлось для них привлекательным. Падение монархии в результате русской революции привело к смене парадигмы развития страны и сразу положило конец массовым обращениям русинов в православие в Омске. Публикация может представлять интерес для исследователей истории русинов, военной и социальной истории, а также национальной и религиозной политики.
The Struggle for “The Enslaved Rus”: Conversion of Rusin Prisoners of War to Orthodoxy in Omsk (1915 -1917).pdf Первая мировая война привела к появлению в Сибири значительного числа подданных враждебных России государств, в т. ч. империи Габсбургов (Австро-Венгрии). Среди них было немало русинов, главным образом военнопленных [23]. Отдельные аспекты их пребывания в Сибири успешно изучают историки (ряд работ увидел свет в журнале «Русин» [2; 11-13]). Но религиозная жизнь почти не привлекла внимания исследователей. Малоизучен и массовый переход в Омске в 1915-1917 гг. славян - русинов, чехов, поляков и других в православие. Лишь в обзоре Н.С. Храповой по итогам анализа актовых записей метрических книг приведены данные об обращении в православие в Омске 315 пленных славян [28: 185]. Но из них не выделены русины, а цифра обращённых, по нашим сведениям, занижена. На значимую роль епископа Омского и Павлодарского Сильвестра (Ольшевского) в обращении в православие пленных славян впервые указал исследователь его биографии митрополит Омский и Тарский Феодосий (Процюк), подчеркнув, что под прямым патронатом епископа шла работа среди пленных. По её итогам в разгар Первой мировой войны к православию присоединились более 400 чехов, русинов и поляков [10: 49]. Но и эта цифра неточна. Автор не выделил вопроса перехода русинов, упомянув их в числе иных народов. Таким образом, проблему обращения русинов в православие на омской земле в годы Первой мировой войны историки в качестве самостоятельной не ставили. Её изучение - цель нашей работы. Основным источником для исследования стал журнал «Омские епархиальные ведомости», который не использовался для освещения заявленного вопроса. На его страницах в 1916-1917 гг. был опубликован ряд материалов, дающих подробную и вполне достоверную информацию о процессе перехода в православие в Омске пленных русинов. 102 g J Ml ci ii I 2021. № 65 Сегодня историки, изучая положение военнопленных Первой мировой войны, стали обращаться к анализу метрических книг церквей, но пока применительно к исследованию жизни военнопленных в Сибири этот источник используют главным образом для изучения социально-бытовых условий их содержания [і; 26]. Хотя актовые записи содержат репрезентативную информацию о принятии военнопленными православия в годы Первой мировой войны (где, когда и кто из духовенства совершил таинство, личные данные обращённых), метрические книги не привлекались как источник по истории миссионерской работы среди пленных русинов. Информация актовых записей подтверждает сведения из указанного выше журнала, уточняя биографии отдельных обращённых. Первый эшелон с пленными прибыл в Омск вечером 2/15 сентября 1914 г. [16]. Уже с середины осени 1914 г. военная и гражданская власти во взаимодействии регулярно решали вопросы размещения, медико-санитарного, бытового обеспечения, трудоустройства пленных, осуществления за ними надзора. На юго-восточной окраине Омска к концу лета 1915 г. для их содержания оборудовали концлагерь [15: 21-22, 28, 32, 34, 52-53, 55-56, 79-81, 93, 125-148]. Отношение к военнопленным омских властей и населения было достаточно гуманным. Допущение к труду этой категории иностранцев в городе и на селе, заметное их участие в общественной жизни под эгидой Русской православной церкви способствовали глубокой интеграции бывших подданных империи Габсбургов в русский социум. Для многих из них Сибирь стала второй родиной. Обзорный анализ актовых записей метрических книг православных храмов омского Прииртышья показал, что пленные славяне (русины, чехи, поляки, словаки), реже австрийцы, немцы и венгры, начиная с 1916 г. активно вступали в брак с россиянками. Венчанию обычно предшествовал переход в православие из иных ветвей христианства. Особо активны в этом отношении были русины (в большинстве греко-католики, или, как их часто именовали в церковных документах, униаты), в массе прибывавшие в Омск. В России выходцев из Карпатской Руси называли «русины», «карпаторусы», «угрорусы», «галицкие русины», «русские галичане», «галицкие русские», «галичане». Это были жители Галичины, исторического региона, охватывающего территории современных Львовской и Ивано-Франковской областей, большей части Тернопольской и южной частей Ровенской области Украины, южной и восточной частей Подкарпатского воеводства Польши (Лемковщина с Перемышлем), Буковины, Угорской (Подкарпатской) Руси. Галицкие и угорские русины были униатами, буковинские - православными [22: 276, 282, 285]. История 103 Из всех славянских народов русины выделялись светскими и духовными властями Российской империи как русские, оказавшиеся в силу коллизий политики отторгнутыми от исторической родины. Со слов великого князя Николая Николаевича (тогда Верховного главнокомандующего Русской армии), в российской пропаганде по отношению к Галиции сформировался образ «Подъяремной Руси». Возвращение территории «Русской Галиции (под ней понимались бывшие земли Галицкого княжества: Галичина и Буковина. - А.С., Д.П.), находившейся под австрийским ярмом», в состав исторической Руси имперские власти считали одной из важнейших задач Отечественной войны, как часто называли тогда Первую мировую войну в Российской империи [20: 6]. Поэтому перед епархиальными властями и местными администрациями империи ставилась задача по возвращению русинов в лоно православия, превращению их в «агентов влияния» России в славянском мире. Проблему военнопленных славян в общероссийском масштабе в 1915 г. впервые поставил архиепископ Харьковский и Ахтырский Антоний (Храповицкий), написав в Синод письмо, где подчёркивалась необходимость «установить попечение о пленных православного и греко-униатского исповеданий». Реакцией на обращение владыки стал указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, из Святейшего правительствующего синода от 5 августа 1915 г. Документ предписывал епархиальным преосвященным назначить своих представителей, которые при поддержке местных властей должны были «организовать религиозно-нравственные беседы с пленными, снабжение их брошюрами и книгами религиозно-нравственного содержания, совершение богослужений в казармах для военнопленных или посещение последними наших храмов и засим присоединять желающих к православной церкви». Для решения задачи на местах предлагалось создать специальные братства, снабдив их инструкцией «строго церковного и патриотического настроения». Если церковью прозелитизм рассматривался как естественная борьба за человеческие души, то для властей Российской империи в основе этой политики была геополитическая цель по подготовке включения Галичины в состав своего государства. В случае завоевания этой территории обращённые в православие молодые мужчины вернулись бы домой проводниками российской идеи. Документ прямо указывал эту цель: «Если суждено Богом, чтобы Подъярёмная Русь присоединилась к Державной, то нравственное сближение с нею сотен тысяч проживающих в России молодых, но уже вполне зрелых людей будет иметь вековое и ничем не заменимое значение» [17: 10-12]. Для реализации программы ведавшие пленными военные власти на ме- 104 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 65 стах получили указание Военного министерства оказывать «должное содействие» деятельности работавших с ними братств [17: 11]. Историк С.Г. Суляк отмечает стремление русинов Австро-Венгрии перейти в православие до начала Первой мировой войны, акцентируя внимание на массовом переходе в православие русинских сёл на Лемковщине (лемки - одна из этнографических групп русинов, проживавшая в Западной Галиции), в Сокальщине и Коломыйщине (Восточная Галиция) и Угорской Руси и репрессиях со стороны австровенгерских властей [21: 47-49]. Стремление русинов-униатов к православию было широко распространено. Благодаря этому в Омске обращение в православие русинов началось до получения из столицы соответствующих указаний и было связано с появлением среди представителей этой народности активной группы прорусски ориентированных лиц, стремившихся сотрудничать с местными духовными и военными властями [25]. Омская епархия, подведя итоги работы своих миссионеров за 1916 г., особо отметила деятельность среди русинов: «Предрасположенные к принятию православия ещё у себя на родине, не удовлетворяясь искусственно навязанной им унией, ознакомившись близко с подлинным православием за время пребывания своего в плену, многие из русин-униатов охотно откликнулись на призыв вернуться к вере отцов и организоваться в особую общину отдельно от всех иных пленных. Благодаря предпринятым в этом направлении усилиям одного из священников гор.[ода] Омска и покровительству этому делу со стороны временного управляющего в первой половине 1915 г. Омской епархией преосвященного Киприана (Комаровского. - А.С., Д.П.), епископа Семипалатинского, желавшие воссоединиться с православием русины при содействии военных властей были помещены отдельно, и летом 1915 г. часть их владыкой Киприаном была воссоединена с православием. Это была первая ячейка православно-русинской общины в г.[ороде] Омске. Организованная правильно, она при помощи и содействии некоторых лиц, особливо интересовавшихся галицко-русским делом, стала энергично работать среди военнопленных русин и увеличиваться численно» [3: 23-24]. Информацию подтверждают сведения из метрических книг православных храмов Омска. Так, первый переход греко-католиков в православие совершился в Омске 17/30 мая 1915 г. в Успенском кафедральном соборе. Их воссоединение совершили епископ Семипалатинский Киприан и протоиерей Михаил Орлов. Новую веру приняли 12 военнопленных (жители сел Надворнянского, Перемышльского, Равского, Радеховского, Рогатинского, Яворовского уездов и города Барыша). Но сделавшие запись протоиерей Михаил Орлов и дьякон История 105 Александр Уткин не фиксировали национальную самоидентификацию обращённых, указав место, откуда они родом. Отец Михаил 7/20 июня 1915 г. в Успенском кафедральном соборе совершил второе подобное таинство. Православие тогда приняли ещё 12 военнопленных (жители Гусятинского, Львовского, Островского, Сборовского, Скалатского, Тарнопольского уездов). И в этом случае национальная самоидентификация не указана. Актовые записи содержат с разной точностью лишь сведения о месте, откуда родом новообращённые [7: 22 об.-26 об., 31 об.-35 об.]. Из анализа актовых записей видно, что официального шаблона наименования переходивших в православие пленных славян не было. Использовались произвольные формулы, выработанные священнослужителями в аналогии с текстуальным описанием иностранных граждан, - «военнопленный, русин», «(русский) галичанин, из военнопленных», «австрийский подданный из Галиции» и т. п. В итоге ещё до появления указаний Синода от 5 августа 1915 г. о работе среди пленных славян в Омске по инициативе группы русинов и при поддержке местных миссионеров начался шедший активно до весны 1917 г. процесс приобщения к православию пленных русинов. 8 августа 1915 г. в Омск прибыл новый владыка епископ Сильвестр (Ольшевский) - известный на всю Россию миссионер и борец с сектантством. Он приложил немало усилий для развития этого актуального тогда направления деятельности церкви. «Преосвященнейший епископ Сильвестр, ознакомившись с положением дела, принял его под своё покровительство, лично посетил место обитания православных русин[ов], отслужил для них особливо литургию, причём хор православных русин[ов] исполнил ряд песнопений. В дальнейшем всё это дело владыка передал в ближайшее ведение Омского епарх. [иального] братства, а наставление в истинах веры православной новых славян-военнопленных, желавших воссоединиться с церковью своих предков, стал поручать инспектору Омского епарх.[иального] училища, исполняющему] о.[бязанности] старшины братства, священнику о.[тцу] Илье Фокину, ранее довольно близко ставшему к этому делу» [3: 24]. Приобщившиеся первыми к православию в Омске русины подали пример другим пленным славянам: «в дальнейшем при помощи Божьей дело православной проповеди среди пленных славян в Омске расширилось. К православию пожелали присоединиться несколько чехов и поляков» [3: 24]. 9 декабря 1915 г. на правлении Епархиального братства заслушали указ Синода от 5 августа 1915 г. Священник Илья Фокин в докладе о реализации этого предписания на практике отметил: «В настоящее 106 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 65 время, как мною лично было замечено и как о том определённо свидетельствуют православные военнопленные галичане, среди военнопленных славян ведётся пропаганда германофильства, а среди галичан-униатов - мазепинства со стороны непримиримых и фанатически настроенных приверженцев последней партии или же скрывшихся под личиной славян немцев, иудеев и мадьяр. Объединённые и обычно наглые, они терроризируют рядовую серую массу, например, галичан из среды забитого, загнанного ещё в Австрии галицийского крестьянства, угрожая ему суровой расправой в Австрии в случае проявления какой-либо симпатии к России или православию» [14: 18]. Обстановка среди военнопленных в Омске свидетельствовала о противодействии сотрудничеству русинов с российской администрацией и принятию ими православия как со стороны германофильской группы австрийских патриотов, так и со стороны украинофильской группы русинов, проводившей в плену свою пропаганду против империй Габсбургов и Романовых. Омские служители Русской православной церкви поддержали русинов, стремившихся стать православными, и с их помощью вели работу с колебавшимися военнопленными. На заседании правления Епархиального братства отец Илья предложил комплекс мер, принятых участниками собрания [14: 19-20]: 1. В интересах пресечения пропаганды германофилов и украино-филов военнопленных предлагалось делить по национальностям и партиям, отделив от русофильских и беспартийных всех германофилов, украинофилов, а также радикалов и социалистов. Аргументируя необходимость данного шага, отец Илья подчёркивал, что, «не разделив славян и русских галичан подобным образом, трудно вести среди них с надеждой на успех православную и русофильскую пропаганду, так как непримиримые австро- и германофилы и католики всегда успеют разрушить так или иначе налаженное дело и запугать друзей России и православия». Православный миссионер отметил особую, в сравнении с другими народами, тягу пленных русинов к России и необходимость с ними специальной работы. 2. Разделив славян по группам и партиям, предлагалось начать (в отношении галичан - продолжить) проповедь православия в русле критики римско-католических учений. 3. В качестве одного из лучших средств воздействия на пленных славян и русских галичан-униатов, что, как утверждалось, было проверено опытом, предлагалось широко практиковать посещение ими православных храмов во время богослужений, бесед и акафистов. Эта работа должна была идти системно, с прикреплением групп пленных к конкретным храмам, чтобы они каждый праздник могли посещать храм. История 107 Отметим, что в религиозном отношении греко-католики находились в Омске в крайне затруднительном для христиан положении. В городе не было ни одного прихода данного вероисповедания, и пленные воины империи Габсбургов, исповедовавшие эту форму христианства, не имели возможности участия в религиозных таинствах. Для христианина долгое время оставаться без причастия недопустимо, поэтому люди естественным образом постепенно отдалялись от веры либо должны были искать иной способ причаститься. Доступным вариантом решения проблемы был переход в православие - религию, которую исторически население Галиции исповедовало до распространения греко-католичества. Несомненно, что среди причин перехода русинов в православие чисто религиозный фактор играл весомую роль. 4. Предлагалось ходатайствовать перед военными властями о выделении принявшим православие военнопленным славянам отдельного помещения, свободном пропуске их на работы, создании иных благоприятных условий для выживания в суровых условиях плена. Несомненно, что существенное облегчение режима было веским мотивом для пленных русинов перейти в православие из греко-католичества. 5. Ко дню проведения заседания правления братства для всех православных и особенно галичан, уже поселённых отдельно, планировали, привлекая омских клириков и учителей, открыть курс систематических чтений Закона Божьего, по русской церковной и гражданской истории, русской географии, русскому языку и русской литературе. Уже 19 февраля 1916 г. в зале Омского епархиального женского училища с разрешения владыки Сильвестра в присутствии военных властей с большим успехом провели Славянский литературно-музыкальный вокальный вечер. На мероприятии дружно и воодушевлённо галицкие русины пропели: «Пора, пора за Русь святую идти всем нам против врага!». О горьком положении «русских людей» в швабской Австрии и о полном племенном единстве их с русскими Великой Руси горячо высказался А.А. Цапь (пленный офицер, 1888 г. р., выпускник юридического факультета, «галичанин Сенявского уезда», перешёл в православие 29 ноября / 12 декабря 1915 г. в Успенском кафедральном соборе [5: 26-27; 8: 65 об.]). Далее работу по приобщению к русской культуре обращённых в православие славян братство в разных формах вело в течение 1916 г. 6. Православных славян предлагалось привлечь «к деятельному участию в православном богослужении», сформировать из них хор певчих для одного из храмов Омска. По мнению отца Ильи, для того 108 g J Ml ci ii I 2021. № 65 подошла бы Богородице-Братская церковь - тогда центр православного просвещения в городе. 7. Для пропаганды православия среди католиков братству рекомендовалось выписать и использовать «противокатолическую литературу». 8. Имея в виду, что военнопленные в значительном количестве имелись в городах Акмолинской и Семипалатинской областей и Тобольской губернии (район Омской епархии), копию указа Синода предлагалось разослать для сведения преосвященным викариям Семипалатинскому и Петропавловскому, а также благочинным городов Тары, Ишима, Тюкалинска, Павлодара и Усть-Каменогорска. Несмотря на желание братства укоренить процесс принятия православия пленными славянами в Омской и Павлодарской епархии, успешно проповедь православия шла лишь в Омске. «Омские епархиальные ведомости» к концу 1916 г. констатировали, что «много пленных также живёт по городам (Семипалатинск, Тара, Петропавловск, Павлодар, Тюкалинск, Ишим), однако, как известно братству, лишь в г. Петропавловске были обращения в православие пленных славян» [18: 19]. 9. Высказывалась мысль о более активном привлечении к работе с пленными духовенства Омска. 10. Указывалась необходимость специального ассигнования денег на работу с пленными. Отец Илья просил выделить для начала хотя бы 50 руб. Предложения священника Фокина в отношении русинов по большей части к моменту заседания правления братства на деле уже активно претворялись. В январе 1916 г. «Омские епархиальные ведомости» рассказывали своим читателям, что православные русины «посещают все богослужения православной церкви, расходясь по разным храмам Омска. Усердно они посещают беседы, каковые ведутся систематически по воскресеньям в Братском храме и храме подворья женского монастыря. Многие из них записались членами братства с разрешения его преосвященства. Многие из русин[ов] также подали прошения о принятии их в русское подданство. Встречаются такие, которые навсегда решили остаться в Сибири и, в частности, в Омске» [3: 25]. Для принявших православие русинов этот шаг способствовал их инкультурации и социализации. Кроме большого числа браков с россиянками и принятия российского подданства, были примеры вхождения русинов в церковный причет. Так, пленного галичанина Никиту Матвеевича Чаборика допустили к обязанностям псаломщика в церкви посёлка Святиловского Омского уезда [6: 2]. Реше- История 109 ние выглядит взвешенным. Будущий церковнослужитель родился в 1876 г., накануне Первой мировой войны проживал в селе Долмива Сокальского уезда, перешёл в православие 7/20 января 1916 г. в Омске в Успенском кафедральном соборе [8: 6об.]. В то время Н.М. Ча-борик был в том возрасте, чтобы состояться как личность. В ходе работы братства в 1916 г. на омской земле произошёл наивысший подъём процесса обращения пленных славян в православие. Уже к середине мая 1916 г., по данным «Омских епархиальных ведомостей», в православие перешли 289 чел., среди них в незначительном большинстве - русины. Епархиальная хроника подчёркивала, что «присоединения к православию пленных славян в г.[ороде] Омске совершаются систематически». Издание приводило такие цифры о новообращённых: галицких русских - 140 чел., чехов - 129 чел., поляков - 14 чел., словаков - 5 чел., хорватов - 1 чел. [4: 28]. Статистика показывает, что среди обращённых славян к середине 1916 г. продолжали преобладать русины, а процесс перехода в православие широко развился и у чехов, постепенно догонявших русинов по количеству обращённых в Омске. Случаи принятия православия представителями других славянских народов из числа пленных были единичными. Процесс приобщения славян к православию активно шёл в Омске вплоть до революции. 29 января 1917 г., за месяц до её начала, епископ Сильвестр в Успенском кафедральном соборе совершил торжественный чин по присоединению к православию очередной крупной группы военнопленных - 41 славянина. «Омские епархиальные ведомости» отмечали, что это была пятнадцатая партия из пятой сотни обращённых [9: 23 об.-37 об.; 19: 34]. За 1916 г. около 500 пленных славян (большинство из них - русины) приняли православие в Омске. С падением монархии престиж России среди славян упал. В результате революции «православная Русь», на которую ориентировалась значительная часть русинов, перестала существовать. В стране началась смута, в ней оказавшиеся в Сибири русины приняли активное участие, сохранив разделение на русофилов и украинофилов [11]. В той ситуации православие в Сибири не могло быть для пленных русинов средством к инкультурации и социализации. Поэтому массовые обращения сошли на нет. Активное развитие процесса перехода русинов в православие в Омске с лета 1915 г. по весну 1917 г. определила инициатива группы русофильски ориентированных русинов, поддержанная епархиальными миссионерами и епископом Киприаном. Самыми активными омскими миссионерами, работавшими с пленными славянами, были 110 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 65 епископ Сильвестр и священник Илья Фокин. Появление в августе 1915 г. официальных указаний о поддержке государством прозелитизма в отношении пленных славян облегчило и стимулировало работу миссионеров. Несмотря на соответствующие указания из столицы империи Петрограда и центра епархии Омска, групповой переход пленных славян в православие, помимо Омска, отмечался лишь в Петропавловске, где наверняка был свой энтузиаст / энтузиасты организации этого процесса. В других городах Омской и Павлодарской епархии - Семипалатинске, Таре, Павлодаре, Тюкалинске, Ишиме - явление не имело места, несмотря на то что там содержались сотни славян, в т. ч. русинов. Это свидетельствует о роли личности в любых социальных процессах и востребованности историко-антропологического подхода для изучения влияния заинтересованных руководителей и инициативных исполнителей обращения в православие пленных славян. Лишь там, где таковые лица были, процесс обращения в благоприятных условиях шёл динамично. Как показали события 1917 г., при обращении в православие русинов успех политики прозелитизма обусловливала не только роль личности, но и идеологический фактор. Наличие православной империи, «государства русского народа», было для них привлекательным. В ходе событий революции и гражданской войны в России для развития национального чувства русинов точка опоры в виде православной идеи «Святой Руси» из общественно-политического дискурса была удалена как контрреволюционная, хотя именно она была притягательна для русинов. Русская революция совершила фатальную ошибку, отвергнув «национальную идею» во имя идеалов «социальной справедливости» [27: 54]. С падением империи Романовых групповые переходы в православие русинов в России прекратились, сведясь к единичным случаям. Однако в 1920-1930-е гг. массовое православное движение охватило Лемковщину, оказавшуюся тогда в составе Польши, и Подкарпатскую Русь, ставшую частью Чехословакии [24: 48]. Это говорит о том, что мотивами перехода в православие у русинов были как политические, так и духовные смыслы.
Ануфриев А.В., Козлов Д.В. Метрические книги как источник по истории пребывания военнопленных в Сибири (1914-1920) // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2019. С. 10-13
Дулатов Б.К. Почтовая корреспонденция австро-венгерских и германских военнопленных Омского военного округа как источник по изучению условий их содержания в плену // Русин. 2020. № 60. C. 97-119. DOI: 10.17223/18572685/60/6
Епархиальная хроника. Галицкие русины в Омске. Присоединение к православию // Омские епархиальные ведомости. 1916. 24 января. № 4. С. 23-25.
Епархиальная хроника. Присоединение к православию пленных славян // Омские епархиальные ведомости. 1916. 22 мая. № 21. С. 28-29.
Епархиальная хроника. Славянский литературно-музыкальный вокальный вечер // Омские епархиальные ведомости. 1916. 6 марта. № 10. С. 26-27.
Епархиальные известия // Омские епархиальные ведомости. 1916. 11 сентября. № 37. С. 1-5.
Исторический архив Омской области (далее ИАОО). Ф. 16. Оп. 11. Д. 77. Метрическая книга актовых записей Успенского кафедрального собора г. Омска. 1915 г.
ИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 90. Метрическая книга актовых записей Успенского кафедрального собора г. Омска. 1916 г.
ИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 118. Метрическая книга актовых записей Успенского кафедрального собора г. Омска. 1917 г.
Митрополит Феодосий (Процюк). В вере ли вы? Житие и труды священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. М.: Воскресенье, 2006. 608 с.
Нам И.В., Наумова Н.И. Историческая память и национально-политическая идентификация русинов. 1914-1920 гг. // Русин. 2015. № 4. С. 126-142. DOI: 10.17223/18572685/42/10
Нам И.В., Наумова Н.И., Зиновьева В.И. Организации военнопленных русинов в Сибири и власть: конфликт интересов (1918-1919 гг.) // Русин. 2019. № 57. C. 84-98. DOI: 10.17223/18572685/57/6
Омарбаев Ы.К., Таракчи В.Т., Базарбаев К.К., Кумганбаев Ж.Ж. Подданные Австро-Венгрии в Западной Сибири и Туркестане в начале ХХ в. (1900-1917 гг.) // Русин. 2021. № 64. С. 118-136. DOI: 10.17223/18572685/64/7
Отчёт Омского Епархиального Братства за 1915 г. (Продолжение) // Омские епархиальные ведомости. 1917. 12 февраля. № 7. С. 13-21.
Первая мировая война. Сборник документов и материалов Исторического архива Омской области. Омск: Омскбланкиздат, 2014. 202 с.
Пленные // Омский вестник. 1914. 4/17 сентября. С. 2.
Приложения к отчету Омского Епархиального Братства за 1915 год, Приложение 1-е. Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода // Омские епархиальные ведомости. 1917. 19 февраля. № 8. С. 10-12.
Присоединение к православию пленных славян // Омские епархиальные ведомости. 1916. 9 октября. № 41. С. 18-19.
Свящ.[енник] Ил.[ья] Ф-[оки]н. Присоединение славян к православию // Омские епархиальные ведомости. 1917. 12 февраля. № 7. С. 33-35.
Священник Илья Фокин. К воссоединению отторжённых (Слово по случаю присоединения к православию русских военнопленных галичан униатов, произнесённое 29 ноября 1915 г. в Омском кафедральном соборе) // Омские епархиальные ведомости. 1916. 10 января. № 2. С. 6-11.
Суляк С.Г. Русины в период Первой мировой войны и русской смуты // Русин. 2006. № 1. С. 46-65.
Суляк С.Г. К вопросу о терминологии Карпатской Руси // Русин. 2019. № 55. С. 272-316. DOI: 10.17223/18572685/55/16
Суляк С.Г. Отношение администрации Бессарабии к проживавшим на территории губернии подданным Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны // Русин. 2014. № 3. C. 126-141. DOI: 10.17223/18572685/37/9
Суляк С.Г. Русины в истории: прошлое и настоящее // Русин. 2007. № 4. С. 29-56.
Суляк С.Г. Русины: из истории православной традиции // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2011. № 3. С. 130-134.
Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета // Вестник Пермского университета. История. 2011. № 3. С. 57-64.
Сушко А.В. К оценкам революции в России в масштабах мировой и национальной историй // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 55. С. 48-55. DOI: 10.17223/19988613/55/8
Храпова Н.С. Метрические книги омских церквей как источник изучения социально-политической обстановки города в 1915-1919 гг. // Гражданская война на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2015. С. 183-187.
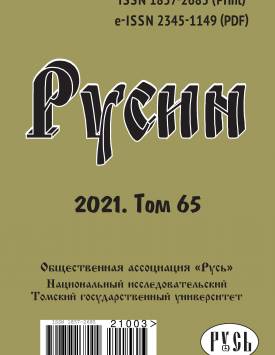

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью