В статье авторы пересматривают устоявшийся взгляд на русинский вопрос в Габсбургской империи, особенно в период середины XIX - начала ХХ в. Источником информации послужили материалы чешской прессы от революционного 1848 г. до периода, предшествовавшего началу Первой мировой войны. Анализ статей, опубликованных в чешской периодической печати, позволил предположить, что славянское население, проживавшее в Галиции и Подкарпатской Руси, сохраняло свою этническую идентичность. Если, начиная с 1848 г., все славянские жители Галиции, чьи политические лидеры, резко выступавшие против поляков, в чешской прессе обозначались русинами, то в конце XIX в. чешская пресса уже рассматривала этот народ как полноценную независимую нацию.
Rusins in Czech Newspapers and Magazines from the Revolutionary 1848 to the Outbreak of WWI.pdf На страницах чешской периодической печати с начала XIX в. и до начала Первой мировой войны можно найти большое количество информации, касающейся русинов, проживавших на территории австрийской монархии (Австро-Венгрии). Однако объективность этой информации, на наш взгляд, вызывает сомнение. С одной стороны, большое количество статей, касающихся русинов, было предопределено желанием удовлетворить внимание и потребности читателя, с другой стороны, эта информация должна была убедить последнего в фактах, поддерживавших определённую идеологическую направленность газеты или журнала. Разобраться в достоверности и объективности этой информации - цель настоящей статьи. Не так много авторов исследовали русинский вопрос и отношение к русинам на основе анализа газетных и журнальных статей. Можно отметить работу К.А. Соловьёва [1], где описывается формирование политической нации среди австрийских и венгерских русинов, о чём свидетельствуют дискуссии в российской прессе второй половины XIX - начала XX в. Упоминания о русинах в чешской прессе XIX в. появляются очень редко, случайно, и в подавляющем большинстве случаев речь идёт о жителях Галичины. Систематический анализ чешской прессы, посвящённой исключительно русинам, был проведён только для межвоенного периода, когда подкарпатские русины были частью Чехословакии [11]. При отборе периодических изданий для данной статьи в Национальной библиотеке Чешской Республики было доступно 387 газет и журналов на чешском языке за период 1848-1914 гг. Периодические издания выходили как в Чешском королевстве, так и в Америке, где в XIX в. проживала большая чешская диаспора. Подавляющее большинство чешских периодических изданий вообще не упоминало о русинах (журналы и газеты оцифрованы и поэтому могут быть просмотрены через полнотекстовый поиск), а некоторые - лишь вскользь. В середине XIX в. русины чаще всего упоминались в ежедневной газете «Narodm nowiny» («Национальные новости»), которая издавалась относительно недолго (1848-1850 гг.). Эта первая ежедневная газета на чешском языке имела либерально-националистический профиль. В основном в ней излагались политические взгляды издателя Карела Гавличка Боровского, который защищал чешские национальные интересы и интересы угнетённых славянских групп. Гавличек не был сторонником панславизма при доминирующей роли России, напротив, он много критиковал её (а также, например, Польшу). Комментируя враждебность между поляками и русинами, он занимал решительно прорусинскую позицию. Больше всего внимания уделял русинам католический журнал «Blahovest», выходивший с 1847 по 1895 г. В отличие от периода Первой Чехословацкой Республики, когда католическая пресса защищала греко-католических карпатских русинов, которых она представляла как очень лояльных Чехословакии [11], в XIX в. журнал «Blahovest» критиковал греко-католических русинов за их постепенный уклон в сторону русского православия. Хотя главный редактор В. Штульц, чешский священник и писатель, был близок к Польше (переводчик польской литературы), он критиковал галицких поляков за их слабое религиозное рвение. Лемки как подгруппа русинов упоминаются только в «Журнале Музея Чешского королевства» - старейшем (с 1827 г.) чешском научном издании. Обширный (но разовый) материал о лемках был опубликован в еженедельнике «Svetozor». Из чешских журналов XIX в., изданных за океаном, только в двух подробно упоминаются русины: это еженедельник республиканской ориентации «Pokrok zapadu» / «Прогресс Запада» » (издавался с 1871 по 1909 г.) и «Amerikan» / «Американец». «Amerikan» издавался только в 1870-х гг., после чего был объединён с журналом «Pokrok zapadu». В то время «Amerikan» издавался отдельно только в виде ежегодного календаря. При изучении положения русинов, отображенного на страницах чешской прессы в XIX в., возникает ещё одна проблема: не всегда ясно, что представляет собой эта этническая группа в нашем сегодняшнем понимании. Помимо современных русинов (или лемков), этот этноним мог также относиться к группе славянских народов, которые мы сегодня называем украинцами, белорусами или русскими. В чешской прессе середины XIX в. русинами в основном именовалось население, проживавшее на территории современной Польши и части современной Украины, которая в то время была частью исторической Польши под властью Австро-Венгерской монархии (Галичина), а также славянское население в Карпатах. Этноним «русин» также использовался в широком смысле в официальных австрийских и австро-венгерских документах. В XIX в. в значительной степени проявились усилия представителей малых народов по продвижению своей политической или хотя бы культурной автономии. Для народов, проживавших на территории Австрийской империи (во второй половине XIX в. преобразованной в Австро-Венгрию), весь XIX в. - это фактически борьба за расширение пространства. Оно было не только географическим, когда представители различных национальных движений на основе многих исторических построений показывали «несомненные претензии» на определённую территорию. Это также была попытка контролировать религиозное пространство и в связи с этим пространство политическое. Особенно это прослеживалось там, где религиозная принадлежность не была чётко определена. Так было с русинами, склонность которых к православию или униатству приобретала политическую окрашенность. В то время как католицизм означал естественную склонность к австро-венгерской монархии, православие означало склонность к России. Греко-католицизм, который был наиболее распространён среди русинов, был довольно нечётким для окружающих. Об этом также свидетельствует газетная статья 1848 г., в которой описывается положение галицких русинов, направивших императору петицию с требованиями использования русинского языка в качестве официального и равенства религий. По словам автора статьи К. Гавличека Боровского, эта петиция «удивила поляков» (против История 119 которых Гавличек высказывается относительно резко, несмотря на провозглашённую идею славянской общности) и «вызвала удивление в Вене. В Вене к этому поступку русинов относятся с подозрением; они считают, что, поскольку русины исповедуют греческую веру, они уже примкнули к царю. Требования петиции: Преподавать русинский язык во всех начальных школах тех регионов, где либо живут исключительно русины, либо они преобладают. Создать условия, чтобы русинский язык нашёл там такое признание в высших школах, как того требует национальное русинское население. Все законы русинов должны быть провозглашены их языком. В русинских областях должны были назначены русинские чиновники. Воспитывать русинское священство таким образом, чтобы верующих могли учить с пользой. Равенство духовенства всех трёх конфессий, т.е. греко-католической, латинской и армянской, должно быть не только на словах, но и на деле. Открыть доступ ко всем государственным учреждениям для русинов» [6: 147]. Русины и революционный 1848 г. Русины в Австрийской (позднее Австро-Венгерской) империи стояли перед трудным выбором в вопросе национальности: участвовать ли в формировании «великой» русской нации в качестве одной из её этнографических групп или вместе работать над созданием независимой малорусской нации, которая впоследствии стала украинской [1]. Ситуация усугублялась политическим доминированием поляков в Галиции; в венгерской России (в Карпатах) русинов пытались ассимилировать венгры. В одной из своих статей конца 1848 г. Карел Гавличек Боровский описывает соперничество, наблюдавшееся между поляками и русинами в Галиции. Русины стремились разделить Галичину на две провинции - Русинскую и Мазурскую - посредством петиции к местному собранию, которое располагало лишь номинальными полномочиями. Гавличек критикует отношение Польши к русинам и заявляет, что поляки на самом деле в Галиции не живут (кроме Львова). По мнению автора статьи, поляки-ирредентисты готовы пожертвовать всем для обновления Польского королевства в рамках наибольшего расширения его границ. Поэтому они всеми возможными способами пытаются спровоцировать нестабильность и революционные волнения. 120 g J Ml ci ii I 2021. № 65 «Русины. (15 ноября 1848 г.) Сотни тысяч подписей, представленных в собрание, являются достаточным основанием для признания, что этого раздела хотят не только русины, но и все благонамеренные люди в стране в целом. Посмотрим правде в глаза, но на земле русинов поляков как таковых нет. Русины были бы не против придерживаться принципа равноправия всех национальностей, если бы поляки тоже следовали этому принципу, чтобы просто не допустить несправедливости по отношению к другим национальностям. В стране русинов настоящих поляков нет. Только во Львове у польской стороны есть более точные корни; ибо здесь, как и в столице, собралась вся партия бывших господствующих.» [6]. Газета также указывает на попытки поляков показать, что русины на самом деле являются поляками. Этническая неопределённость русинов в 1848 г. не была редкостью для Европы. Нация как понятие в начале XIX в. воспринималась совершенно иначе, чем то, как её начали понимать сразу после 1848 г. Это определение коренным образом изменилось во второй половине XIX в., так и менялось, по сути, на протяжении всего XX в. Нация в начале XIX в. была чётко определена примордиалистической теорией - это древняя и неизменная единица. Автор газетной статьи упоминает об изменениях, произошедших в марте 1848 г., когда Австрия начала внедрять в свою правовую систему ряд прогрессивных мер - например, эти события вернули чехам «национальность». Однако чешский историк И. Кор-жалка, который проследил как положительные, так и отрицательные отзывы о чехах в зарубежной прессе XIX в., говорит, что представление Европы о чехах как о нации было очень расплывчатым. Главная проблема заключалась в том, что они не рассматривались немцами как нация, а скорее считались своего рода угнетённой социальной группой [14: 102]. Похожая ситуация была с русинами. До марта 1848 г. в Австрии можно было сформулировать общественные и в очень ограниченной степени социальные требования, в то время как публичная агитация за либерализацию, участие в политической жизни или гражданские права были исключены [12]. Хотя русины отличались от поляков языком, образом жизни и религиозными традициями, они жили на «традиционной польской территории», что подчёркивали те, кто выводил этническую принадлежность из исторической единицы, в данном случае - Королевства Польского. Определение нации, основанное на её собственном языке и культуре, только зарождалось в то время, и эти два разных подхода (локально-географический и культурный) позже вызвали острые столкновения (не только между поляками и русинами). История 121 Географический аспект также подчёркивал философ рубежа XVIII - XIX вв. Бернард Больцано, отдававший предпочтение единой политической нации, которая должна включать представителей разных этнических групп, проживающих в этом районе. По его представлениям, принадлежность к стране как к общей родине должна была иметь приоритет над этническими и языковыми аспектами [3]. Поэтому с сегодняшней точки зрения польский подход, может быть, легче защитить, но в 1848 г. территориальный принцип выведения национальности не был признан в националистической прессе: «Партия поляков в мартовские дни, вернувшие нам (чехам) нашу национальность и наши права, довольно категорично заявила: Галичина - польская страна, и русинов здесь нет. И всё же русины совершенно отличаются от поляков по происхождению, нравам, манерам, речи, письму и церковному обряду. Сами поляки даже не признавали, если это было им выгодно, различия между ними и русинами; но когда дело доходило до восстановления границ древней Польши, где русины могли оказать им самую мощную поддержку, они сразу заявляли: поляки и русины - одно и то же» [6: 732-733]. Автор статьи, несмотря на свои многочисленные оговорки в отношении Австрии, также высоко оценил австрийскую конституционную систему, которая должна была стать гарантией национального развития, о чём русины знали: «Русины знают, что поляки, как только добьются своей давней независимости, ни на минуту не будут смущаться, они отбросят всех, которые помогли им добиться славы, и снова вернут старый деспотизм. Конституционная Австрия даёт им достаточные гарантии для свободного национального развития и демонстрирует честное стремление проявлять добро к каждому гражданину» [6: 732-733]. Другое упоминание русинов в газете 1849 г. свидетельствует о том, что поляки в Вене пытались помешать признанию этого народа. Это должно было осуществляться посредством публикаций, которые по своей направленности были явно пропольскими. Тем не менее они представляют несомненный научный интерес. Их содержание в очередной раз показывает совершенно иное понимание национальности. Так, для Антона Дамбчанского в брошюре «Русинский вопрос» национальность снова чётко связана с территорией. Ему непонятно, что люди, родившиеся в одном месте, образуют два разных народа. Он видит разницу между поляками и «так называемыми русинами» не на национальном, а явно на социальном уровне. По его словам, русинская нация была искусственно создана из галицких крестьян, исповедовавших греко-католическую религию. Далее он отмечает, что их было легко противопоставить полякам, потому что местные ci ii I 2021. № 65 122 крестьяне знали поляков только как помещиков, а потому воспринимали их скорее как угнетателей, нежели как своих соотечественников. Дамбчанский видит ещё один фактор в появлении новой национальности в части русинского духовенства, которое всегда неохотно следило за распространением римско-католической веры. Более того, согласно Дамбчанскому, у русинов никогда не было и до сих пор нет собственной литературы, поэтому нельзя говорить о полноценной нации [4]. В определении нации Домбчанский по-прежнему придерживался примордиалистской схемы: нация - это вечная и стабильная единица. Доказать это можно по многим признакам, среди которых может быть и древняя литературная традиция. Если такие атрибуты отсутствуют, то это не истинная нация. В начале XIX в. (и особенно с 1840-х гг.) произошла перемена: нация стала рассматриваться как положительная ценность сама по себе. Однако представители новых национальных движений также исходили из примордиализма: их нация не была новой, но она также существовала с древних времен. Если Дамбчанский определял нацию прежде всего территориально, то новое движение принесло определение нации, основанное прежде всего на использовании отдельного языка. «Правительственная газета “Wiener Zeitung” содержат следующую статью о галицких делах: польские депутаты недавно распространили среди других депутатов несколько книг против русинов, в том числе следующие: “Die ruthenische Frage (Dqbczanski”), “Roth-Russen im Jahre 1848 (Oglewicz)”, затем обращение к императору и “мемориал” министерству в связи с разделением Галиции на две провинции. Из всех этих писаний ясно, что поляки не собираются отказываться от своей власти над русинами, угнетаемыми веками. Они отрицают русинов в Галичине и хотят закона равенства исключительно для себя» [8: 102]. В своих усилиях по достижению большей культурной автономии русинские лидеры были умеренными и в то же время полностью лояльными австрийскому правительству и императору. Согласно февральской статье 1849 г., они выражают императору благодарность за то, что с помощью австрийского государства русинский народ получил признание. «Как и все верные австрийские народы, русины возлагают на вас свои радостные надежды и питают веру в то, что работа по преобразованию монархии будет завершена, закон и свобода для общего блага будут установлены, и появится свободная, объединённая и сильная Австрия, неотъемлемой частью которой является русинская земля. Его светлость император дал такой ответ: “Я рад принять выраженную преданность, верность и благодарность, с которыми вы подтверждаете мою волю дать каждой нации упорядоченное, без- История 123 обидное развитие и поддержку. В соответствии с этим русины займут своё место среди народов моей империи. Настоящим я приказываю вам заверить их в моей милости и любви”» [7: 111]. Русины в Габсбургской империи не составляли ни географически, ни политически компактную группу. Русины, жившие в Карпатском регионе, были частью Венгрии, и, хотя они также были подданными австрийского императора, их этническое положение было значительно хуже, чем у галицких русинов из-за интенсивной и долгой мадьяризации. Территория Подкарпатской Руси с XI в. входила в состав Венгерского королевства, где славянское население проживало преимущественно в горных районах [16: 411]. Представители подкарпатских русинов в революционном 1848 г. были близки и к Вене, и к России, что в то время было приемлемо для Австрии (русские участвовали в подавлении венгерского восстания 1849 г., подкарпатские русины также были на их стороне). Представители карпатских и галицких русинов пытались установить контакты и углубить сотрудничество в связи с событиями 1848 г., хотя местная политическая ситуация (и желаемые политические цели) в Галиции и Подкарпатской Руси существенно различались. «Генеральный совет русинов издал 7 июля обращение к венгерским русинам, что стало очень важным актом; его конечная цель - объединить русинов по обе стороны Карпатских гор более тесно, чем раньше, с одной стороны, чтобы с большей выгодой противостоять польскому влиянию, а с другой - чтобы защитить венгерских русинов от венгерского влияния, которое укоренилось там даже больше, чем в Словакии. Это действительно была нация, почти устаревшая, забытая, и, если бы венгерский флаг победил, она бы наверняка исчезла или даже была бы вытеснена в горы и посёлок. Ибо в нынешней венгерской революции ни один человек не возник из его чрева, тогда как в румынах и словаках проявилась национальная жизнь» [9: 620]. Хотя Гавличек заявляет, что никто из подкарпатских русинов не участвовал в венгерской революции, это не совсем так. Хотя в марте 1848 г. в центре Подкарпатской Руси Ужгороде представители греко-католической семинарии благословляли молодых людей, присоединившихся к венгерским революционерам, Адольф Добрянский стремился объединить галицких и подкарпатских русинов. В январе 1849 г., когда венгерское восстание против Габсбургов переросло в крупномасштабный военный конфликт, Добрянский передал в Вене меморандум императору Францу Иосифу с требованием связи с галицкими русинами. Затем он отправился во Львов, где был благосклонно принят Русинским Верховным советом, который впослед- 124 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 65 ствии добавил в качестве основного требования цель единения с Закарпатьем [16: 441]. Поэтому председатель Галицко-русинского национального собрания обращается к подкарпатским русинам: «Вы, братья, тоже настоящие русины, такие же истинные русины, как мы, вы - наша кровь и тело, вы говорите на том же языке, у вас такая же вера, как и у нас, и до сих пор вы были так же несчастны, как мы. Ваши предки были свободным народом. Сюда пришли дикие венгры, которые не возделывали землю и уничтожали все народы, которые могли победить. Они забрали лучшие земли ваших отцов и возложили на них барщину и другие тяготы, таким образом, подталкивали вас на 1000 лет; а от вас, от словаков, от немцев научились пахать, но возделывать поля ещё позволяют русинам и словакам, сами работать не любят. Соедините ваши усилия с нашими, чтобы родина русинов снова поднялась к славной жизни после долгого порабощения, и все мы были бы объединены в одной стране под властью нашего доброго императора, чего желает нам Его светлость в Конституции от 4 марта» [9: 620]. Религиозное положение русинов Русины принадлежат к одной из религиозных групп, которая находится на границе между западным и восточным христианством. В дополнение к этому мы можем упомянуть сохранившуюся глаголическую литургию в Далмации, средневековую боснийскую церковь, а также ряд униатских церквей от Хорватии через Трансильванию, Подкарпатье, Галицию до Вильнюса. Описание религиозного положения русинов на страницах чешской прессы заняло большое место в католическом еженедельнике «Blahovest». В статье 1868 г. описывается особая религиозная ситуация в Галичине и указывается специфика Львова - город являлся резиденцией трёх католических, т. е. признающих примат папы римского, архиепископов: «Население Галицкого королевства по национальности делится на славян и евреев. Славяне - это русины и поляки. Почти все узнают св. отца как католики (протестантов и раскольников немного). Поляки используют латинский обряд; русины ходят в свои церкви, где всё проходит на старославянском языке. У поляков есть архиепископ во Львове, епископы в Пшемысле, Тарнове и Кракове, у униатских русинов также есть архиепископ во Львове и епископ в Пшемысле. Есть ещё католики третьего обряда, а именно армяне, их архиепископ также живёт во Львове. Итак, вы видите, что Львов - это нечто особенное; он является резиденцией трёх католических История 125 архиепископов. Латинский митрополит находится в красивом дворце, фундамент которого заложил ваш соотечественник архиепископ Пиштек. Русинский митрополит находится в бывшем базилианском монастыре недалеко от церкви Св. Юра, поэтому их называют свя-тоюрцами. Поближе к маленькому приходскому храму армянского митрополита есть его скромный дом. Святая месса проводится на армянском языке, проповедь и песни - на польском» [24]. Статья 1851 г. под названием «Католико-славянская церковь» [21: 27] указывает на политическое влияние в религиозных вопросах. Помимо культурного аспекта, принадлежность к церкви была также весьма значимой политической демонстрацией: австрийское государство было обеспокоено тесными связями православных и грекокатоликов с Россией в религиозной сфере. Хотя после подавления венгерского восстания в 1849 г. (когда русские помогли Австрии) политические отношения между Австрией и Россией считались вполне дружественными, религиозные связи галицких русинов с последней считались очень опасными. Эти опасения имели вполне реальную основу - Галиция была пограничной зоной между Габсбургской империей и Россией, и управление границами можно было очень легко поставить под сомнение на основании многих исторических построений, включая принадлежность к определённой религии. В случае галицких русинов религиозная пророссийская агитация была легче, потому что православная (называвшаяся раскольнической) и греко-католическая церкви имели очень похожие обряды. Именно в 1850-е гг. были предприняты попытки повлиять на славянское население и на галицких русинов, особенно в общей ориентации на Россию. Суть этих усилий заключалась в том, что галицкие русины образуют с русскими единую политическую и культурную нацию и ищут моральную, материальную и политическую поддержку против поляков в Российской империи. Согласно этому, русины или малорусы не должны были иметь особой политической или культурной автономии [10: 10]. Статья главного редактора католического журнала «Blahovest» за 1851 г. свидетельствует о поддержке русофильского направления Россией: «Однако российское правительство не экономит денег и не обещает угроз; у него есть посланники среди всех народов востока; оно оказывает помощь и защиту раскольническим церквам во всех частях Турецкой империи; это правительство раздаривает чаши, литургические облачения и книги в монастыри и храмы Сербии и Болгарии: ему есть что дать, и поэтому его влияние на востоке растёт. В Австрийской империи несколько миллионов русинов признаются католико-славянской церковью, придерживаются древнего славянского обряда и являются католиками. Поскольку 126 g J Ml ci ii I 2021. № 65 мы знаем, как мало в Австрии за долгое время было сделано для славянских народов, нас не удивляет, что русины и их церковь были наполовину забытыми сиротами» [21: 27]. Спустя 18 лет католический еженедельник «Blahovest» публикует статью, автор которой обратил внимание на продолжавшуюся русификацию галицких русинов и сближение представителей греко-католической и православной церквей, за что они получили ряд льгот от русского царя. Часть греко-католического духовенства перешла непосредственно в православную церковь. «Галиция - это холодный мрамор, бездушный валун в религиозном отношении. Здесь живут поляки и русины, но из-за постоянных споров они никогда не отличались действенным рвением и любовью к тому, что нравится в других местах. Оба были и остаются раками, которые передвигаются не так, как вы думаете. Что касается униатов, здесь тоже пустота. Они слушают их попов, которые занимаются интригами на страницах русских львовских газет. Наверняка вы читали, что Куземский в своём глубоком рвении искоренил в церквах своей епархии всё, что было бы латинским или польским, чего нет в раскольнических церквах. Поэтому он выбросил орган, запретил людям петь польские песни, литании, часы, хотя люди не говорят по-русски. Он запретил латинским священникам совершать св. мессу в униатских церквах и, таким образом, также запретил богослужение в латинских храмах под суровыми наказаниями. За эти заслуги он получил от царя очень красивую деревню, которая была конфискована у польского дворянина» [25: 255-254]. Спустя пять лет журнал описывает и другие случаи ухода духовенства из греко-католической церкви, принятия православия и выезда за границу, на Русь. В то же время преследуемые католические священники приехали в Галицию из Руси: «К сожалению, сейчас даже русины стали вредителями нашей святой веры, потому что их духовенство бросается в объятия раскола и бежит, кто может, на Русь, в Хелм. Хоть энциклика св. отца из 15 мая осуждает этот поступок, она пробудила у многих священников больший аппетит к горшкам с раскольническим мясом. У нас есть много бедных сосланных священников из Хелма, которые не хотели предавать веру, и у них дела идут плохо» [5: 278]. Религиозно-языковая ситуация русинов Подкарпатской Руси описана в чешском журнале «Pokrok zapadu», издававшемся в США. Из-за тесной связи между греко-католической церковью и русинским образованием венгерское правительство потребовало, прежде чем одобрить назначение нового русинского епископа в Мукачеве, взять на себя обязательство ввести венгерский язык во всех подчинённых школах: «Венгеризация в Венгрии начинает осуществляться сис- История 127 тематически. Недавно назначенный русинский епископ Мукачева Пастолий (PasztoLyi) издал приказ преподавать венгерский язык в качестве обязательного предмета во всех школах своей епархии. Правительство получило от него это обещание заранее, прежде чем рекомендовало его назначение» [18: 1]. На рубеже XIX и XX в. поддержка австрийской монархией украинского движения была ещё более важной в связи с созданием оппозиции против России (против т. н. русофилов или москвофилов). Однако попытки создать новую украинскую нацию не встретили понимания славянских жителей, которые до сих пор называли себя русинами. Поскольку одним из важных атрибутов зарождавшейся украинской нации в Австро-Венгрии был греческий католицизм, часть населения обратилась в православие, но это было очень негативно оценено как австрийскими, так и венгерскими властями. Таким образом, переход к другой религии имел совершенно иные причины, чем религиозные и доктринальные, как показано в статье 1914 г.: «Ни один из православных лемков, беседовавших с нашим корреспондентом, не упомянул ни слова об учении католической или православной церкви, её догматах; ни один не сказал, что обратился в православие ради веры. Лемки не хотят быть украинцами и поэтому ненамеренно становятся православными. Исходящие униаты хотят таким образом спасти свою русскую национальность, а не православную веру» [17: 874]. В то время как русины Галиции и Подкарпатской Руси были в основном греко-католиками, православные русины жили на Буковине. Включение русских старообрядцев в число русинов может показаться удивительным. «Буковина. Вдоль галицкой границы проживают русины, вдоль мултанской - румыны, оба в основном православные, лишь некоторые русины являются древнерусскими старообрядцами и называются липовянами. Между городскими русинами и румынами встречаются немцы, израильтяне, армяне, а в сельской местности - поляки. В целом население очень разнообразное по национальности и вероисповеданию» [22: 88]. Украина и украинцы В чешской периодической прессе XIX в. есть упоминания об Украине и украинцах, но в совершенно другом контексте. В 18841898 гг. журнал «Amerikan» (Чикаго) упоминает только Украину, украинские песни, украинские легенды, но ни в коем случае не упоминает украинцев и украинскую национальность. Интересно, что термин «Украина» используется в связи с тем, что было несколько веков 128 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 65 назад, например история Маруси («более двухсот лет прошло после того, как приятный голос Маруси звучал по Украине; более двухсот лет смерти этой женщины, чьи народные песни до сих пор в устах людей Малоруссии...») [2]. Похожая ситуация была и с другими чешскими журналами, издававшимися в США, - «Besfdka Slovana» или «Pokrok zapadu» (1875-1897), где обозначение «Украина» фигурирует только для древней исторической территории, но только в романах. Для славянского (непольского) населения Галиции и Подкарпатской Руси в чешской прессе XIX в. почти всегда использовался этноним «русин». Если Украина упоминалась в прессе в исключительных случаях, то это была не территория Галиции, а территория под управлением царской России. Этим исключением был, например, краткий отчёт политического еженедельника «Pokrok zapadu» от 30 августа 1893 г., в котором говорится: «Заговор был вновь открыт в Харькове в России. Заговор якобы направлен на отделение Украины от России. 26 человек были задержаны». В статье 1914 г. упоминается разделение галицкого населения на две враждебные группы - украинофилов и москвофилов и отмечается, что политическое значение москвофилов в Галиции постоянно уменьшается. В это время для жителей Галиции уже появляется обозначение украинцев как самостоятельной национальности. Стоит отметить, что группа, признававшая русинов независимой нацией, вообще не упоминается. «Русское галицкое общество - это две противостоящие вражеские партии. Признаётся особая национальность южнорусского населения, называемого “украинская нация”. Это из-за недоразумения, которое может возникнуть из-за общего с Великой Русью названия “Русь”, “русин”. Другая сторона ничего не хочет слышать об особой украинской национальности, считая себя представителем единственной русской нации. Украинцы, отличающие свой язык от великорусского, считают его подходящим не только для фольклорных писаний, но и для научных и публицистических. Напротив, “москвофилы”, как мы называем последователей единой целостной России, хотя и используют местный язык в церкви и в национальной литературе, считают его одним из ответвлений русского языка и используют его в науке и журналистике, хотя часто недостаточно. В начале того века даже те интеллигентные русины, которые не придерживались польской национальности, в основном использовали польский язык в устной и письменной речи, и на этом же языке говорили во многих галицких городах и использовали в проповедях. Русинской литературы в то время почти не было. В 1840-х гг. в История 129 Галиции также произошло национальное возрождение: возможно, единственные в то время представители интеллигенции, униатские священники, начали говорить и писать на языке своего стада (своей паствы. - П.К., В.Ш.) и публиковать на нём периодические издания. Усилия украинцев были поддержаны правительством Австрии, которое рассматривало враждебное антироссийское “украинство” как лучшую стену против возможной напряжённости северного соседа на “русские” регионы Габсбургской монархии. С другой стороны, мо-сквофилы, хотя и неоднократно заверяли в своей полной верности Австрийской империи и признавали своё отличие от русской нации, всегда считались менее надёжным политическим элементом. Судьба москвофилов с их “общероссийским литературным языком” была решена. Ещё большие потери москвофилы понесли на политическом направлении» [17: 874]. Лемки Лемки в настоящее время представляют особую группу русинов, для которых определение этнической идентичности - непростая задача. Одни воспринимают их как украинцев, другие - как группу польских русинов, которые, напротив, строго дистанцируются от украинцев. Это является следствием ситуации, наблюдавшейся в XIX в., когда существовало соперничество между лемками т. н. древнерусской традиции (верной Австрии и отсылкой к традициям Киевской и Галицкой Руси), лемками украинского направления (признание русинов-украинцев независимой нацией) и лемками т. н. русофильского направления (с традициями панславизма и упором на связи с Россией) [15]. В чешском периодическом издании XIX в. о лемках очень мало упоминаний. Больше места уделяется лемкам и их обычаям в этнографической статье Франтишека Жегоржа в журнале Музея Чешского королевства [13: 353-375]. Чешский журналист и этнограф рубежа XIX и XX вв. Примус Со-ботка в 1880 г. представил читателям лемков как очень самобытную группу. При этом предполагалось, что для подавляющего большинства читателей этот этнос совершенно неизвестен. В полном соответствии с предпочтительным направлением на территории Австро-Венгрии он считает лемков частью малорусской нации. «Многие читатели с удивлением спрашивают: лемки? Я никогда о них не слышал! Я вам верю, потому что, насколько мне известно, о них никто не писал; если мы хотим что-то о них узнать, следует обратиться к польским и малорусским писателям. Однако в нашей стране этнографические исследования не проводятся, и некому изучать эту область. Лемки 130 g J Ml ci ii I 2021. № 65 - это галицкие малороссы, называющие себя русинами или русняками. Название “лемки” получено от соседей как прозвище, потому что вместо союза “только” они говорит “лем”. Возникает второй вопрос: где живут эти лемки? Их поселения расположены на северной стороне Карпат, в конце Низких Бескидов от реки Сан до долины Попрада в Сандецком и Саноцком регионах. Лемки - тихий, доброжелательный, искренний, трудолюбивый и скромный народ, очень религиозный в моральном плане, строго соблюдающий церковные праздники в святости, каждое дело начинается и заканчивается молитвой и сохраняет идиллическую простоту нравственности; про кражи и грабежи о них не слышал. Лемко любит свой родной край, и, если бы не было неурожая и нищеты, он никогда бы не пересёк границы своей родины» [20]. Другие специфические славянские этносы (например, гуцулы), которые могли быть связаны с русинами, упоминаются в чешской прессе XIX в. очень редко - чаще всего в связи с этнографическим описанием обычаев. Хотя лемки называли себя русинами, для чешских авторов в конце XIX в. они были в основном малорусами - вероятно, под влиянием распространявшегося на территории Габсбургской империи малорусского (а затем и украинского) движения. Этнографические выставки Во второй половине XIX в. этнографические выставки сыграли роль в развитии чешского национального самосознания, особенно Чехо-славянская этнографическая выставка 1895 г., где были представлены в основном типичные чешские (а также и других славянских народов) дома, инструменты, ремёсла и одежда. Чешская пресса упоминает Всемирную выставку в Вене 1873 г. (пятая всемирная выставка и первая в немецкоязычных странах). Она включала этнографическую деревню австрийских народов с типичными поместьями Форарль-берга, Трансильвании, образцы жилья из Эльзаса, Хорватии, Румынии, России, а также Галиции и Подкарпатской Руси, которую представляла типичная деревянная церковь [23: 55]: «Деревня австрийских народов. Здесь была основана целая деревня: каждое строение индивидуально, принадлежит своему народу или своей стране. Посередине стоит совершенно древняя православная церковь - модель, взятая из русинской части Карпат; чтобы подчеркнуть, что в Карпатах ещё нет недостатка в дереве, небольшая церквушка полностью сделана из дерева» [26: 3]. Лишь на т. н. Юбилейной выставке 1891 г., в которой немцы отказались участвовать из-за чешско-немецкой этнической розни, чехи История 131 попытались продемонстрировать своё мастерство. Там также присутствовали делегации представителей славянских народов, в т. ч. галицких русинов. Однако главная этнографическая выставка состоялась в 1895 г. Она была направлена на то, чтобы показать жизнь чехов и других славянских народов. Американский журнал «Pokrok zapadu» упомянул об интересе галицких
Соловьёв К.А. Русины Австро-Венгрии и российское общество // Вестник РГГУ. 2015. № 11 (154).
Amerikán, národní kalendář na rok 1891. 1891. Vol. 14, № 1.
Bolzano B. Řeči vzdělávací akademické mládeži. Praha: F. Urbánek, 1882.
Dąbczański A. Die ruthenische Frage in Galizien. Lemberg: Ossolińskischen National-Instituts-Druckerei, 1848.
Dopisy z Haliče // Blahověst. 1874. Vol. 24, 25 июня, № 20.
Havlíček B.K. Rusíni // Národní nowiny. 1848. Vol. 1. 11 октября. № 186.
Havlíček B.K. Rusíni // Národní nowiny. 1849. Vol. 2. 2 февраля. № 28.
Havlíček B.K. Rusíni // Národní nowiny. 1849. Vol. 2. 31 января. № 26.
Havlíček B.K. Rusíni // Národní nowiny. 1849. Vol. 2. 20 июля. № 156.
Himka J.P. Religion and nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic church and the Ruthenian national movement in Galicia, 1870-1900. McGill-Queen’s Press-MQUP, 1999. Vol. 7. P. 10
Holubec S. Mezi slovanskou vzájemností a orientalismem // Soudobé dějiny. 2016. № 23.4. Р. 529-562.
Hroch M. Národy nejsou dílem náhody. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.
Kalendářík z národního života Lemkův // Časopis Musea království Českého. 1897. Vol. 1, № 3.
Knob S., Řepa M. 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly // Historica. 2010. № 1.
Kokaisl P., Štolfová A., Fajfrlíková P. et al. Po stopách Rusínů v Evropě: Ukrajina, Slovensko, Srbsko, Polsko a Maďarsko. Praha: Nostalgie, 2020.
Magocsi Paul R. A history of Ukraine: The land and its peoples. University of Toronto Press, 2010.
O domnělém pronásledování pravoslaví v Haliči // Vlasť. 1914. Vol. 30. August 1914. № 1.
Pomaďařování v Uhrách // Pokrok západu. 1875. 20 июля. № 12.
Rusíni na výstavu Národopisnou // Pokrok západu. 1895. 14 сентября. № 18. P. 5.
Sobotka P. Lemkové a jich humor // Světozor. 1880. Vol. 14. № 50. 12 декабря.
Štulc V.S. Církew katolicko-slowanská // Blahověst. 1851. Vol. 5. № 3. 17 января.
Tille A. Učebnice zeměpisu obecného i rakouskouherského pro školy střední. Praha: I.L. Kober, 1880.
Welt ausstellen. Schauplatz Wien 1873. Wien: Herausgeber Technisches Museum, 2005.
Z Polska dne 7. června 1868 // Blahověst. 1868. Vol. 18. 5 июля. № 19.
Z Polsky v květnu 1869 // Blahověst. 1869. Vol. 19. 5 мая. № 15.
Z vídeňské výstavy // Pokrok západu. 1873. 25 июня. № 11.
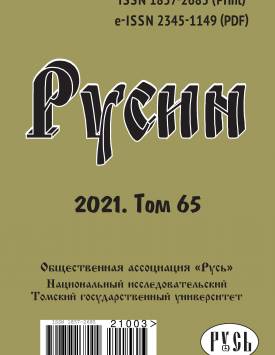

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью