А.В. Суворов - крупнейший исторический деятель, известный прежде всего своими военными достижениями, в т. ч. числе на славянских территориях (службой в Люблинском районе, участием в военных действиях в Польше, походе на Брест и др.), яркий представитель культурной элиты русского общества XVIII в. Исследование выполнено на стыке лингвоперсонологии и исторической лексикологии и посвящено проблеме описания исторической языковой личности (в данном случае А.В. Суворова), которая рассматривается как отражение, с одной стороны, конкретной личности с её языковым потенциалом, типом языковой рефлексии, с другой -эпохи в целом с присущими ей языковыми чертами и тенденциями. Таким образом, процессы, протекающие в языке в данный временной период, проявляются и в языке отдельной личности. В исследовательском фокусе оказывается заимствованная лексика, отражающая общую нестабильность языковой системы русского языка данного периода, связанную со сложившимся многоязычием представителей русской нации, значительным приростом иноязычной лексики в языке, сменой языковых норм. В ходе исследования сквозь призму ксенолексики, нашедшей отражение в письмах русского полководца, описываются черты А.В. Суворова как языковой личности, отмечается его широкий кругозор, свободное владение лексическим запасом родного и иностранных языков, языковая интуиция, новаторский характер использования единиц родного и иностранных языков.
Historical language personality of the 18th century through the prism of xenolexis (based on A.V. Suvorov’s letters).pdf Последовательный опыт обращения современных лингвистов к исследованию языка конкретных личностей оказался научно продуктивным и дал возможность рассматривать язык как действующий механизм, детерминированный не только внутренними законами развития и функционирования языка, но и внешними факторами, которые являются определяющими для речевой способности той или иной языковой личности. В этой связи языковая личность представляется, с одной стороны, непосредственным объектом лингвистического 104 Ряд, Mu iVf < ci ii I 2021. № 66 внимания, позволяющим изучить общие тенденции существования языка на материале речи отдельного человека, обращаясь к его способности владения языком и рефлексии по поводу данного языка; выявить языковой потенциал данной личности; определить её черты. С другой стороны, языковой материал, порождённый опредёленной языковой личностью, может рассматриваться как источник изучения отдельных процессов, протекающих в языке и эксплицированных в речи языковой личности. Наряду с современными языковыми личностями в фокусе внимания лингвоперсонологии находится историческая языковая личность, рассматривающаяся как особый тип личности, характерный для определённого временного периода, детерминированный общими чертами этого периода, накладывающими свой отпечаток на языковую и иную деятельность представителей эпохи. Пока в исследованиях превалирует «абстрактный подход к говорящему субъекту», обращения к конкретным языковым личностям редки [8: 5], однако среди работ, посвящённых исследованию исторических личностей, отмечаются описания отдельных личностей: князя А.М. Курбского, Петра Великого, Ивана IV, автора «Повести временных лет», В.И. Даля, князя Воронцова, А.Н. Демидова, Ф.М. Достоевского. Данная работа посвящена изучению языковой личности Александра Васильевича Суворова (1730-1800) и продолжает ряд исследований, направленных на описание суворовского наследия с лингвистической точки зрения и отмечающих характерные черты его антропотекста. Среди подобных работ отметим исследование А.И. Горшкова, предпринятое для изучения иностранных слов, употрёбленных Суворовым в «Науке побеждать» [3]. Автор полагает, что, несмотря на свойственное суворовской эпохе чрезмерное увлечение иностранными словами, сам Суворов в выборе иностранных слов был осторожен и нередко проявлял стремление к замене их русскими единицами. Анализируя субстантивное словообразование в суворовском эпи-столярии, И.А. Вотякова утверждает, что, с одной стороны, в нём имеют место те процессы и тенденции, которые характерны для именного словопроизводства XVIII в., с другой стороны, сам А.В. Суворов проявляет себя как личность, способная и склонная к словотворчеству [2], умеющая словом не только передать суть явления, но и показать своё отношение (в том числе иронию) к нему. О словообразовательных инновациях Суворова говорит О.В. Никитин, характеризуя его речь как индивидуальное проявление деловой речи XVIII в., считая использование единиц, «отсутствующих в словарях и не подтвержденных книжной практикой» [12: 231], Литература и литературоведение 105 лингвистическим «эпатажем» и проявлением ораторского мастерства А.В. Суворова, поражающего «своей исключительно языковой и в целом семантико-стилистической энергетикой» [12: 232]. Эпистолярий А.В. Суворова используется как источник изучения заимствованной лексики и процессов её освоения в работе И.Я. Конончук, в которой делаются выводы о семантике, хронологии и источниках заимствования в русский язык иноязычных единиц, отраженных в письмах полководца [9]. Таким образом, в научных источниках отмечены некоторые черты рассматриваемой языковой личности, свидетельствующие об использовании им ксенолексики, окказионализмов, о способности к языковой игре, однако отсутствуют работы, направленные на описание личности А.В. Суворова в лингвоперсонологическом аспекте. Целью данного исследования является анализ исторической языковой личности А.В. Суворова сквозь призму иноязычной лексики, зафиксированной в его письмах (1764-1799). Обращение именно к данной языковой личности мотивировано тем, что Суворов представляет собой яркое явление в российском обществе второй половины XVIII в. Он принадлежал к наиболее образованным, интеллигентным кругам общества, которые являлись носителями передовых идей и проводниками на русскую почву новых тенденций в разных областях жизни. Значимость А.В. Суворова для истории России определяется его военной (участие во взятии русскими войсками Берлина, Русско-турецкой войне, в Крымском походе; подавление восстания в Польше и т. д.), а также военно-теоретической и педагогической деятельностью. Опираясь на вековые военные традиции России, хорошее знание фортификации, знакомство с состоянием современных иностранных армий, Суворов возродил и развил прогрессивные идеи петровской армии в области её организации, создал оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, обучения военному делу и основал прогрессивную школу военного искусства. Он внимательно следил за ходом военных и политических событий в Западной Европе, являясь постоянным подписчиком иностранных газет, журналов, научных изданий, владел немецким, французским, итальянским, польским, турецким, частично арабским, персидским и финским языками, вёл переписку официального и частного характера с царствующими особами и высшими должностными лицами русского государства, общался с представителями иностранных государств и ведомств. Среди адресатов писем Суворова выделяются Екатерина II, Павел I, польский король Станислав Август, император Франц, П.А. Румянцев, Г.А. Потёмкин, ПР. Державин, П.И. Багратион, М.И. Кутузов и другие 106 Ряд, Mu iVf < ci ii I 2021. № 66 выдающиеся современники генералиссимуса. Как представляется, богатая на события жизнь, общение с людьми разных сословий, неординарный характер рассматриваемой личности, аккумулировавшей в себе традиции и инновации эпохи, нашли отражение в его письмах. Следует отметить, что в качестве материала для изучения языковых личностей определённого исторического периода исследователи часто используют именно деловую и частную переписку, дневники, записки. Подобные письменные тексты представляют собой значимый источник фактической информации «о жизни, литературной и издательской деятельности, идеологических установках, этнической и языковой самоидентификации» авторов эго-документов [5: 15]. Непринуждённый характер писем, в котором отражается стремление к коммуникации и личностной реализации языковой компетенции, делает их незаменимым источником лингвоперсонологии, даёт возможность проследить реальное функционирование языка личности, новейшие тенденции в использовании языковых единиц, начиная от фиксации авторами эпистолярия новых реалий, ранее не характерных для данного народа, и заканчивая использованием только что появившихся (в т. ч. заимствуемых из других языков) моделей и единиц, образованных в соответствии с ними, для называния реалий окружающего мира и их характеристики. Так, например, эго-документы XVIII в. позволяют судить «об истинном характере функционирования, степени освоенности, семантических свойствах, сочетательных возможностях иноязычного слова» [1: 61]. Это объясняется тем, что данный период истории России (и, как следствие, русского языка) характеризуется переменами во всех сферах деятельности русской нации, что связано с ростом производственных, научных, культурных, торговых связей России с Западом, с развитием морского дела, ростом книгопечатания и письменной традиции в целом, с созданием словаря и грамматики русского языка. Кроме того, в тот период отмечались своеобразное многоязычие представителей некоторых слоёв русской нации, смена языковых норм во всех подсистемах языка, которая объясняется в т. ч. и усилившимися контактами с европейскими и восточными государствами и массовыми заимствованиями из языков этих стран. Немаловажным параметром языкового портрета носителя языка того периода следует признать чувствительность той или иной языковой личности к иноязычиям, её способность принимать и адаптировать к условиям коммуникации на родном языке заимствуемые в язык элементы. Таким образом, в фокусе данного исследования находится заимствованная лексика, которая рассматривается как своеобразный маркер Литература и литературоведение 107 языка русской личности XVIII в., отражающий общую нестабильность и вариативность языковой системы русского языка данного периода, её склонность к восприятию и переработке иноязычных элементов, а языковая личность Суворова оценивается сквозь призму ксенолекси-ки, зафиксированной в его письмах. По нашему мнению, обращение к данному лексическому срезу языка личности позволит, с одной стороны, проследить черты, общие для языка русской интеллигенции второй половины XVIII в., а с другой стороны, выявить специфические черты языковой личности А.В. Суворова. В используемых источниках представлено 690 писем А.В. Суворова, большинство которых (584) написаны на русском языке [4; 15]. При этом потенциал языковой компетенции Суворова прежде всего демонстрируют его письма, написанные на иностранных языках: 88 - на французском, 2 - частично на французском, 13 - на немецком, 1 - частично на немецком и 1 - на итальянском [15]. Кроме того, вкрапления в русский текст фрагментов на английском, итальянском, латинском, немецком языках [4; 15] позволяют говорить о реальном многоязычии автора писем, о его способности отражать объективную действительность и своё отношение к ней, используя одновременно разные языки, о его знакомстве как образованного человека с иными культурами, подтверждают его статус неординарной языковой личности. Зафиксированные в письмах лексемы иностранного происхождения составляют значительный пласт лексики суворовского эписто-лярия, насчитывающего около 90 тыс. словоупотреблений. Это 761 единица, при этом некоторые из слов зафиксированы в письмах в нескольких значениях (вояж, гений, билет и т. п.). Степень частотности ксенолексем в тексте писем значительно варьируется (бард (1), тетрадь (2), паспорт (3), ретирада (4), редут (5), эскадрон (6), газета (10), провиант (14) и т. п.). Подавляющее количество заимствованных единиц составляют лексемы западноевропейского происхождения: чаще всего в роли источника заимствования выступает французский язык (203 ед.), далее следуют латинский (173 ед.) и немецкий (128 ед.), заимствования из других языков значительно уступают в количественном отношении. Ксенолексемы из славянских языков составляют 12 единиц. Проведённый историко-этимологический анализ рассматриваемых единиц свидетельствует о том, что языковой материал писем А.В. Суворова отражает общую картину состояния лексической системы русского языка (и других славянских языков) конца XVII -XVIII вв.: в качестве наиболее распространённых языков-источников для заимствованной лексики, выявленной в эпистолярии, выступают французский и немецкий языки, в качестве языков-посредников -ci ii I 2021. № 66 108 польский и немецкий языки, отражающие характерное для носителей русского языка преобладающее количество языковых контактов данного временного периода. Значимым моментом, который необходимо отметить, исследуя языковую личность А.В. Суворова в историческом аспекте, является её широкий культурно-языковой кругозор, что подтверждают знание автором писем реалий «иноязычной» действительности (начиная от античного мира и заканчивая особенностями быта малых народов России), тематический охват использованной в письмах лексики, чёткое понимание коммуникативной значимости той или иной единицы. Тематический разброс иноязычной лексики суворовского эписто-лярия достаточно широк, он отражает все функциональные сферы современного А.В. Суворову русского общества, а также явления и понятия, находящиеся вне русской действительности, и показывает его «искусным бытописателем эпохи» [12: 242]. Широкий страноведческий, культурный и лингвистический кругозор автора писем представлен в многообразии зафиксированной лексики иностранного происхождения, которую можно разделить на 11 тематических классов разного состава и степени дробности. Первый класс (одну из самых многочисленных и широко представленных групп иноязычной лексики) составляет лексика функциональной сферы «Военное дело и война», которая распадается на две группы «Армия» и «Флот» (наименования групп тематической классификации см. [1: 334-337]). Внутри первой указанной группы зафиксирована лексика разных тематических подгрупп «Роды войск», «Военная тактика», «Перемещение и размещение войск», «Оружие», «Фортификация», «Чины и звания»: гвардия, инфантерия, авангард, корволан, эскадрон, абордаж, бомбардировать, дефензиф, ретирада, маневр, фланг, фронт, ордер, рапорт, вахт-парад, волонтер, дезертир, мерсинер, экзерцировать, казарма, кош, шильтгауз, провиант, субси-стенция, мушкет, картечь, лафет, мортира, редут, траншея, гренадёр, каптенармус, корпорал и др. Иноязычная лексика группы «Флот» распределяется по тематическим подгруппам «Виды кораблей», «Архитектура корабля», «Лоция и навигация»: бот, брандер, галера, тартана, фелюга (фелюка), вант, киль, клот, гавень, зефир, курс, румб и др. Представляется логичным, что для русского полководца, сделавшего исключительную военную карьеру, единицы указанного класса являются преобладающими (257 ед.). Это отражает и общую тенденцию пополнения тематической группы с семантикой «войны» в русском языке иноязычными единицами, связанного в т. ч. и с реформами Петра I, направленными на создание армии по западному Литература и литературоведение 109 образцу. Единицы данного класса в эпистолярии Суворова наиболее частотны: казарма (5), редут (5), волонтер (5), рапорт (6), провиант (14) и т. п. Значимость данных единиц при характеристике языковой личности полководца объясняется и тем, что больше половины писем посвящено военным и околовоенным (конвоирование Е. Пугачева, строительство оборонительных крепостей на границах с Финляндией и на юге России и т. д.) событиям. Преимущественно это распоряжения о расположении войск, приказы, сообщения о подготовке к сражению, о начале баталии, о победах и неудачах, поздравления с успехом операций, ходатайства за отличившихся офицеров, сообщения о потерях, благодарности за награды. В ряде писем нашли отражение размышления Суворова о принципах боевых действий и требованиях к офицерской службе, о здоровье солдат. Таким образом, ксенолексика с военной тематикой свидетельствует о главном аспекте исследуемой языковой личности - Суворове-военном. Вторым по количеству представленных единиц (162 ед.) в письмах Суворова является класс общественно-политической лексики «Государство. Право. Политика. Дипломатия. Юстиция», внутри которого можно выделить многочисленные группы заимствованной лексики «Государственная власть», «Политические партии», «Правовые и имущественные отношения», «Нация, границы», «Государственное управление», «Делопроизводство», «Юстиция»: император, инсигнии, герцог, конфедерат, триумвират, фракционер, магнат, арнаут, кантон, форштат, коалиция, нейтралитет, агрессор, арбитр, консул, канцлер, сераскер, абшид, вакансия, карьер, нота, паспорт, ревизия, арестовать, юрист и др. Данные единицы характеризуют иной аспект языковой личности Суворова - её вовлечённость в основные сферы деятельности государства и человека в нём. Данные единицы находят отражение в письмах (в т. ч. в личных письмах к друзьям и семье), в которых автор рассуждает о государственном устройстве, положении переселённых во время Крымской кампании христиан, о своём желании приносить пользу Отечеству, необходимости поддерживать талант, о засилии в России иностранцев, губительных для армии нововведениях Павла I. При этом многие из указанных ксенолексем используются для называния событий военного характера и оценки участников этих событий, Суворов-военный «преобладает» над Суворовым-государственным деятелем. Третьим по количеству составляющих иноязычных единиц (94) является класс, объединивший слова функциональной сферы «Общественный и частный быт», внутри которого отмечаются тематические группы «Светские отношения», «Жилище, убранство дома», «Одежда, 110 Ряд, Ac iVf < ci ii I 2021. № 66 обувь, предметы туалета», «Кушанья, напитки», «Путешествия», «Сфера обслуживания»: визит, гофмейстер,ребронды, банкет, виск, карнавал, робер, тавлей, фейерверк, мебель, сервиз, штоф, бисер, жупан, шка-тула, шлафор, штиблета, десерт, кофей, порция, багаж, вояж, фура, камердинер, лакей, парикмахер и др. Данные ксенолексемы разнородны в семантическом и количественном отношении (кофей (1), сервиз (3), визит (4) и т. д.), представлены как нейтральными, так и оценочными единицами и отмечены в личных письмах, в которых полководец пишет о перипетиях отношений с женой, тревоге за судьбу дочери, о придворных интригах, опале после прихода к власти Павла I. Небольшая часть писем, адресованных управляющим его имениями и вотчинами, отразила непосредственную хозяйственную деятельность Суворова. Вопреки ожиданиям и в этих письмах автор использует ксенолексемы, свидетельствующие о подготовленности его адресатов к подобным единицам. Четвертый класс единиц (83), зафиксированных в письмах Суворова, охватывает лексику функциональной сферы «Обществоведение. Культура. Искусство», в которой выделяются группа «История, хронология, древний мир и народы в древности; мифология», представленная единицами бард, история, гидра, колосс, нимфа, сирена и др.; группа «Живопись, скульптура», в которую входят заимствованные лексемы персона, портрет, профиль и др.; группа «Литература, филология, книга, книгопечатание, театр, музыка», содержащая единицы газета, панегирик, пасквиль, трубадур, комментарий, рифма, брулион, грамматика, титл, типография, энциклопедик, балет, каприоль, комик, трагик, кулис, ложа, амфитеатральный валторн, клавикорды, фагот, каданс, нота, хор и др. Не менее разнообразна заимствованная лексика пятого класса -«Человек в научном и бытовом освещении» (90 ед.), представляющая физическое сложение, физиологию человека, медицину, мыслительные способности, речь, чувства, поведение: гигант, пульс, апоплекция, сплин, акушер, карантин, пилюля, диктация, лаконизм, суспиция, экивок, энигма, конфидент, протекция, сентимент, космополит, мизантроп, пацификатор, педантизм, реприманд и др. Таким образом, анализ единиц наиболее репрезентативных групп заимствованной лексики в исследуемых письмах демонстрирует следующие аспекты исследуемой исторической языковой личности: военная, государственная, бытовая, научно-культурная личность, позволяющие судить о функциональном масштабе и содержательном разнообразии языковой личности А.В. Суворова. Шестой тематический класс «Природа в научном и бытовом освещении» в суворовских письмах представлена единицами (50), Литература и литературоведение 111 отображающими естественно-научные положения о мироздании: камер-обскура, натуральный, элемент, горизонт, минута, планета, экватор, ландкарта, лиман, локальный, минерал, аргамак, миллефо-лиум, миндаль и др. Иноязычная лексика функциональной сферы «Финансы. Коммерция. Связь» составляет седьмой класс и содержит единицы (42), отражающие коммерцию, связь, средства сообщения, почтовые отправления: вексель, гульден, ломбард, фунт, гандель, комиссионер, процент, депеша, курьер, пакет, почта, эпистола и др., причём некоторые из указанных единиц используются в т. ч. в «военных» контекстах - депеша, пакет, процент и т. д., свидетельствуют в большей степени о Суворове-военном. Самыми малочисленными в исследуемом эпистолярии являются иноязычные единицы восьмого - одиннадцатого класса - функциональных сфер «Число, счёт, пространство» (22), «Хозяйство, техника, строительное дело» (24), «Наука, образование» (23), «Религия» (24): арифметика, миллион, пропорция, кубический, параллель, масштаб, проспект, артель, клепсидр, машина, флер, аллея, архитектор, сераль, академия, факультет, диалектика, пирронизм, софизм, апостол, гекатомба, декалог, литургия, эпитимия, архиерей, архимандрит, ксендз, регент, синод и др. Следует отметить, что рассмотренная выше типология иноязычных единиц, используемых А.В. Суворовым, представляет собой не только доказательство культурной образованности, активной жизненной позиции, эрудированности автора писем, но и демонстрацию фрагмента языковой ситуации в России второй половины XVIII в., к которой был непосредственно причастен полководец. Таким образом, языковая личность А.В. Суворова на лексическом уровне проявляет себя в использовании значительного числа заимствованных слов, т. е. отражает общие тенденции языковой ситуации того периода и в целом может быть охарактеризована как типичная языковая личность русского интеллигента XVIII в., в антропотексте которой отражаются общие закономерности развития и функционирования русского языка. На основе анализа данных единиц можно утверждать, что преобладающими аспектами исследуемой языковой личности являются военный, общественный, бытовой (далее культурно-научный, финансовый и т. д.). Следует отметить, что, несмотря на количественную репрезентативность иноязычных единиц со значением культурных, научных, коммерческих и других реалий, некоторые из них имеют собственно номинативный характер и представлены единичными употреблениями (рифма в стихах, грамматике учиться, щупать пульс, портрет мой готов и т. п.). 112 Ряд, Mu iVf < ci ii I 2021. № 66 Отметим, что рассматриваемой языковой личности присущи, как отмечалось ранее, определённые лексические предпочтения, языковая игра, ирония (трагиком будет дворовый Никитка, Катерина Ивановна появилась с нимфами, филозофов кормят миндалями и т. д.). Подтверждением ярко выраженного творческого начала языковой личности А.В. Суворова являются случаи использования им заимствованных слов в переносном значении и (или) с другим коннотативным насыщением по сравнению с первоначальным значением [10]. Так, например, существительное клепсидр отмечено в письме Суворова В.А. Зубову: «Сион в клепсидры поедет» [15: 525]. Анализ семантики приведенной единицы позволяет считать, что рассматриваемое слово употребляется в значении «время, срок»: Генерал-майор Карл Осипович Оде де Сион едет в Кобрин в тревожное время (т. е. в клепсидры), когда приближается срок выплаты по векселям [15: 695]. Анализируемая единица заимствована из французского языка в конце XVIII в. в значении «водяные часы» (зафиксировано в словаре в форме мужского рода) [14], по которым определяли время выступления оратора в суде. В данном случае знание Суворовым значения аналогичной французской единицы дало возможность употребить его в ином, вторичном, значении. В письмах А.В. Суворова отмечаются и другие заимствованные единицы с семантическими сдвигами вследствие развития метафорических и метонимических отношений, не отмеченными в лексикографических источниках. Существительное гекатомба отмечено в следующем контексте: «Слетя с Олимпа, странствую я по каменной степи, обросшей лесом, который для меня освященный лог для гекатомба премудрому Земному Богу» [15: 212]. Данное письмо адресовано П.А. Зубову - последнему фавориту Екатерины II и написано в период службы Суворова на границе с Финляндией, где он руководил строительством укреплений. Новое назначение вызывало недовольство Суворова (словно «слетел с Олимпа»), он сравнивал своё положение со странствием по обросшей лесом каменной степи, а свою деятельность, лишённую возможности выступать в функции полководца, считал «гекатомбой премудрому Земному Богу», т. е. своеобразным жертвоприношением. Слово гекатомба пришло в русский язык в значении «жертвоприношение» в середине XVIII в. при посредничестве латинского hecatombe - «тожественное жертвоприношение ста животных» или непосредственно из греческого 'скатоцРп П - «большая общественная жертва» [11: 165]. Использование данной единицы в новом значении демонстрирует не только культурный кругозор автора письма, знакомого с реалиями античной культуры, но и языковую компетенцию автора Литература и литературоведение 113 письма, связанную с метафорическим переосмыслением ксенолек-семы, его ироничность. Также в письмах Суворова встречается единица каприоли, которая зафиксирована в следующем контексте: «Потворство научит впредь шире заячьи каприоли делать» [15: 132]. В русском языке это заимствование получило распространение во второй половине XVIII в., используясь в значении «прыжок, скачок (например, прыжок лошади, антраша в балете)» [14]. Источником заимствования является итальянское capriola - «прыжок, скачок, кувырок» [6: 164], на русской почве существительное каприоль получила распространение при посредничестве немецкого Kapriole - «скачок, прыжок» [18: 321]. Оценивая своё положение в данном случае, Суворов сообщает адресату о необходимости больше хитрить, изворачиваться и использует для придания фразе иносказательного смысла указанное заимствование в сочетании «шире заячьи каприоли делать», т. е., как заяц, убегая от преследователей, запутывать следы каприолями - хитроумными прыжками. Таким образом, полководец прибегает к явной языковой игре, сравнивая себя с загнанным зайцем, вынужденным идти на хитрости, и употребляет единицу в переносном значении «хитрость, изворотливость». Семантическое переосмысление отмечается и у театрального термина балет, получившего широкое распространение в русском языке в середине XVIII в. в значении «театральное представление, состоящее из танцев и мимических движений под музыку» при посредничестве французского ballet. Данная единица зафиксирована в письме дочери Н.А. Суворовой: «У нас все были драки сильнее, нежели вы дерётесь за волосы; а как вправду потанцовали, то я с балету вышел - в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, до подо мною лошади мордочку отстрелили: насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру» [15: 122]. Рассматриваемая ксенолексема отражает существенную особенность суворовского лексикона в целом: при описании военных действий и реалий он часто использует единицы, обозначающие понятия и явления, не связанные с войной и военной службой. Письма дочери и близким друзьям особенно отличаются в этом отношении, в них война часто сравнивается с морской бурей или театральным представлением (отметим, что такая метафорическая модель сейчас в целом характерна для русского языка). Приведённый и другие контексты демонстрируют элементы образности, иносказательности, иногда окрашенные тонким суворовским юмором и иронией по отношению к себе и событиям своей жизни, характерные в целом для анализируемой языковой личности. К этому же следует отнести и переосмысление театрального термина балет, который в письме ci ii I 2021. № 66 114 выступает семантически эквивалентным сочетанию военное сражение со своими действующими лицами, режиссёром, расстановкой сил и т. п. Анализ заимствованной лексики суворовского эпистолярия даёт возможность говорить о новаторском характере данной языковой личности. Сопоставление данных разных лексикографических источников, а также данных словарей и материала суворовских писем выявило ряд несоответствий при определении периода вхождения в русский язык некоторых иноязычных слов. Это позволяет корректировать данные о начальном этапе вхождения в русский язык заимствованных единиц, время появления которых датируется словарями более поздним периодом, и судить о языковой личности Суворова как проводника новой иноязычной лексики, которая затем вошла в русский язык и укрепилась в нём, при этом личности с развитым языковым сознанием, «предчувствующей» потенциал ксенолексемы в принимающем языке. Проиллюстрируем сказанное на примере нескольких единиц, функционирующих в письмах А.В. Суворова. Так, прилагательное тотальный, согласно данным словарей, в русском языке отмечено в 1837 г. [13: 254], далее лексема получила распространение только в 1920-х - начале 1930-х гг. и с 1940 г. была зафиксирована в словарях [16]. Однако единица тотальный встречается в письме Суворова А.К. Разумовскому (датировано 1799 г.) в следующем контексте: «Тако предательный шпион тот подчинённый, кто тайно правлению относится: для первых Гофкригзрат, я ж от их участи за атмосферой; вторыми ж я столько замучен, что употреблял отзыв - термин от тотального, ежели не исправится» [15: 363]. В этом письме автор просил об отзыве из армии, исходя из общих, а не из личных интересов, т. е. в данном случае прилагательное тотальный употребляется в значении «общий». Источником слова является французское total - «весь, полный» [17: 254] (в дальнейшем слово закрепилось в русском языке в значении «всеобщий, полный»). Таким образом, Суворов употребляет рассматриваемую единицу в указанном значении гораздо раньше, чем это принято считать с учётом данных словарей. Исследование ксенолексем семестр (в письме Ф.В. Ростопчину 1799 г.), трибуна (в письме Г.А. Потемкину 1790 г.), оппонировать (в письме П.И. Турчанинову 1780 г.) и некоторых других единиц также демонстрирует их более раннюю фиксацию в письмах по сравнению с их «официальной», по данным словарей, фиксацией в русском языке. Кроме того, в эпистолярии А.В. Суворова отмечены иноязычные единицы, при определении времени заимствования которых имеет место расхождение данных в разных историко-этимологических и этимологических словарях. Речь идёт о таких словах, как агрессор, активный, Литература и литературоведение 115 карьера, кооперация, сателлит. Подобные примеры использования заимствованных единиц свидетельствуют о том, что Суворов, в совершенстве владея классическими и рядом современных европейских языков, обладая языковой интуицией, характерной для образованного человека XVIII в., «предугадывал» возможность укоренения этих единиц в русском языке и направления их семантического развития. Отметим, что для эпистолярия А.В. Суворова характерно значительное количество заимствованных единиц, воспринимаемых автором писем как обычные номинативные средства языка. Если судить по анализируемым письмам, для А.В. Суворова использование ксенолексем наряду с русской лексикой представляется частью естественной языковой компетенции, что, по всей видимости, в целом характерно для носителей русского языка рассматриваемого периода. На аналогичную черту языковой личности указывает Е.Н. Иванова, характеризуя эпистолярий А.Н. Демидова, русского промышленника, основателя горного дела на Урале и в Сибири [7], принципиально отличавшегося от А.В. Суворова сферой деятельности. При этом использование иноязычной лексики нельзя расценивать как массовое и механическое, т. к. для Суворова характерны семантическое переосмысление заимствованных и иноязычных слов, связанное с расширением их семантического потенциала, сменой коннотативной направленности единиц, а также структурным переоформлением данных единиц, замена некоторых заимствованных единиц русскими аналогами, вариативность в использовании иноязычных и русских единиц (офензив/атака, доктор/медик, коммерция/гандель). Это демонстрирует проявление развитого языкового сознания рассматриваемой личности. Следует отметить и то, что для А.В. Суворова, как и для А.Н. Демидова, характерно отношение к ксенолексемам как к необходимым средствам языка. Это свидетельствует в пользу того, что в качестве типичной черты исторической языковой личности XVIII в. выступает лояльное отношение к новациям в языке, обусловленное общеязыковой ситуацией в России указанного периода. Подводя итог сказанному, отметим, что изучение исторической языковой личности посредством обращения к анализу ксенолекси-ки, содержащейся в её эпистолярии, позволяет сделать несколько значимых наблюдений о данной личности. Выделяются следующие черты языковой личности А.В. Суворова: свободное владение лексическими средствами не только родного, но и других языков и их использование для реализации своих коммуникативных намерений, отражающих прежде всего военный, государственный и бытовой аспекты данной языковой личности; широкий кругозор, проявляющийся в спектре реализуемых лексических и стилистических средств языка; сі III 2021. № 66 116 новаторство в использовании иноязычных единиц, расценивающихся автором адекватными для обозначения реалий русской жизни и не нарушающими норм родного языка; образность мышления и способность к языковой игре с опорой на знание действующих языковых закономерностей и моделей. При этом в рассматриваемой языковой личности сочетаются как черты типовой исторической личности XVI11 в., так и индивидуальные лингвоперсонологические черты, требующие дальнейшего всестороннего изучения, в т. ч. в сопоставлении с другими историческими языковыми личностями данного периода.
Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972. 431 c.
Вотякова И.А. Формы имен в русском литературном языке второй половины XVIII века (на материале писем А.В. Суворова): дис.. канд. филол. наук: 10.02.01. Ижевск, 2000. 203 с.
Горшков А.И. Лексика и фразеология «Науки побеждать» А.В. Суворова // Русский язык в школе. 1946. № 5-6. С. 51-57.
Данилевский Г.П. Суворовские бумаги, сохранённые в семействе бывшего его правителя дел Куриса. СПб., 1856. URL: https://www.prLib.ru/item/454163 (дата обращения: 12.09.2021).
Зеленко С.В. Эго-документы Александра Духновича как источник информации о некоторых фактах истории русинов // Русин. 2020. № 62. C. 15-31. DOI: 10.17223/18572685/62/2
Зорько Г.Ф. Новый большой итальянско-русский словарь. М.: Рус. яз. Медиа, 2004. 1231 с.
Иванова Е.Н. Языковая личность в условиях формирования норм русского литературного языка: первая половина XVIII века: на материале писем и распоряжений А.Н. Демидова: дис.. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 270 с.
Иванцова Е.В. Изучение языковой личности в Томской лингвистической школе // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 291. С. 5-11.
Конончук И.Я. Письма А.В. Суворова как источник заимствованной лексики и процессов ее адаптации: дис.. канд. филол. наук. Томск, 2007. 308 с.
Конончук И.Я. Письма А.В. Суворова как источник изучения семантической адаптации заимствованных слов в русском языке // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 5-63.
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Рус. яз., 2003. 256 с.
Никитин О.В. Деловая письменность в истории русского языка (XI-XVIII вв.): дис.. д-ра филол. наук. М., 2004. 740 с.
Ренофанц И.И. Карманная книжка для любителей чтения русских книг газет и журналов. СПб., 1837. 305 с.
Словарь русского языка XVIII в. / Гл. ред. Ю.С. Сорокин. Л.: Наука, 1984-2004. URL: http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/ (дата обращения: 01.09.2021).
Суворов А.В. Письма. М.: Наука, 1986. 808 с.
Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова: М., 1935-1940. URL: https://lexicography.online/explanatory/ushakov/ (дата обращения: 01.09.2021).
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Рус. яз., 1999. Т. 2. 576 с.
Paul Н. Deutsches Wörterbuch. Halle, 1961. 784 s.
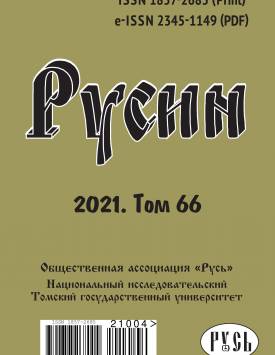

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью