Представлен детализированный анализ являющейся наследием праславянского языка русинской лексемы потя ‘небольшая птица'. Это слово и по форме, и по семантике точно соответствует его праславянскому прототипу, реконструкция которого предлагается в статье. Автор приводит репрезентативный ряд производных этой лексемы (потята, потятко, потяйтко, потька, потюк, потюх, потич, потак, потячный, потьичий и др.), зафиксированный словарями И. Франко, Д. Попа, И. Керчи, М.Й. Онишкевича, МД Матвийива и др., прослеживает её семантическую эволюцию и демонстрирует коннотативные потенции. Это слово сопоставляется с восточнославянскими и словацкими лексемами того же корня с регистрацией семантических сходств и различий. Особое внимание уделяется поговоркам (resp. фразеологизмам) и пословицам с компонентом потя. В хронологическом, ареальном и структурносемантическом ключе характеризуются пять поговорок: Потя малое береся на своі крыла; Вадяться так, што й потя бы на хижу не сіло; Ци сова не потя? Лем потячое молоко му хибить. Они сопоставляются с украинскими, русскими и другими славянскими или общеевропейскими поговорками. Выявляются как общие, так и различные их особенности. В том же ракурсе даётся детализированная характеристика восьми пословиц: Потя видко по пірю, а чоловіка по роботі; Впознати потя по пірю; Потяти, што звыкло літати, тяжко на клітку звыкати; Йаке гніздо, такі й потита; Каждое потя любить крихотя; Крихотята дай потятам; Серенча ги потя, де хоче, там и сяде; Едно потя ліс не насвище; Як потя імають, та го гладкають. Некоторые из них имеют узкорегиональный характер, в то время как ареал других выходит за пределы общеславянского пространства. Приведённые данные доказывают праславянский статус русинской лексемы потя (*pъtę) и позволяют отнести его к древнему языковому и культурному наследию русинов. Сопоставительный и этимологический анализ этого слова убедительно показывает его исконность в родном языке и вместе с тем его уникальность и праславянскую древность. Оно не только сохранило праславянскую форму и семантику, но и постепенно обогатилось фразеологическими и паремиологическими связями. Пословицы и поговорки, смысловым ядром которых стало русинское слово, отражают многослойные межъязыковые связи с другими славянскими и общеевропейскими ареалами, не потеряв при этом своей образной и региональной неповторимости.
Proto-Slavic trace in Rusin lexis and paremiology: potya.pdf Введение Предваряя один из своих словарей обширным предисловием, Д. Поп объективно и ярко подчёркивает значение русинского языка для понимания древнего взаимодействия восточнославянского и западнославянского языкового и культурного пространств: «Русины сохранили в своём языке многие элементы языка старых славян. Поэтому русинский язык можем по праву считать ненарушенным лингвистическим островом Центральной Европы, щедро усыпанном древнеславянскими языковыми бриллиантами. Историческая реальность, само геополитическое и географическое положение русинского края сделали этот чудный лингвистический остров контактной границей не только между двумя группами славянских языков - западной и восточной, но фактически и между двумя славянскими мирами - западным и восточным» [22: 33]. Познавательный потенциал и ценностные константы русинской фразеологии и паремиологии особенно рельефно высвечиваются на фоне украинского и русского языков [12; 14]. При этом консервативность (в хорошем смысле) русинского языка в славянском мире убедительно демонстрируется многими фактами, особенно лингвокультурологически заряженными пословицами и фразеологизмами, имеющими разную «дальнобойность», но хранящими инициальную собственно русинскую основу. Таковы, по нашим наблюдениям, паремии, воспроизводящие древний числовой код [2; 3], и соматические фразеологизмы и пословицы, отражающие древние лингвокультурологические представления, иногда уходящие не только в праславянскую, но и в праиндоевропейскую эпоху [13]. 2021. № 66 122 Так, русинский язык сохранил одну из реликтовых, древнейших пословиц Хаща - вухо, поле - воко -ліс - вухо, которая, как и русская Лес слышит, а поле видит, предупреждает об опасностях, подстерегающих человека в лесу и безлесом пространстве [13: 121]. А такие пословицы, как, например, Ворона вороні воко не удовбать и Ворон ворону ока не видовбае имеют широкий иноязычный ареал, выходящий даже за пределы общеевропейского [13: 120]. Праславянские фразеология и паремиология до сих пор исследованы гораздо скромнее, чем праславянская лексика, поскольку методика реконструкции устойчивых словосочетаний этого периода требует специальной разработки [48]. Некоторые русинские фразеологизмы и пословицы с праславянским словом *pUq и его славянскими синонимами по ареалу могут гипотетически быть причислены к праславянизмам. Изложение основного материала исследования В № 46 журнала «Русин» опубликована статья словацкой исследовательницы М. Чижмаровой, демонстрирующая паремиологическое богатство языка русинов в сфере анималистических пословиц и поговорок [37]. Действительно, анимализмы являются одним из показателей языкового сходства славянских и неславянских народов Европы [1]. И, разумеется, русинская паремиология здесь не исключение. Наоборот, русинские пословицы с названиями животных убедительно подтверждают высказанное Д. Попом утверждение, что язык русинов являет собой «лингвистический остров, контактную границу... между двумя славянскими мирами - западным и восточным». Даже по анимализмам, ставшим компонентами русинской паремиологии, которую анализирует М. Чижмарова, можно судить о языковом симбиозе восточнославянской - русинской корневой основы с западнославянской - словацкой. Ср. кунь (рус. конь) - словацк. kon, диал. и чеш. кип; кобыла - словацк. kobyla; теля (рус. телёнок) - словацк. tel'a; вул (рус. вол) - словацк. vol, чеш. vul; свіня/свиня (рус. свинья) - словацк. svina; мачка (рус. кошка) - словацк. Macka; коцур (рус. кот) - словацк. kocur; когут (рус. петух) - словацк. kohut;лишка (рус. лиса) - словацк. liska; заць (рус. заяц) - словацк. zajac. Эти анимализмы отражают как родство русинского и словацкого языков, так и их различие, позволяющее выявить и паремиологическое взаимовлияние. Так, два последних анимализма образуют пословицы разного происхождения. Кажда лишка свуй хвуст хвалить явно заимствована из словацкого языка: Kazda liska svoj chvost chvatf [53, I: 75]; Kazda liska svoj chvost chvali, dokiaisi ho nepopalf [54: 13]. Пословица же Робота не заць, неутікне - явно восточнославянская, образованная по активной шутливой паремиологической модели: Лингвистика и язык 123 Робота - не ведмідь, до лісу не втече; Робота - не вовк, до ліса не втече; Робота не заець, не втече; Робота не заець, не побіжить [1: 286; 24]. Регистрируя факты такого рода, можно задаться вопросом: раз они демонстрируют своеобразный симбиоз восточно-западного славянского языкового взаимодействия, то можно ли говорить о национальном своеобразии русинской лексики и паремиологии, о собственно русинских языковых единицах? Утвердительный ответ на этот вопрос позволяет дать, между прочим, и материал, представленный в статье М. Чижмаровой. В ряду её примеров почётное место занимает коротенькое слово потя (рус. птичка). «В древней мифологии птицы представляются создателями мира; много древних весенних хороводов имеют названия птиц, -пишет словацкая исследовательница, ссылаясь на этнокультуроло-гический справочник В.В. Жайворонка [8: 489]. - С птицами связано бесчисленное количество народных легенд, пословиц, поговорок, сказок; особенно любят в народе перелётных птиц, прилетающих с юга (из рая); они воспринимаются как вестники весны, приплода, урожая, добра, здоровья и счастья. У русинов бытует паремия: Як потя імають, та го гладкають и др.» [37: 247]. Слово потя как наименование птицы действительно вписывается в древние лингвокультурологические представления, характерные для славянских орнитонимов с глубокой древности [4: 345-347; 5: 527-745; 25]. Но при этом оно как оригинальная лексема остаётся знаковым маркером собственно русинского словарного запаса. Она оригинальна и неповторима, ибо отсутствует во всех других славянских языках, сохраняя при этом их древнее корневое ядро. Как увидим ниже, она гораздо древнее многих наименований маленькой птички, птенчика, известных в говорах Галицкой Руси: пташа, птшатко, пташеня, пташенятко, пискля, голопупок, голопуцьок, пуцьковiронок, пуцьвiронок [6, III: 218]. В словаре И. Керчи слово потя (мн. потята) ‘птица' описывается как активная часть слово- и фразообразовательного русинского лексикона: *(друбной) - пичуга; *потята,што иззобали насіння упалое на пути. - птицы, что склевали семена, упавшие на дорогу; **впознати потя по пірю - Видно птицу по полёту; *скубсти потя, доку вно у воздусі -делить шкуру неубитого медведя; *** ум. Потятко - птичка, пичужка. Потячный - птичий; *потячное молоко (фиг. кул.) - птичье молоко; *все навечур лишив ем... потячу покармову мішанку - я каждый вечер оставлял для него птичью пищевую смесь; Потька ж. (ласк.) -голубушка, ласточка, лапушка, милочка, касатка; *(зоол. Cyprinus carpio) - карп, сазан; *в нашых ріках жиют всякі рыбы: ... чуп, балінд, 124 I ii I 2021. № 66 шуль и мнюх ...подуства, кечега, остріж, савог; потька ...циганська рыба и клень - В наших реках живёт всякая рыба: чоп, густера, судак и налим, подуст, стерлядь, окунь, ёрш, карп, линь и голавль; Потька-блоплавка ж. (зоол. Rutilus pigus) - плотва; Потька-черленоочиця ж. (зоол. Rutilusрутилус) - плотва; Потько - голубчик, лапушка; Потюк, потюх- тип; птица, гусь. *ага, то ты потюк! - Ага, ты попался! [9: 160]. В словаре Д. Попа слово потя сопровождается украинским и русским эквивалентом птах - птица и призводными: потятко -пташеня - птенчик; потячый - пташиний; потячое гніздо - пташине гніздо - птичье гніздо [22: 125]. Находим это слово и в паремиологическом тезаурусе И. Франко, где под вокабулой потя приводится типично орнитологический контекст «Коли потя і'мати на сило? Як заверюха» (Мшан.), а к нему этнографический комментарий: «В заверюху ловляться малі пташки, особливо жовтогрудки та воробці на сильця» (Фр. 2006) [2: 774]. Регистрирует слово потя (потяти) ‘пташеня' как диалектизм и Академический словарь украинского языка, приводя контекст из коломийки, записанной в І969 г.: «Сіло потя на ворота» [7: 435; 30]. Активно употребляется русинское слово на Бойковщине. М.Й. Онишкевич записывает его в разных словообразовательных модификациях и приводит краткие, но ясные контексты: Потя, потя, потяте, потяти, потяткі, потяти, потята, потятита, потета, потякіта. 1. Птах, пташина. «Ой, як рано ранейко потята шчебечут. - То вже такого гнізда пгіти. Йаке гніздо, такі й потита». 2. Горобець; Потятко ‘пташина'; Потяйтко ‘пташка'. - «Залетіли потятойки понад л'іс зубриц'кий...»; Потьичий. Орн. ‘від малого яструба'; Потьста. 1. Птахи. 2. Горобці [2: 127; 20]. Ср. также: Потяк, потак. Назв. мн. потякы ‘вид гриба'; Потячінець. Биот. Дрібна дика вика, вика лучна (Briza minor L.); Потька (іхт.) - короп (іхт.) - карп (іхт.) [22: 125]. Ср. подобные выше приведённые ихтиологические наименования и в словаре И. Керчи [9: 160]. Как увидим ниже, слово потя и его производные образуют весьма яркие русинские пословицы и поговорки, подтверждающие его активную употребительность. Характерно, что за пределами собственно русинского пространства это слово обнаруживается лишь в словацких диалектах, причём не в орнитологическом, а в переносном антропоморфном значении: pota пеор. ‘незначительная, невыразительная личность’: «Taku potu zenu mal, co z nej nic, Lem jazig ma vel'iki». Hradisko SAB [53, II: 1036]. Любопытно, что и в калужских говорах русского языка слово потя (записанное в 1927 г.) также стало негативным прозвищем мужчины, а в диалектах Починковского района Горьковской области (запись 1973 г.) вошло в состав фразеологизма Потя шутоломный ‘недалёкий человек, Лингвистика и язык 125 недотёпа': «Ты погляди-ка, чего он сделал, потя шутоломный, ему говори, не говори, всё одно не понимает, своё сделает» [28; 30: 324]. Квалификация этого слова как довольно узкого славянского диалектизма, однако, была бы неправомерной, что убедительно доказывается этимологическим анализом. Этимологический словарь украинского языка посвящает этому слову особую статью, ссылаясь на приведённую нами выше фиксацию в Академическом словаре и предлагая ряд общих по корнеслову лексем: «Потя, Пташеня, курча, потач ‘приміщення для курей під піччю, клітка для курей', потич ‘курник; загороджене місце, клітка для курей', потій ‘півень, потюк ‘пташеня просянка, Emberiza calandra L. (E. Miliaria)', ‘потюх, потяч ‘тс’,потячий стосовний птяшенятущи, курчати; курячий'. - рос. потка ‘пташка, пташина', др. пътъка (потка) ‘птах'; - псл. (сх) * pъtъka ‘пташка', пов'язане з p^ica,укр. птиця [3: 344-345; 32]. Див. ще птица. - Пор. пітя, потак» [4: 544; 7]. Как видим, русинское потя этимологически связано с праславянским словом *pъtьka ‘птица'. «К нему же относят пітя ‘курча, пташеня', пітя ‘молодий півник' - результат контамінаціі форм потя ‘пташеня' i пiтель ‘півень’ [4: 419; 7], а также потак ‘чолові-чий статевий орган', потка ‘жіночий статевий орган', потичка ‘тс. - рос. потка ‘чоловічий член', белор. потка ‘тс'; пол. potka ‘жіночий статевий орган'; - псл. * pъtъka ‘статевий орган', результат перенесення на орган назви *pъtъka ‘птах'; як семантичну паралель пор. укр. курка ‘жіночий статевий орган'; пол. potka (зам. закономірного *petka) е, очевидно, запозиченням із східнослов'янських мов» [4: 539; 7]. Сопоставляя чеш. ptak и родственные ему слова с рус. птица, укр. птиця, с.-х. ptica, В. Махек предполагает, что они являются ум. формой от псл. *pUa и рус. диал. (сибирск.) потка ‘птичка'. «Кажется, - подчёркивает чешский этимолог, - что праславянским словом было *pUa в значении ‘птенец' (ср. p^-епьсь, чеш. ptenec), а из него развилось зап.-слав. (первоначально, видимо, разговорное) ptacha > ptach > ptak» [47: 496]. В этой интерпретации известного чешского этимолога можно, как кажется, достаточно явно усмотреть и полную компатибельность прасл. *pUa с современным русинским потя. Любопытно в этой связи и «дальнобойное» сопоставление псл. *pUa (ст.-сл. пъта,др.-рус. пъта) с др.-инд. potah ‘молодое животное', восходящим к и.-е. корню *pout- [46: 510]. На основе таких этимологических сопряжений вполне возможно, что именно русинское потя сохранило и древнейшую форму, и древнейшее значение праславянского слова. Понятно, что в процессе формальной и семантической эволюции это исходное слово претерпевало изменения. На одно из них, как мы видели, особое внимание обращают составители украинского этимологического словаря, подчёркивая, что уже псл. *pъtъka стало 2021. № 66 126 метафорическим обозначением мужского или женского полового органа. Тот же семантический сдвиг отмечается и для белор. потка ‘penis', который возводится к орнитологическому значению: рус. диал. потка ‘птичка (особенно певчая)', болг. патка ‘утка, гуска' и ‘половой орган маленького мальчика', англ. cock ‘петух' и ‘пенис' и т. д. [38: 304-305]. И в русинском языке, между прочим, запечатлён такой семантический симбиоз: ср. бойк. потка ‘половой орган женщины' [15: 379]. Рассмотрим подобные и иные формальные и семантические мутации праславянского слова *prtq в некоторых славянских диалектах. В русской народной речи слово потка ‘птица (не промысловая), птичка, птаха' известно не только в сибирских говорах (как считал В. Махек), но и на гораздо более широком пространстве: Вят. (1845): Вчерась опять какие-то потки летели; Киров.: Ни одной потки не застрелил; Волог. Твер., Калин., Новг., Яросл., Костром., Уральск. Птичек много в тайге. Самые маленькие - потки. При этом в некоторых регионах наблюдаются конкретизация или расширение семантики этого слова: Краснояр. ‘певчая птица, птичка'; Вят. (1842-1847), Киров., Волог. ‘птица, живущая на болоте'; Волог. (1939) ‘птица наподобие сороки'. Некоторые значения весьма далеки от исходного орнитологического, напр., Ленингр. (1937-1940). Вероятно, они являются переносными от названия маленькой птицы: Черепов. Новг. (1922), Твер. ‘мышонок': Опять потка попала в мышеловку; Каргоп. Арх. (1928) ‘о любимом ребенке' [28; 30: 284-285]. Достаточно давно и широко распространено и уже известное нам «генитальное» значение этого слова: Пск. (1855), Новг., Лит ССР потка ‘мужской половой член', Твер. (1860), Новг., Сиб. ‘половой член у мальчиков'; Славк. Пек. (1957) ‘половой орган коня' [28; 30: 284]. Это значение зашифровано и в загадке Под полом [полем?] мужик поткой гpoзum с отгадкой «квас» (Дмитр. Моск., Садовников - СРНГ 30: 285). То же значение имеет и производное поточка ‘половой член маленького мальчика', записанное в Череповецком уезде Новгородской губернии в 1893 г. [28; 30: 300]. Сравним и другие производные этого корня в русских диалектах: Волог. (1896) поток ‘небольшая птица' [28; 30: 287]; Орл. Вят. (1904), Вят., Киров., Яросл., Костром., Краснояр., Волог. (1841-1853) поточка. ласк. ‘птичка, пташка': С ветки на ветку перелетала поточка не больше nonoлзня■; Вят. поточки паньские (царские) ‘певчие птички': Поточ-ки царски поют песни арски [райские]; Переясл. Влад. (1849-1851) съестная поточка ‘птица, мясо которой употребляют в пищу'. Слово зафиксировано также (Киров., 1940) и в значении ‘о медлительном человеке', а в составе фразеологизма хитрая поточка (Ветл. Костром., 1939) - как ироническая характеристика хитрого человека: Ты хи- Лингвистика и язык 127 трая поточка. Ср. также Переясл. Влад. (1849-1851), Волог. поточка ‘таракан' [28; 30: 300]. Возможно, к тому же корню относятся и диалектизмы Пск. (1902-1904) потекуха ‘птица род куличка' [28; 30: 271] и патлядка ‘молодая курица-несушка' и др. [28; 30: 273]. Пожалуй, наиболее заметный след в славянских языках слово пот-ка оставило в названии куропатка - ‘дикая птица семейства куриных'. Оно широко отражено в народных говорах в разных вариантах: куро-поть, куропать, куроптаха, куропатва, куропатка, куропат, куропатёк и под. Известно это сложное слово не только восточнославянским, но и западнославянским языкам: укр. куропатва (диал.), куріпка; белор. курапатка,чеш. koroptov,польск. kuropatwa. В русском языке оно было известно уже с XVI в. (ср. в XVI в. куроптина ‘мясо куропатки'). При этом наряду с формой куропатка бытовали и формы куропоть,куропеть и др. Слово образовано сложением корней кур- (ср. курица) и път-> пт-: пот- (ср. потка из пътъка - ‘пичужка', ‘певчая птица'). Правда, при этом ожидаемой формой должна была бы стать куропотка, а не куропатка. Такой не вполне закономерный фонетический переход этимологи объясняют результатом смешения форм потка и птаха (ср. чеш. ptak и польск. ptak ‘птица') и влиянием таких образований на -атка, как хохлатка [1: 457-458; 36]. Экскурсы в этимологию славянских слов с корнем *p^a подтверждают нашу гипотезу о том, что русинское потя - не что иное, как сохранившееся до наших дней праславянское название маленькой птицы, птенца - *prfq. И это не реконструкция, а живое, реальное слово из современного русинского лексикона. Живое ещё и потому, что оно входит в состав образных выражений и пословиц, наполняясь особой экспрессией и обогащаясь особыми коннотациями. Поговорки (resp. фразеологизмы) В словарях русинского языка слово потя и прил. потячий входят в состав пять поговорок: Потя малое береся на свдУкрыла; Вадяться так, што й пдтя бы на хижу не сіло; Ци сова не пдтя; Лем пдтячое молоко мухибить. Они дают оценочную, экспрессивную характеристику окружающей действительности и человека. Рассмотрим каждую из таких поговорок в сопоставлении с соответствующими украинскими и русскими оборотами. 1. Потя малое береся на своікрыла - пташечка літати починае -птенчик летать начинает [23: 75, 194]. Украинский и русский эквиваленты, предложенные Д. Попом, подчёркивают оригинальность русинского выражения. Действительно, точных соответствий ему нет ни в украинских, ни в русских источниках. Но следы близкой по образности фразеологии в восточно- 2021. № 66 128 славянском языковом пространстве найти, тем не менее, можно. В Академическом словаре украинской фразеологии находим оборот пускатися/пуститися на своі крила ‘начинать самостоятельно жить, заботиться о себе' [31: 588], явно восходящий к орнитологической метафоре. В русском языке также известны подобные разговорные фразеологизмы: вставать/встать на крыло ‘начинать летать (о птенцах)' ‘взлетать (о птицах)', ‘приобретать самостоятельность, независимость от других' [35, I: 85]; поднимать на крыло кого ‘учить летать птенцов' [2: 57; 35]; подниматься/подняться на крыло ‘начинать летать (о птенцах)' [1: 267; 35]; становиться/стать на крыло ‘учиться летать (о птицах)', ‘становиться самостоятельным' [2: 184; 35]. Подобные обороты зафиксированы и в русских народных говорах -напр., подниматься/подняться на крыло в русских говорах Карелии имеет значение ‘начинать летать (о птенцах' [3: 40; 27], в иркутских (1935) - ‘полететь снова после линьки (об утках)' [28: 100], а в новгородских - ‘обзаводиться хозяйством, строить собственный дом' [19: 468]. 2. Вадяться так, што й потя бы на хижу не сіло - лаяться на всі заставки - ругательски ругаются [23: 101]; ругательски ругаются -вадяться так, што й потя бы на хижу не сіло - сваряться так, що й птах на хату не сяде [23: 77]. Обращение к украинским и русским источникам убедительно доказывает оригинальность русинской поговорки об интенсивной брани. Украинский эквивалент сваряться так, що й птах на хату не сяде, приведённый Д. Попом, является, судя по всему, буквальным переводом русинского оборота, а рус. ругательски ругаются, как и укр. лаяться на всі заставки, имеет иную структуру и образность (безобразность). При этом в украинском малом фольклоре можно отыскать выражения с близким образом, но иной семантикой: Про мене кричи, хоть на хату вилізь1 (Фр., II, 2: 312) [3: 61; 24]; Говори й на хату вилізь (Фр., І, 2: 355) [24, II: 286]; Сваряться, аж стіни тріщать (Фр., Ш, 1: 59) [3: 63; 24]; Нема хатки без звадки (Н. н., Вол.); Нема такоіхатки, де б не було звадки (Прип., 232); Нема тоіхатки, де б не було звадки (Ном., 66; Укр. пр., 1963, 711) [1: 134; 24]; Нема теіхатки, де б не було звадки (Ном., 66) [3: 73; 24]. 3. Ци сова не потя? - чи сова не птах? - разве сова не птица? [23: 230]. Эта поговорка в словаре Д. Попа приводится лишь один раз, а орни-тоним сова встречается в сравнении позерати ги сова - вирячувати очі - таращить глаза [23: 84]. Сомнение в «птичьем статусе» совы в каком-то отношении проясняется украинским и русским эквивалентом к русинской пословице Из пса нид не буде солонина - хоч би Лингвистика и язык 129 сова попід небом літала, а соколом не буде - Сколько утка не бодрись, а лебедем не быть [23: 79]. Действительно, в орнитологической «табели о рангах» сова занимает в славянской паремиологии и мифологии отнюдь не почётное место. По украинским поверьям, сова - вестник опасности, символ страха. В Полесье, например, в совах видят воплощение нечистой силы либо существ, являющихся наполовину птицами, наполовину чертями. Природа совы отражена в пословице Сова не родить сокола, а такого ж чорта, як сама [4: 412]. И другие украинские пословицы отражают противопоставление совы «благородным» птицам, прежде всего соколу: Не пара сова до сокола (Висл., 307) [1: 221; 24]; Не уродить сова сокола, а кобила вола (ІМФЕ, 29-3, 129); Сова не родить сокола, а такого ж чорта, як сама [1: 221; 24]; Сова хоч під небо зле-тить, то все сова; Сова хоч би літала попід небеса, то соколом ніколи не буде (Ільк., 86; Закр., 205; Ном., 64; Висл., 205; Укр. пр., 1963, 124); Як би сова не стараласьлітати, а соколом не буде (Н. н., Вол.) [1: 222; 24]. Подобные представления о «неорнитологичности» совы отражает и русский малый фольклор: Сова не родит сокола, а такого же чёрта, как сама (Омск. (1976) ФСГ 1983, 185; СРГС 4, 371); Сова хоть бы под небеса летала, а всё соколом не будет (Сн. 1848, 378; Твер. ТПП 1993, 57); Из совы сокол не будет (Богд. 1741, 84); Из совы сокола не будет (Сок., 337); От совы не родятся соколы (Ан. 1988, 248); От совы не родятся соловьи (Сок., 328). Представленный сопоставительный анализ выявляет смысл русинской вопросительной поговорки Ци сова не потя? Собственно, этот вопрос риторический, ибо русины к сове относятся с таким же подозрительным пренебрежением, как и другие славяне, при этом приравнивая её к своей собственной птице - поте. Неслучайно эта поговорка - собственно русинская, не известная другим славянским языкам и потому буквально переведённая Д. Попом в качестве украинского и русского эквивалента. 4. Скубсти потя, доку воно у воздусі - делить шкуру неубитого медведя [9: 160]. Хотя И. Керча приводит совсем иной по образности эквивалент к русинской поговорке, подобные обороты можно отыскать в украинских и русских паремиологических сборниках. Украинские. Незловивши, не скуби (Н. н., Вол.); Непіймавши, не скуби (Укр. пр., 1955, 175); Не скуби, поки не зловиш (Фр., НІ, 1, 110; Укр. пр., 1955, 179; 1963, 531); Не скуби, поки не зловив (Ном., 52); Еще і то не піймав, а вже скубе; Не поймав, да скубе (Зін., 224); Ще не зловив, а вже скубе (Закр., 162; Ном., 52; Чуб., 300; Укр. пр., 1963, 531); Ще не зловив, а вже пориваеться скубти (Укр. пр., 1955, 175); Ще не зловив, а вже скубти хоче (Н. ск., 1971,153) [1: 269; 24]. 2021. № 66 130 Русские. Не поймав, не щиплют (Петр. галер. нач. XVIII в., 31; ДП 1, 175); Не поймавши, не тереби (Тан. 1986, І05; СР 2, 225; Пск. СПП 2001, 137); Не поймал, а уж отеребил (потеребил) (Сн. 1848, 282; В.-рус. Рыбн. 1961, 81; Прок. 1988, 167); Не подстрелил ясного сокола - рано перья щипать (Алещенко 2008, 250); Не подстрелив дичь, рано перья щипать (Сок., 592); Курицу не поймал, а уж ощипал (Рыбн. 1961, 81; Ан. 1988, 157); Не поймав, курицы не щиплют (Сн. 1848, 282; Ан. 1988, 222). Как видим, оринтологический образ подразумевается и в русинской, и в украинской, и русской поговорках. Однако если в украинских паремиях он имплицирован и сам собой подразумевается, то в русских может и имплицироваться, и эксплицироваться, называя разных птиц - как диких, так и домашних. Но лишь русинская поговорка использует обобщающий «птичий» образ, воплощённый в лексему потя. 5. Лем потячое молоко му хибить - тільки птичого молока йому бракуе - только птичьего молока ему недостает [23: 84, 158]. В словаре И. Керчи [9: 160] оборот приводится в форме потячное молоко с пометами фиг. кул. Видимо, имеется в виду сорт популярных у русских, украинцев, белорусов и поляков конфет. Этот современный кулинарный бренд имеет древнюю фразеологическую историю. Сто лет назад эту русинскую пословицу с компонентом потячий включил в свой сборник И. Франко с дефиницией «говорять про жите в достатках»: тамлиш потячого молока не стае [2: 410; 33; 34: 775], а Л.Г. Скрипник приводит вариант тільки потячого молока не мае [26: 123]. В отличие от трёх рассмотренных выше поговорок, украинские и русские эквиваленты здесь не являются буквальным переводом, а столь же аутентичны, как и русинская. И это неслучайно: ведь поговорки о птичьем молоке имеют, как увидим, очень широкую ареальную масштабность, выходя даже за пределы индоевропейской языковой общности. Именно потому она активно варьируется как в украинском, так и в русском языках. Украинские: пташочого молока забагла (Фр., II, 2, 410); пташи-ного молока ще йому бракуе (Прип., 207); птичого молока тілько не знайдеш, а все есть (Зін., 243); хіба птичого молока нема (Ном., 29); хіба птичого молока у нього немае (Укр. пр., 1936, 68) [1: 327; 24]; все мае, крім пташиного молока (Зак. пр., 10); все мае, хіба що пта-шиного молока забагае (Ільк., 15; Фр., II, 2, 383); хіба птичого молока нема (Укр. пр., 1963, 192) [3: 88; 24]. Ср. также подол. хіба пташачого молока нема [10: 206]. Русские: птичье молоко. пск., разг. ‘нечто очень редкое, неслыханное, невозможное, предел желаний' (ДП, 862); птушачье молоко смол. Лингвистика и язык 131 (1914) ‘то же' (СРНГ 33: 103), где птушачий ‘птичий'; утиное молоко арх. (2005) ‘об отсутствии молока у коровы' (СРГК 6: 650; СРНГ 48: 160); утичье молоко волог., кар. (1984) ‘о чае (в случае отсутствия молока)' (СРГК 6: 651), где утичий - ‘утиный'. Этот фразеологизм входит и в ряд русских пословиц: Птичьего молока во всей поднебесной не найдёшь (Д 3, 189); Птичьего молока не найдёшь (Сок., 361); Птичьего молока хоть в сказке найдёшь, а другого отца-матери и в сказке не найдёшь (ДП 1, 301; Раз. 1957, 118); В Москве нет только птичьего молока да отца и матери (Сн. 1848, 54); В Москве только нет птичьего молока (Мих. 1, 152). Сопоставительный анализ показывает, что выражение птичье молоко вросло в фольклор многих народов, став в нём народным символом сказочного изобилия. Это интернациональный оборот, известный славянам, грекам, испанцам, итальянцам, татарам, туркменам, венграм и многим другим. Широко распространено было это выражение и в древнем мире: у римлян куриное молоко было символом благосостояния, а в комедии Аристофана (ок. 466-385 гг. до н. э.) «Птицы» герои бахвалятся, что птичьего молока у них хоть отбавляй. Это древняя универсалия, своеобразный сюжет, известный не только всем индоевропейским языкам, но и финно-угорским, семито-хамитским и др. [45]. Оставил он и след практически во всех славянских языках: бел. птушынае малако, пціччаго (птушынага) малака нехватаць, болг. птиче мляко, х/с imati ipticjeg mlijeka, nemati samo pticeg mlijeka и др. При этом нельзя говорить о заимствовании: такого рода материал свидетельствует об универсальности и исконности «птичьей» структурно-семантической модели, по которой создано выражение [17: 27-29]. Это доказывает и его наличие в русинском языке, где фразеологизм лем пдтячое молоко му хибить, возможно, такой же древний праславянизм, как и само слово потя, от которого образовано прил. пдтячое. Славянские его варианты отразили, по-видимому, представление о птичьем молоке как о волшебной субстанции, которую птицы приносят из райского источника. Это «райское молоко» - всего лишь овеществлённая вечная мечта человека приблизиться к раю и к самому Богу. Вера в осуществление этой мечты измеряется силой стремления к ней [18: 145-148]. Пословицы В словарях русинского языка слово потя входит в состав девяти пословиц: Пдтя видко по пірю, а чоловіка по роботі; Пдтяти, што звыкло літати, тяжко на клітку звыкати; Йаке гнiздо, так й потита; Каждое пдтя любить крихотя; Серенча ги пдтя, де хдче, там и сяде; 2021. № 66 132 Якпотя імають, та го гладкають и др. Все они отражают народную философию и оценку окружающей действительности и человека. Рассмотрим каждую из таких пословиц с точки зрения их ареальной «дальнобойности» в общеславянское или даже в общеевропейское паремиологическое пространство. 1. Потя видко по пірю, а чоловіка по роботі; Впознати потя по пірю [9: 260] приводится Д. Попом с украинским и русским эквивалентами Видно сокола по льоту, а сову з погляду - Видать птицу по полёту, а молодца по хватке [23: 194]. В другом месте словаря соответствующим русской и украинской пословицам составитель приводит другой, но, тем не менее, орнитологический эквивалент: Видать птицу по полёту, а молодца по хватке - Пава пірьом красна, а чоловік розумом - Видно сокола по льоту, а сову з погляду [23: 7, 10]. Как видим, здесь Д. Поп в качестве эквивалентов предлагает несколько отличающиеся по образности украинские и русские пословицы. Тем не менее в па-ремиологических сокровищницах восточных славян можно найти и адекватные в этом отношении параллели, причём орнитологический «объект» оперения может конкретизироваться: Украинские: Видно птаха по пірю (Зак. пр., 92); Пізнати птицю по пірю (Висл., 321; Прип., 250); Птаха пізнати по пірю, а пана по халявах (Фр., Ш., 2, 513); Птаха мож пізнати по пірю, чоловіка по бесіді (Н. ск., 1964, 121); Птицю пізнати по пір’і, а чоловіка по бесіді (Прип., 70) [1: 211; 24]; Пізнати ворону по пірю (Ільк., 75; Фр., 1, 2, 2б4; Укр. пр., 1963, 124) [1: 216; 24]; Знати сову по пірю (фр., III, 1, 142) [1: 221; 24]. Немало, естественно, в украинской паремиологии и пословиц, где отличительным знаком птицы является и её полёт: Видно птаха по по льоту (Н. н., Сумщ.); Видно пташку по польоту (Н. н., Вол.); Пізнати птаха по літанню, а людину по ході (Зак. пр., 121); Знати ворону по польоту (Н. п., Черніг.) [1: 216; 24]; Видно сову по польоту (ІМФЕ, 1-5, 461, 189); Знати сову по польоту (Чуб., 294); Пізнати сову по льоту [1: 221; 24]; Видно сокола по польоту, а сову по погляду (Ном., 142; Укр. пр., 1963, 124); Знати сокола по польоту, а доброго молодця по походці (Н. н., Сумщ.); в) Пізнати сокола по його польоту (Висл., 321); Знати сокола по лету (фр., НІ, 1, 145) [1: 222; 24]. Русские пословицы. Здесь также выявляется параллелизм образа «перьев» и «полёта» как основной характеристики птицы: Знаешь птицу по перьям, а молодца по речам (Сн. 1848, 146; Д 2, 332; Ан. 1988, 108); Знать птицу по перьям, а сокола по полёту (Кург. 1793, 128; Соб. 1961, 122); Знать птицу по перьям, а человека по речам (Ил. 1915, 116); Птицу знать по перьям, сокола - по полёту (Раз. 1957, 74); Птицу узнают по перьям, а человека по ухватке (Спир. 1985, 63); Лингвистика и язык 133 Узнают птицу по перьям, сокола по полёту (Соб. 1956, 49); Знать сову и по перьям (Сим., 106; Сн.1848, 146); Как сову дознать по перьицам, совиных детей по перицам (СРНГ 39: 188); Ворону знать и по перью. (Сим., 178; РС нач. XVIII в., 81). Вариант с компонентом полёт в русской паремиологии, как и в украинской, не менее частотен: Видна птица по полёту (Мих. 2, 104; Раз. 1957, 71; Жук. 1966, 81-82; Ан. 1988, 45); Видать птицу по полёту (Пермяков 1988, 154); Видно птицу по полёту (Жук. 1966, 82); Птицу видно по полёту (Пск. (Оп.) (СПП 2001,138)); Узнают птицу по полёту (Пск. (Оп.) (СПП 2001, 138)); Видать (Выдать) сову по полёту (Жук. 1966, 79), (Кубан. (ППЗК 2000, 18)); Видать сову по полёту, а девушку по походке (Рыбн. 1961, 62; Тан. 1986, 28; Ан. 1988, 45); Видать сову по полёту, а добра молодца по кудрям (Ан. 1988, 45); Видеть сову по полёту, а тебя по соплям (Дон. (Сл. Шолох. 2005, 228)); Знать сову по полёту (Тат. нач. XVIII в., 53; Д 4, 254; Жук. 1966, 164); Сову видно по полёту (Ан. 1988, 290); Виден сыч по взгляду, а сова по полёту (Снег. 1848, 33); Виден сокол по полёту (СлРЯ XVIII в. 3, 158); Сокол сокола по полёту знает (Ан. 1988, 291); Видать сокола по полёту (Пермяков 1988, 154); Видать сокола по полёту, а доброго молодца по походке (Раз. 1957, 71); Видно сокола по полёту (Под., Зим. 1956, 51); Видно сокола по полёту, а добра молодца по поступи (т. е. походке) (Сн. 1848, 32); Видно сокола по полёту, а молодца по походке (Ан. 1988, 45); Знаешь сокола по полёту, а доброго молодца по походке (Сн. 1848, 146; Д 2, 332); Знать сокола и по полёту (Сим., 106; Петр. галер. нач. XVIII в., 28; пС, 316; СПП 2001, 140); Знать сокола по полёту, а добра молодца по походке (Ан. 1988, 108); Знать сокола по полёту, а молодца по выходке (Рыбн. 1961, 62); Знать сокола по полёту, сову по подъёму (Д 4, 254); Знать-то ведь сокола по полёту (Арх. СРНГ 5, 303); Сокола по полёту узнают (Ан. 1988, 291); Сокола узнаешь по полёту, казака - по выправке (Кубан. (ППЗК 2000, 39)); Ясного сокола видать по полёту, а молодца - по походке (Спир. 1985, 56); О соколе судят по полёту (Под., Зим. 1956, 51); Орла узнаешь по полёту, а молодца - по обороту (Богданович 1785, 3, 8); Знать ворона по полёту (Сн. 1848, 145); Ворону видно по полёту (Спир. 1985, 63); Знать ворону по полёту (Барс. 1770, 85; СлРЯ XVIII в. 21, 165; Ан. 1988, 108); Как ни наряжайся под голубицу, а беркута по полёту узнают (Кубан. (ППЗК 2000, 40)); Коршуна узнают по полёту, ловкого человека - по походке (Ан. 1988, 141). Характерно, что один из вариантов совмещает в себе и образ «перьев» птицы, и её «полёт»: Знать сова и по полёту, и по перьям (Лексикон 1731, 329; Geyr 1981, 132). Неслучайно, что такой вариант зафиксирован в Вейсмановом «Лексиконе» 1731 г. с европейскими 2021. № 66 134 параллелями. Действительно, эта пословица известна большинству славянских и неславянских языков Европы. Так, к словен. Ptica po perju spoznas и хорв./серб. Poznaje se ptica po perju Й. Павлица приводит нем. An den Federn erkennt man den Vogel,фр. On connatt loiseau a son plumage и англ. You know a bird by his feather [51: 428-429]. В. Флайшганс, фиксируя чешскую пословицу znamt toho ptaka po peri уже в XVI в. и приводя польские, русские, сербские, немецкие и другие соответствия, подчёркивает, что она «общеевропейская» [2: 322; 44]. Любопытно, что в славянских языках слово «птица» может конкретизироваться названиями её конкретных разновидностей, напр.: белорус. Відаць сокала па палёту а саву па погляду; болг. Свраката по цвърченето, сокола по хвърченето; пол. Orta mozna z lotu (po locie) poznac; серб. Познаjе се петао по крести и т. п. [11: 124]. Приведённые параллели убедительно свидетельствуют о том, что русинская пословица Потя видко по пірю, а чоловіка по роботі органически вписывается в общеевропейское па-ремиологическое пространство, сохраняя при этом некоторую образную и дидактическую оригинальность: если птицу ценят по внешнему признаку, то человека - по результатам его трудовой деятельности. 2. Потяти, што звыкло літати, тяжко на клітку звыкати. К этой пословице Д. Поп приводит близкие по образу украинские и русские эквиваленты: Краще на волі на вітці, ніж у неволі в золотій клітці; Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше на зелёной ветке [23: 194]. С несущественными отличиями такие пословицы действительно зафиксированы восточнославянскими источниками. Украинские. Не будучи тождественными по форме, украинские параллели этой русинской пословицы сохраняют и общий её па-ремиологический смысл, и образную ось птица - клетка: Ліпше пташці на зеленій вітці, ніж у пана в золотій клітці (Н. н., Ів.-Фр.); Краще птиці на сухій гілці, ніж у золотій клітці (ІМФЕ, 1-5, 388, 38) [1: 212; 24]; Воля пташці краща від золотоі клітки (Перем., 1854, ЗІ) [1: 213; 24]; Золота клітка солов’я не тішить (Н. п., Черніг.) [1: 213; 24]; Ладна птиця лучче золотоі' клітки (Фр., II, 2, 333) [1: 213; 24]; Не потрібна соловю золота клітка, краща йому зеленая вітка (Н. н., Сумщ.) [1: 213; 24]. Русские. Русские пословицы о птице и клетке, сохраняя смысловую доминанту и образность, близкие русинской паремии, демонстрируют мощную структурную вариативность. Обращают на себя внимание пословицы, построенные, как и русинская, по принципу рифмовки, что обычно сигнализирует об их национальной специфичности: Пташечке ветка лучше золотой клетки (Ленингр. Бах. 1982, 456); Лингвистика и язык 135 Пташке ветка дороже (лучше) золотой клетки (Д 1, 334; Спир. 1985, 99; Сок., 106); Птичке ветка дороже золотой клетки (КМШ 1957, 53; Раз. 1957, 198); Хорошо птичке в золотой клетке, а лучше того - на зелёной ветке (Сн. 1848,435; ППЗК 2000, 51; Сок., 107); Зачем соловью золотая клетка - лучше ему зелёная ветка (Сок., 486); Не надобна (Не надобно) соловью золотая клетка, лучше ему (емулучше) зелёная ветка (Сн. 1848, 278; Д 2, 121; Ан. 1988, 219); Не нужна соловью золотая клетка, а нужна [ему] зелёная ветка (Раз. 1957, 198; Спир. 1985, 99; Сок., 106); Не нужна соловью золотая клетка,лучше зелёная ветка (Соб. 1956, 108). Ср. Не надобна соловью золотая клетка, лучше ему своя волька (Барс. 1770, 155; СлРЯ ХVПI в. 4, 57). Рифмовкой образованы и пословицы Хоть пташкину клетку позолотили, а всё пташку в клетку посадили (Д 3, 232); Щебечет соловей в клетке, забыв свои детки (Сим., 159). Образную и смысловую «компатибельность» с русинской пословицей сохраняют и нерифмованные русские пословицы: Воля птичке лучше (дороже) золотой клетки (Тат. нач. XVIII в., 48; Богд. 1741, 71; Барс. 1770, 22; Сн. 1848, 38; ДП 2, 278; Д 2, 121; Соб. 1956, 97; Раз. 1957, 198; Спир. 1985,98; Ан. 1988,49; Сок., 105; Сергеева 2016, 156); [И]золотая клетка соловью не потеха (Д 2, 121; Раз. 1957, 198; Спир. 1985, 98; Тан. 1986, 63; Ан. 1988, 109); В золотой клетке птице не поётся (Пск., Ленингр. Соловьёва 2001, 38); Не мила пташке золотая клетка (Сок., 106); Не мила птичке золотая клетка (Тат. нач. XVIII в., 58); Не от радости и пташка в клетке поёт (Д 4, 8); Не от радости птичка (пташка) в клетке поёт (Спир. 1985, 168; Сок., 106); По птичке и клетка (Лексикон 1731, 721; Geyr 1981, 201; ДП 2, 115); Канарейка в клетке родится - соловей никогда (Сок., 106). 3. Йаке гніздо, такі й потита. Бойк. [2: 127; 20]. Образная пара птица - гнездо, естественно, представлена в восточнославянской паремиологии. Однако общий смысловой акцент таких пословиц достаточно ощутимо отличается от значения «Гнездо - отличительный признак птицы», представленного в бой-ковской паремии. Сравним последнюю с украинскими и русскими пословицами. Украинские. Злий то птах, що свое гніздо каляе (Висл., 288) [2: 362; 24]; Кожна птаха свое гніздо хвалить (Укр. пр., 1963, 474) [2: 396; 24]. Ру
Анималистическая фразеология в славянских языках (Лингвистические и лингвокультурологические аспекты). Коллективная монография (Animalistische Phraseologie in den slawischen Sprachen (Linguistische und linguokulturelle Aspekte) Kollektivmonografie) / Отв. ред. Х. Вальтер (Германия), В.М. Мокиенко (Россия). Greifswald: Universität Greifswald, 2019. 255 с.
Бредис М.А., Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Русинская фразеология как пример культурно-языкового трансфера в славянских языках (на материале нумеративных единиц) // Русин. 2020. № 60. С. 198-212.
Бредис М.А., Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Числовой код русинской лингвокультуры (на фразеологическом материале) // Когнитивные исследования языка / Гл. ред. Н.Н. Болдырев; Вып. № 2 (45): Знаки языка и смыслы культуры: сборник научных трудов, посвящённый памятному юбилею Вероники Николаевны Телия / Отв. ред. вып. М.Л. Ковшова. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. С. 202-212.
Войтович Валерiй. Українська мiфологiя. Київ: Либiдь, 2002. 664 с.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
Гурт А. Словарь русско-галицкий. Т. 1-4. Вена: тип. А. Яспера, 1896-1899.
Етимологічний словник української мови: у 7 т. / Гол. ред. О.С. Мельничук. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1: А-Г. 631 с.; 1985. Т. 2: Д-Копці. 570 с.; 1989. Т. 3: Кора-М. 549 с.; 2003. Т. 4: Н-П. 656 с.; 2006. Т. 5: Р-Т. 407 с.; 2012. Т. 6: У-Я. 567 с.
Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури. Словник-довiдник. Київ: Довiра, 2006. 703 с.
Керча I. Русиньско-росiйський словник: у 2 т. Понад 58 000 слiв. Русинско-русский словарь: в 2 т. Свыше 58 000 слов. Ужгород: ПолиПринт, 2007. Т. 1 (А-Н). 608 с.; Т. 2 (О-Я). 608 с.
Коваленко Н.Д. Фразеологiчний словник подiльских i сумiжних говiрок. Кам’янець-Подiльский: ТОВ «Рута», 2019. 412 с.
Котова М.Ю. Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями / Под ред. П.А. Дмитриева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 360 с.
Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Познавательный потенциал русинских паремий на фоне русского и украинского языков // Русин. 2016. № 3 (45). С. 119-129.
Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Карпаторусинские соматические паремии на славянском фоне // Славянская микрофилология / Под ред. А.Д. Дуличенко, Мотоки Номати. Slavic-Eurasian research center. Hokkaido University, Sapporo. Vene ja slaavi filologia osakond (=Slavica Tartuensia XI / Slavic Eurasian Studies. № 34). Tartu, 2018. С. 103-128.
Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Ценностные константы русинской паремиологии (на фоне украинского и русского языков) // Русин. 2018. № 4 (54). С. 303-317.
Матвiїв М.Д. Словник говiрок центральної Бойківщини. Київ; Сiмферополь: Ната, 2013. 602 с.
Матвiїв М.Д. Словник стiйких зворотiв бойкiвських говiрок. Київ; Сiмферополь: Доля, 2014. 176 с.
Мокиенко В.М. Образы русской речи. СПб.: СПбГУ: Фолио-Пресс, 1999. 462 с.
Мршевић-Радовић Драгана. Фразеологиjа - огледало српског народног књижевног jезика // МСЦ. Научни састанак слависта у Вукове дане. 30/1. Београд-Нови Сад, 12-17.9.2000. Београд: Међународни славистички центар, 2002. С. 139-148.
Новгородский областной словарь (НОС 2010) / Изд. подгот. А.Н. Левичкин, А.А. Мызников; сост. А.В. Клевцова, А.В. Никитин, Л.Я. Петрова, В.П. Строгова; ред. А.В. Клевцова, Л.Я. Петрова. СПб.: Наука, 2010. XXVII, 1435 с.
Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. 1. 495 с.; Ч. 2. 515 с.
Панькевич І. Покрайнi записи на закарпатсько-українських церковних книгах з додатком збірки закарпатських українських народних приповідок І. Югасевича. Прага: Národní museum, 1947. 78 с.
Поп Д. Русинсько-украйинсько-руський и русско-украинско-русинський словари. Ужгород: Ужгород: Повч Р.М., 2007. 312 с.
Поп Д. Русинско-украинско-русский и русско-русинско-украинский фразеологические словари. Ужгород, 2011. 241 с.
Прислів’я та приказки / упорядник М.М. Пазяк. К.: Наукова думка, 1989. Т. 1: Природа. Господарська діяльність людини. 479 с.; 1990. Т. 2: Людина. Родинне життя. Риси характеру. 524 с.; 1991. Т. 3. Взаємини між людьми. 440 с.; 2001. Т. 4. Українськi прислiв’я, приказки та порiвняння з лiтературних пам’яток. 392 с.
Славянские древности: этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995. Т. 1: А-Г. 584 с.; 1999. Т. 2: Д-К (Крошки). 697 с.; 2004. Т. 3: К (Круг) - П (Перепёлка). 704 с.; 2013. Т. 4, 5.
Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. Київ: Наукова думка, 1973. 280 с.
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А.С. Герд. СПб.: изд-во СПбГУ, 1994-2005. Вып. 1-6.
Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова; гл. ред. С.А. Мызников. Л.; СПб., 1965-2019. Вып. 1-51 (издание продолжается).
Словацко-русский словарь / Сост. D. Kolár, V. Dorotjaková, M. Filkusová, E. Vasilevová. Bratislava; Moskva: Русский язык, 1976. 768 с.
Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1970-1980.
Фразеологічний словник української мови / Уклад. В.М. Білоноженко та ін.; від. ред. В.О. Винник. Київ: Наукова думка, 2003. 1104 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Под ред. Б.А. Ларина; пер. с нем. и предисл. О.Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1964-1973; 2-е изд. 1986-1987. Т. 1-4.
Франко И. Галицько-руські приповідки: в 3 т., 6 вип. / Зібрав, упорядкував і пояснив д-р. Іван Франко // Етнографічний збірник. Львів, 1901. Т. 10; 1905. Т. 16; 1907. Т. 23; 1908. Т. 24; 1909. Т. 27; 1910. Т. 28.
Франко И. 2006. Галицько-руські приповідки: у 3 т. / Зібрав, упорядкував і пояснив д-р. Іван Франко. Львів: Видавничуй центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
Фразеологический словарь литературного языка конца ХVIII-ХХ в. / Под ред. А.И. Фёдорова. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991. Т. I-II.
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.: Русский язык, 1993. Т. 1: А-Пантомима. 622 с.; Т. II: Панцирь-Ящур. 560 с.
Чижмарова М. Паремиологическое богатство языка русинов Словакии: компонентный состав и семантические особенности // Русин. 2021. № 64. С. 240-254.
Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск: Навука и тэхніка, 1978-2017. Т. 1-14.
Arthaber A. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali in sette lingue (italiana; latina; francese; spagnola; tedesca; inglese; greca antica). Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1989. 822 p. 1-е изд., 1900. Последующие: 1926, 1929, 1972, 1989, 1991, 2010 и др.
Bachmannová J., Suksov V. Jak se to řekne jinde. česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Praha: EUROMEDIA - Knižní klub. Praha, 2008. 1 vyd. 384 s.
Bittnerová Dana, Schindler Franz. Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997. 315 s.
Cinciała Andzej. Przyslowia, przypowiesci i ciekawsze zwroty jezykowe ludu polskiego na Slasku w ksiestwie Cieszynskiem: Cieszyn: PAN Biblioteka Kórnicka. 1885. 127 s.
Čelakovský Ladislav. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. Uspořádal a vydal František Lad. Čelakovský. Praha: nakl. Vyšehrad, 1949. 922 s. (Čel.) (1-е изд. 1852).
Flajšhans Václav. Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A-N), díl II (O-Ru). 2-é, rozšířené vydání. Předmluva V. Mokienko, komentáře V. Mokienko, L. Stěpanova. Editors Valerij Mokienko, Ludmila Stěpanova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
Gerhardt D. «Vogelmilch» - Metapher oder Motiv? // Semantische Hefte. II. Hamburg: Archiv für Vergleichende Semantik, 1975. S. 1-79.
Gluhak A. Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb: August Cesarec, 1993. 832 s.
Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1971. 866 s.
Mokienko V.M., Walter H. Urslawische Phraseologie: Mythos oder Legende?... Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress, Belgrad 2018. Herausgegeben von Sebastian Kempgen, Monika Wingender und Ludger Udolph (= Die Welt der Slaven. Sammelbände • Sborniki 63). Wiesbaden: Harrassowitz 2018. S. 331-340.
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / Pod red. akad. Ju. Krzyżanowskiego. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 1969-1978. T. 1-4.
Ondrusz Jozef. Przyslowia i przymowiska ludowe ze Slaska Cieszyńskiego. Czeski Cieszyn: SLA-Polski Związek Kult. Oświat. w Czechosłowacji; Polskie Tow. Ludoznawcze, 1954. 346 s.
Pavlica, Josip. Frazeološki slovar v peti jezikih. Ljubljana: Postojna, 1960. 688 s.
Slovenské ľudové príslovia. Sostavili Andrej Mlicherčík a Eugen Paulíny s použitím «Slovenských přísloví, pořekadel a úsloví» A.P. Zátureckého. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatury, 1953. 274 s.
Slovník slovenských nárečí. Vedecký redaktor Igor Ripka. Bratislava: Veda, 1994; 2006. T. 1-2.
Záturecký Adolf Peter. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava: Tatran, 1975. 760 s.
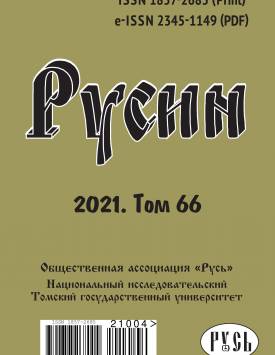

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью