Рассматривается семантическая история группы слов близкородственных языков (рус. вызвать, вызов, пол. wyzwać, wyzwanie, wezwać, wezwanie), связанных друг с другом генетически, но по-разному реализующих похожие значения, а также особенности воплощения этими единицами смысла, который часто описывается как результат семантического калькирования одного из значений английского слова challenge. Авторы демонстрируют, что новый тип употребления существительного вызов вполне логично и последовательно встраивается в его семантическую историю. Благоприятная почва для нового смысла непосредственно подготовлена «агональным» значением глагола вызвать, предполагающим наличие в актантной структуре глагола и отглагольного существительного в позиции контрагента. При этом новое значение существительного вызов встречается преимущественно в контекстах, связанных с глобальными силами, несущими угрозу стабильному существованию мира. Блоки смыслов, реализуемые единицами вызвать и вызов, распределяются между двумя польскими глаголами - wezwać и wyzwać - и существительным wyzwanie. Хотя калькируемое значение представляет собой новшество и для польской семантической системы, польский герундий, как кажется, точнее, чем русское существительное, воплощает идею, стоящую за английским challenge, о чём, в частности, свидетельствует намного более свободная сочетаемость польской лексемы (она чаще используется в контекстах, связанных с повседневной активностью). В этом случае мы имеем дело с идеальным результатом семантического калькирования.
Slavic languages in the face of challenges: semantic and derivational history of vyzov and wyzwanie (based on Russian an.pdf Введение Непосредственным поводом для написания статьи стало употребление в названии конференции «Славянские языки в условиях современных вызовов» (здесь и далее выделено нами. - М.Т., Е.С.) отглагольного существительного, которое неоднократно описывалось как результат калькирования русской лексико-семантической системой одного из значений английского challenge (см., в частности, [2; 12; 18]). Первые употребления такого типа относятся к началу 2000-х гг., ср.: Стратегический ответ России на вызовы и угрозы нового века требует качественно нового подхода к анализу и прогнозированию развития экономики («Время МН». 2003); Среди первых в перечне новых угроз и вызовов стоит процесс распространения ядерного и другого оружия массового уничтожения («Воздушно-космическая оборона», 2002); Подобный позитивный опыт особенно важен в нынешних условиях, когда мы совместно противостоим глобальным вызовам и угрозам - терроризму, экстремизму, наркоторговле («Дипломатический вестник». 2004). И.Б. Левонтина в статье «Заимствования в современном русском языке и динамика русской языковой картины мира» неоднократно подчёркивает совершенную чуждость этого значения для русского языка и в то же время его способность естественно встроиться в семантическую систему: «Вот слово вызов жило себе и столько лет абсолютно не собиралось калькировать данное значение слова challenge. Но вдруг собралось, и значение это моментально прижилось. Просто раньше оно не было нужно, а теперь понадобилось... Раньше так не говорили и этого не говорили никак, потому что этого не думали. Как сказано у Цветаевой, “даже смысла такого нет!”» [2: 551]. Насколько справедлив последний вывод? Действительно ли рассматриваемое значение характеризуется абсолютной новизной для русского языкового сознания? Нельзя ли обнаружить в семантической и словообразовательной истории слова вызов этапы, подготовившие почву для освоения нового смысла? Как должна выглядеть его экспликация (заметим, что И.Б. Левонтина не предлагает никакого толкования1)? Так ли моментально прижилось это новое значение, и насколько свободно оно функционирует? В какой степени, наконец, описываемое значение, воплощаемое в особом типе употреблений, уникально на карте славянских языков, и возможно ли обнаружить на этой карте реализацию похожего механизма? Попытка ответить на эти вопросы составляет основную цель настоящей работы. Фоном для описания механизма семантического развития русского вызов в рамках данной статьи станут польские единицы wyzwanie и 2021. № 66 152 wezwanie, распределившие между собой набор смыслов, реализуемых русским словом. Материал анализа извлечен из Национального корпуса русского языка2 (НКРЯ) и Национального корпуса польского языка3 (далее -NKJP), а кроме того, включает примеры, обнаруженные при помощи поиска в информационно-поисковой системе Google (https://www. google.com). Этот материал представляет собой примеры контекстного употребления русского слова вызов и польского слова wyzwanie, а также некоторых других лексических единиц, непосредственно или опосредованно связанных с ними словообразовательными отношениями (вызвать, вызывать, вызывающий, воззвание, wyzwac, wezwac, wezwanie и пр.). Таким образом, классический структурно-семантический анализ глагольных и именных лексем с учётом их формальных и содержательных связей опирается на корпусные данные. Этот учёт позволяет обеспечить полноту и объективность выводов. Предыстория Общая история описываемых единиц начинается с праславянского глагола индоевропейского происхождения *zwati (ср. [11: 85]), а также префиксов *vy- и *vbz-, которые, вероятно, уже в период существования самостоятельных славянских языков используются для образования глаголов, где приставка сохраняет только опосредованную связь с исходным пространственным значением (ср. [14: 746]). Префиксы в чисто пространственных значениях могли присоединяться к глаголам уже в праславянский период, однако и сами эти глаголы обозначали в первую очередь перемещение, расположение или, во всяком случае, деятельность, осуществляемую в физическом пространстве (см., напр., [5; 9]). «Первичными значениями были пространственные, чувственно воспринимаемые, но одновременно в них уже формировались абстрактные идеи, семантические “образы” этих приставок, которые делали возможным перенесение этой прототипической семантики на другие, более абстрактные классы действий, отношений и состояний. Эта прототипическая семантика приставок, как правило, сохраняется в виде семантического компонента в многочисленных непространственных приставочных глаголах: отжить - “отде-лительность” субъекта от действия вследствие невозможности его продолжения, прожить - направленность процесса вперед, сквозь временной промежуток, выжить - результативность, сохраняющая, на наш взгляд, несколько стёртый образ движения изнутри наружу, извлечения» [9: 75]. Лингвистика и язык 153 Отметим, что смысл, связанный с движением наружу, выходом из обжитого и комфортного пространства (правда, в большинстве случаев уже не субъекта соответствующего действия, а его объекта или адресата), будет сопровождать и большинство современных значений глаголов вызвать и wyzwac, а также образованных от них nomina actionis. В этом «воспоминании» об исходном пространственном значении приставки нет ничего удивительного: между изначальным смыслом префикса, связанным с взаимным физическим расположением объектов, и его производными значениями существует естественная связь (см., напр., [1; 8]). Вызвать Синтаксический дериват вызов естественным образом наследует семантические свойства производящего глагола вызвать, а потому невозможно обойтись без описания его семантической структуры (её более подробный анализ см. в [8]). Словари современного русского языка выделяют у слова вызвать от трёх до семи значений4. Сосредоточимся на тех из них, которые непосредственно связаны со смыслом, обсуждаемым в статье (так, нас не будет интересовать значение ‘каузировать процесс или состояние', поскольку это значение не может быть передано существительным, ср. вызвать гнев, отчаяние, аварию ^ *вызов гнева ). Прототипическая ситуация, называемая глаголом вызвать, предполагает двух обязательных участников (Хвызвал Y), выполняющих разные семантические роли (Х- это субъект действия, его инициатор; Y - объект), но обладающих общим семантическим признаком: оба участника - лица (ср. начальник вызвал заместителя, директор вызвал родителей и т. п.). Основные компоненты базового значения (лексема вызвать 1) выглядят следующим образом: (а) Y отсутствовал в определённом месте в определённое время; (б) Х сделал так, чтобы (в) Y находился в определённом месте в определённое время. Семантическая специализация вызвать происходит в результате добавления к перечисленным компонентам нового - (г): (а) Y отсутствовал в определённом месте в определённое время; (б) Х сделал так, чтобы (в) Y находился в определённом месте в определённое время и (г) совершил действие Р или подвергся действию Р. Заметим, что в этом случае валентность Y может быть заполнена в т. ч. неодушевлённым существительным: отец вызвал врача/скорую помощь, жители вызвали пожарных/полицию и пр. 2021. № 66 154 Ядерная конструкция Хвызвал Y-а (Y) расширяется за счёт дополнительных компонентов - в частности, именной группы с предлогом на или в. Эта предложная группа может указывать на обстоятельства совершения действия: сантехника вызвали в третью квартиру, отец вызвал врача на дом, сосед вызвал лифт на пятый этаж и т. п. Информация о том, каково это действие, имплицирована одним из компонентов семантической структуры слова, заполняющего позицию Y(сантехник ремонтирует оборудование, врач лечит, лифт поднимает и опускает и т. п.), а потому понимание такого рода формулировок вполне однозначно: сантехника стандартно вызывают не для того, чтобы сыграть с ним в шахматы. В контекстах, где семантика существительного, называющего Y, не содержит информации о характере действия, в которое вовлечен Y (ср. Иванов вызвал Петрова),эту функцию берёт на себя предложная группа с на: Васильеву вызвали на прослушивание = чтобы прослушать; вызвали на примерку платья = чтобы примерить. Неудивительно, что в этом случае группа включает девербатив с процессуальным значением. Функциональная нагрузка компонента Yтем самым увеличивается: теперь Y входит в актантную структуру сразу двух предикатных слов: Y-а вызвали на опознание ^ Y = объект действия вызвать и субъект действия опознать; Y-а вызвали на допрос ^ Y = объект действия вызвать и объект действия допросить). Анализ материала показывает, что конструкция вызвать на Р (P - отглагольное имя; глагол и предлог или в непосредственном соседстве, или разделены существительным, заполняющим позицию Y) характеризуется сравнительно высокой частотностью (261 вхождение в основном корпусе). Эта конструкция запускает ещё один семантический сдвиг, представленный сочетаниями типа Хвызвал Y-а на бой . Этот тип употреблений существенным образом отличается от описанных выше: он связан со сменой семантической роли Y в ак-тантной структуре девербатива. Y становится контрагентом, а значит, включается в ситуацию противостояния5 в качестве её равноправного участника: X и Y как бы обмениваются ударами или подачами как участники боксерского поединка или теннисного матча, и единственное различие между ними состоит в том, что X мыслится как инициатор их взаимодействия. Несколько огрубляя схему толкования значения, связанного с третьим типом употребления, можно представить в следующем виде: Х вызывает Y-а на Р (а) Х намерен сделать Р; Лингвистика и язык 155 (б) Х хочет, чтобы Y сделал Р; (в) Х говорит Y, что он должен сделать Р; (г) Х говорит это, потому что хочет, чтобы Y участвовал в Р вместе с ним. Вызов Значения производящего глагола и производного процессуального имени не всегда характеризуются абсолютным тождеством, но очевидная семантическая соотносительность между ними имеет место в подавляющем большинстве случаев. Так происходит и в паре вызвать ^ вызов, что подтверждается регулярностью трансформаций типа командир вызвал Петрова - Петров явился по вызову, актрису вызвали на съёмки - актрису обрадовал вызов на съёмки, вызвал соперника на матч-реванш - соперник принял вызов. Важно при этом, что только для лексемы вызвать 3, называющей ситуацию «противостояния», возможна трансформация, предполагающая симметричное и равноправное положение участников: Х бросает вызов Y-у - Yпринимает вызов Х-а (или отвечает на вызов Х-а). «Преобразование Х вызывает Y-а на Р ^ Х бросает Y-у вызов влечёт за собой грамматическое переподчинение имён: существительное, называющее субъекта-инициатора Х-а, передвигается из позиции именительного падежа в позицию родительного (генитива), имя объекта-контрагента Y-а - в позицию дательного. В результате семантическая роль Y-а переосмысляется как роль адресата-контрагента» [10: 90]. Напомним, что участниками прототипической ситуации являются лица, а потому и в «агональных» контекстах позиции X и Y чаще всего заполняются одушевлёнными существительными: Макгрегор вызвал Хабиба на бой ^ Макгрегор бросил вызов Хабибу - Хабиб принял вызов Макгрегора. При этом специфика семантической роли контрагента предполагает, что он вполне может перехватить инициативу у инициатора взаимодействия (ср. вызов Пушкина Дантесу - вызов Дантеса Пушкину). Именно субстантивная транспозиция делает возможной замену одушевлённого участника неодушевлённым в рамках метафорического осмысления ситуаций экзистенциального свойства. В последнем случае вызов может быть брошен стихии, судьбе, смерти, болезни и страху, обществу, морали и т. п.6 Участники, как мы выяснили, равноправны, а значит, неодушевлённой, стихийной силе Y, противостоящей субъекту X, вполне может быть приписана инициатива, сознательное намерение проверить X-а на прочность. Такого рода концептуализация явления, стоящего за абстрактным существительным, становится 156 I ii I 2021. № 66 когнитивным основанием для появления выражении вроде вызов будущего7. Представим ряд примеров, иллюстрирующих описанный тип употреблений: Что это - дань прошлому или вызов будущему? ^ Но инициативы центра, которые должны ответить на новый вызов ближайшего будущего, держатся в секрете. Как и Вальсингам, он нарушает общепринятые моральные нормы и смело бросает вызов смерти. ^ Метод анализа экзистенциальных стратегий для автора - это попытка выстроить картину архитектурного творчества как ряд ответов на вызов смерти. Вдохновившись космическими планами отца, он бросил вызов судьбе ^ Что ж, и они свой долг исполнили, ответили по-солдатски на вызов судьбы... Так, пламенея мыслью, Прохор бросил в огненной запальчивости гордый вызов миру. ^ Так и сейчас мир непосилен для человеческого ума, так и сейчас вызов мира нестерпим. Итак, исходная ситуация, связанная с межличностным взаимодействием, представляет собой источник осмысления такого положения вещей, в котором действуют абстрактные сущности, стихийные силы. Как кажется, именно способность соотноситься с ситуациями последнего типа формирует предпосылки для естественной имплементации значения английского challenge в семантическую структуру русского вызов. Таким образом, «логика семантического развития, наличие необходимой грамматической упаковки (способность формы генитива выражать субъектное значение) и функциональная специфика русского существительного вызов создали максимально благоприятные условия для калькирования значения английского субстантива» [10: 94]. Важно при этом отметить, что благоприятность этих условий может быть разной в зависимости от сферы функционирования и содержания тех текстов, в которых встречается существительное вы-зовсЬ. В некоторых контекстах эта единица чувствует себя настолько комфортно, что начинает освобождаться от конструктивных ограничений, навязываемых её морфологической природой. Так, в общественно-политическом дискурсе, в языке дипломатии форма единственного числа существительного начинает существенно уступать по количеству употреблений форме множественного числа, воплощающей диалектическое единство процессов абстрагирования и конкретизации и осложнённой коннотациями «отчуждения». С одной стороны, отрываясь от семантики межличностного взаимодействия и передвигаясь в позицию абсолютивного употребления, вызов всё сильнее сдвигается по шкале ‘конкретное - абстрактное' Лингвистика и язык 157 к правому её полюсу. С другой стороны, форма вызовы не может не испытывать давления системы, которая навязывает таким единицам особую семантику - ‘единичные проявления процессов и состояний' (см. обман - обманы, печаль - печали и т. п.) [6: 462]. В рамках этого же типа дискурса возникают и приобретают статус устойчивых обороты вызовы иугрозы/угрозы и вызовы (в качестве перевода английского threats and challenges), и в составе этих оборотов окончательно оформляется тенденция к использованию анализируемого существительного во множественном числе - с возможностью актуализации всех составляющих его семантического потенциала: поиск ответов на новые вызовы и угрозы, борьба с новыми вызовами и угрозами, стратегический ответ России на вызовы и угрозы нового века, гибко реагировать на многочисленные старые и новые угрозы и вызовы, поиск ответов на угрозы и вызовы XXI века и т. д. Следует отметить, что и в составе названных оборотов, и в самостоятельном плюральном употреблении вызовы связываются с проблемами глобального характера: защитой государственных интересов, обеспечением международной и национальной безопасности, состоянием мировой экологии. Иногда, как мы можем наблюдать в названии конференции, источником вызовов является современность в целом. На основании проведённого анализа можно утверждать, что «семантическая почва» для появления нового значения в смысловой структуре слова вызов была вполне подготовлена за счёт внутренних ресурсов русского языка. Внешний фактор - знакомство с существительным challenge, которое произошло в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией и увеличением числа людей, владеющих английским языком, - послужил стимулом для встраивания нового смысла в семантическую систему русского языка. Важно при этом помнить, что концепты, обозначенные лексемами вызов^ь и challenge, не тождественны - они различаются коннотативны-ми свойствами: «Слово challenge описывает, в частности, следующую ситуацию. Человек берётся за выполнение какой-то трудной задачи, на пределе или даже за пределами своих профессиональных или иных возможностей, и трудность задачи подстёгивает его, заставляет превзойти самого себя. Восхитительна эмоциональная тональность этого слова: оно выражает эдакий весёлый азарт и вкус к жизни» [2: 550]. Вызов так же, как challenge, описывает положение дел, требующее высокой концентрации сил и (или) материальных ресурсов, однако это положение дел находится за пределами повседневной жизни отдельного человека8; оно связано с глобальными явлениями и оценивается говорящим как негативное или нарушающее нормальный ход вещей, как содержащее в себе угрозу стабильности. 2021. № 66 158 Указанное различие, как кажется, соотносится с теми представлениями, которые стоят за разными языковыми картинами мира. Wyzwac и wezwac Невозможность ограничить круг рассматриваемых польских единиц когнатом описанного выше русского глагола и его синтаксическим дериватом wyzwanie связана с тем, что блоки смыслов, реализуемые русским глаголом вызвать, распределяются между двумя польскими глаголами - wyzwac и wezwac (этот последний, в свою очередь, исторически соотносится с русским воззвать). Те смыслы, которые в русском языке подготавливают появление агонального значения вызвать, реализуются польским глаголом wezwac: 1) zawiadomic kogos, polecic komus, by przybyt, by si$ stawit gdzies, przed kims; przywotac, przyzwac'; 2) ‘zawiadomic polij straz pozarnq, pogotowie ratunkowe o koniecznosci natychmiastowej inter-wencji tych stuzb w jakims miejscu; zaalarmowac'9. Первое значение, как и первый тип употребления глагола вызвать, не предполагает импликации типичных действий адресата (ср. Po bitwie stalingradzkiej wezwal do siebie oficerow‘после битвы под Сталинградом он вызвал к себе офицеров'), а второе, хотя и сформулировано максимально узко (а именно исчерпывающим образом перечислены возможные объекты вызова: полиция, пожарная охрана, скорая помощь), в реальном употреблении сближается со вторым значением русского глагола: примеры, извлечённые из NKJP, демонстрируют, что по-польски вполне можно вызвать сантехника или машину, ср.: Gdy cieknie kran najlatwiej wezwac hydraulika; Moze poprowadzq Gqsiora wlasnie tam i wezwq samochod (упоминание полиции и пр. в словарной дефиниции связано, конечно, с неразличением собственно значения и сочетаемости). Примечательно, что глагол wyzwac не реализует названные смыслы; любопытен здесь комментарий исследователя дневников Ванды Василевской, в котором wyzwac в контексте Jezeli wyzwalimnie do defy, to Janka czekala w kawiarence ‘если меня вызывали в контрразведку, Янка ждала в кафе' характеризуется как русизм [15: 163]10. Стоит отметить, что третье значение wezwac - ‘zwrocic si$ do kogos z apelem o cos; zaapelowac' - сближается со значением русского воззвать (или призвать) и не предполагает расширения в сторону ситуации, включающей контрагента: можно wezwac do walki, do czynu, do pracy, do ofiarnosci (‘призвать к борьбе, к действию, к работе', ‘воззвать к жертвенности'). Существительное wezwanie, в свою очередь, кроме собственно предикативного значения, унаследованного от глагола совершенного вида и предполагающего некоторую результативность, реализует Лингвистика и язык 159 смыслы, в русском языке распредёленные между воззванием и вызовом (эти значения не рассматривались выше в силу их очевидной предметности): 1) ‘apel, odezwa'; 2) ‘pismo urz?dowe nakazujqce stawic si? gdzies, zaplacic jakqs naleznosc, dopelnic jakies formalnosci itp.; nakaz’. Глагол wyzwac, кроме не слишком интересующего нас смысла ‘обругать, используется в том значении, которое связано с наличием контрагента: ‘zmusic (zmuszac) kogos do wzi?cia udzialu w walce, grze, pojedynku itp.'. Следует при этом отметить, что конструкция wyzwac na P используется вполне активно (713 контекстов в NKJP, включая поисковый шум, с минимальным расстоянием между единицами), конструкция wyzwac do P - несколько реже (346). Wyzwanie Статус отглагольных имён типа wyzwanie описывается в польских грамматиках по-разному; они могут рассматриваться как результат словообразовательной операции, но чаще единицы такого рода характеризуются как т. н. odslowniki - «осубстантивленные» глаголы, «существительные формы глагола», формы герундия: «Slownik jqzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego stosuje tu rozwiqzanie polowiczne: raz odnotowuje konstrukcje z -nie, -cie jako “rzeczowni-kowq form? czasownika” (podkreslamy: czasownika!); gdy taka forma ma pewne ustabilizowane znaczenia przedmiotowe, np. znaczenie obiektu, rezultatu, miejsca itp., rejestrowana jest po raz drugi jako rzeczownik, np. jedzenie to nie tylko ’czynnosc’, lecz i 'to, co si? je', a wi?c ’obiekt’» [17: 127]. Имея в виду два полюса аффиксальных значений в языках мира - дериватемы и граммемы [3: 271-286] - и наличие т. н. смешанной зоны между этими двумя полюсами (одни и те же аффиксальные значения в разных языковых системах могут оказаться грамматическими или словообразовательными [4: 122]), можно, вероятно, утверждать, что в польском языке, в отличие от русского, образование nomina actionis представляет собой скорее регулярное морфологическое явление [16: 199]. Возможно, именно поэтому, как мы увидим позднее, сочетаемость и сферы употребления польского wyzwanie шире, чем у его русского эквивалента. В любом случае очевидно, что образование форм множественного числа имён (или именных форм глагола), которые обозначают чистую процессуальность, по крайней мере затруднено [16: 200]. И, напротив, чем предметнее значение имени, тем более вероятно, что оно будет вести себя как стандартное существительное с полной парадигмой. 2021. № 66 160 Стоит отметить, что в «Универсальном словаре польского языка» уже в 2004 г. фиксируется значение ‘cos, np. trudne zadanie, nowa sytuacja, odwazne zachowanie, wymagajgce od kogos wysitku, trudu, po-swi^cenia itp., pozwalajgce sprawdzic czyjgs wiedz^, czyjes umiej^tnosci, czyjgs odpornosc itp.’ - правда, с пометой книжное. Несоответствие этой пометы реальности современного узуса отражается в более поздних версиях словаря (например, в его интернет-версии), где она опущена. Как и о русском вызове, об этой лексеме говорят как о семантической кальке. Процитируем в подтверждение интервью с Анной Вежбицкой: «Na przyktad w Polsce ciggle stysz^ jak ludzie mowig: “to jest prawdziwe wyzwanie” albo “nowe wyzwanie”. Jak bytam mtoda, to mozna byto wy-zwac kogos na pojedynek (sg pewne wspolne elementy semantyczne), ale nikt nie “stawat przed wyzwaniem”. Dzisiejsze znaczenie tego stowa jest bezposrednig kalkg z angielskiego “challenge”» [13]. Wyzwanie в этом новом значении ведёт себя очень активно и так же активно употребляется в формах множественного числа, причём далеко не только в контекстах, тематически связанных с глобальными проблемами и предполагающих независимость этих проблем от воли конкретного человека: так, в контекстах вроде Czasem saga siq samochodem, bo lubi prqdkosc i wyzwania (‘иногда она участвует в автомобильных гонках, поскольку любит скорость и вызовы’) речь, разумеется, не идёт о цивилизационных вызовах; можно, например, stawiac/wyznaczacsobie wielkie wyzwania (и в этом случае возвратное местоимение свидетельствует о совпадении субъекта и контрагента агональной ситуации в одном лице - такое употребление невозможно для русского вызов), можно участвовать в 30-dniowych wyzwaniach (’30-дневных вызовах’), среди которых будут wczesne wstawanie (‘ранний подъем’) и wyeliminowanie radia i telewizji (‘отказ от радио и телевидения’). Если иметь в виду принципиальные сочетаемостные отличия польского существительного от русского, следует отметить, что вызов, особенно во множественном числе, естественно сочетается с прилагательными, фиксирующими степень новизны (новые /современные вызовы), масштаб событий (глобальные вызовы) или максимально абстрактно называющими сферу проявления глобальных проблем (экономические/геополитические вызовы). Рядом с польским wyzwanie намного свободнее используются прилагательные, представляющие другие лексические подсистемы: matematyczne wyzwania (название интернет-квизов и заданий по математике для школьников), nocne wyzwania (описание ночного бдения, сопровождаемого молитвами), internetowe wyzwania (флешмобы, в рамках которых необходимо выполнить какое-либо задание) и пр. Лингвистика и язык 161 Заключение Таким образом, польское слово, как кажется, гораздо точнее реализует смысл, заимствованный у английского challenge, и намного теснее связано с «весёлым азартом и вкусом жизни», о которых пишет И.Б. Левонтина применительно к оригинальному концепту. Т.М. Шкапенко упоминает о специфике польской лексемы в связи с особенностями использования заимствованного междометия yes: «Szersza analiza obserwowanych sytuacji uzycia interiekcji yes wykazuje, ze w absolutnej ich wi^kszosci wyst^puje pewnego rodzaju konfrontacja, przeciwstawienie si$ innej osobie czy tez grupie. Rozwoj typowej sytuacji przebiega standardowo: inicjowany jest przez pewnego rodzaju wyzwanie - “challenge", motywujgcy do podj^cia pewnego rodzaju czynu - “action", co z kolei prowadzi do doswiadczania stanu “full-drive” z powodu pokonania strony konfrontujqcej i udowodnienia jej swojej wyzszosci» [19: 164]. Неудивительно, что лексема вызов^ не слишком часто обнаруживается в повседневных и неофициальных контекстах - она (особенно в форме множественного числа) скорее тяготеет к научному дискурсу и стилю традиционных медиа. Показательно, например, что количество результатов поиска - с использованием кавычек для точного соответствия - в информационно-поисковой системе Google по запросу wezwanie Ice Bucket Challenge (примерно 2 880) более чем в два раза превышает число результатов, полученных по запросу вызов Ice Bucket Challenge (примерно 1 220). Ср. также польский и русский официальные переводы названия американской комедии Challenge о сёстрах, участвующих в реалити-шоу и борющихся за главный приз, - Wyzwanie и «Мексиканские каникулы» соответственно. Как представляется, на фоне польского wyzwanie, полностью впитавшего смысл английского слова и представляющего собой идеальный случай семантического калькирования, особенно очевидна специфика русского вызов, которая в высокой степени опирается на семантику производящего глагола и тесно связана с его актантной структурой. ПРИМЕЧАНИЯ 1. При необходимости будем условно обозначать эту лексему вы-зовch, сохраняя отсылку к английскому слову. 2. URL: https://ruscorpora.ru/ 3. URL: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/. Для поиска использовалась поисковая система PELCRA. 2021. № 66 162 4. Все толкования, если это специально не оговаривается, приводятся без указаний на конкретный том и без постраничных ссылок по [7]. 5. Идея противостояния содержится и в семантической структуре других членов словообразовательного гнезда. Ср. прилагательное вызывающий (вызывающее поведение, вызывающая манера, вызывающий вид) и наречие вызывающе (говорить, смотреть, вести себя, одеваться). 6. Отметим, кстати, что, по данным НКРЯ, исходный глагол практически не употребляется подобным образом. 7. Следует отметить, что функционально-семантическая роль субъекта-контрагента реализуется именами типа судьба преимущественно в позиции родительного падежа. 8. Самые «приземлённые» ситуации представлены, например, в следующих, притом крайне редких примерах: Им придётся покупать сырьё по реальным ценам. Для них это будет вызов; наша промышленность нуждается сейчас именно в вызове, а не в создании дополнительных тепличных условий; Среди основных вызовов - снижение цен на электроэнергию и газ. Примеры вроде приведённого И.Б. Левонтиной (И ещё больший вызов - засохшая свекла! - в рекламе стирального порошка) продолжают, как кажется, оставаться маргинальными. 9. Значения польских лексем здесь и далее приводятся в соответствии с [20]. 10. Следует, однако, отметить, что в некоторых руководствах по культуре речи эти польские глаголы характеризуются как паронимы, следовательно, проблемная для носителей языка зона. В NKJP встречаются примеры очевидного смешения этих паронимов: Bye moze Tobie pomoze sama zmiana pracy i nowe otoczenie nigdy ponownie nie wyzwie na swiatlo dzienne Twojego problemu; Kiedy rozmawialismy o tym w pazdzierniku, tuz przed wyborami parlamentarnymi, dziwii siq Pan, ze nie zostal wyzwany do zlozenia wyjasnien.
Вострова Ю.А., Филь Ю.В. Впереди или заранее? О русских и чешских глаголах с приставкой пред- // Русин. 2019. № 56. С. 179-197. DOI: 10.17223/18572685/56/11.
Левонтина И.Б. Заимствования в современном русском языке и динамика русской языковой картины мира // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 550-564.
Мельчук И.А. Курс общей морфологии. М.; Вена: Языки русской культуры. Венский славистический альманах. Издательская группа «Прогресс», 1997. Т. 1. 416 с.
4. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. М.: Едиториал УРСС, 2003. 384 с.
5. Пятаева Н. К проблеме исследования лексики праславянского языка // Acta Neophilologica. 2013. № 15/1. С. 143-154.
6. Русская грамматика / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1982. Т. I. 783 с.
7. Словарь русского языка: в 4 т. 3-е изд., стер. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. М.: Русский язык, 1985.
8. Сухорукова Ю.А., Филь Ю.В. Семантика проспективности в русском и других славянских языках (на материале глаголов с приставкой пред-) // Русин. 2020. № 62. C. 176-193. DOI: 10.17223/18572685/62/10.
9. Табаченко Л.В. О комплексном подходе к исследованию динамики внутриглагольной префиксации // Вестник ПСТГУ. III: Филология. 2011. № 2 (24). С. 72-79.
10. Ташлыкова М.Б. Вызов и угроза: из естественно языка в общественно-политический дискурс - и обратно // Трансграничные вызовы национальному государству. СПб.: Интерсоцис, 2015. С. 81-102.
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. 672 с.
12. Щеболева И.Б. К проблеме изучения концепта и его реализаций (на материале концептов «свобода» и «вызов») // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы Международной научной конференции. Ростов на/Д., 2007. С. 130-136.
13. Bajer M. Lingwistyka molekularna. Rozmowa z prof. Anną Wierzbicką, lingwistką, laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2010 // Forum Akademickie. 2011. № 3. URL: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2011/03/lingwistyka-molekularna/ (дата обращения: 10.09.2021).
14. Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. 863 s.
15. Graczykowska T. Rusycyzmy i sowietyzmy we Wspomnieniach Wandy Wasilewskiej // Linguistica Bidgostiana. 2007. № 4. S. 158-170.
16. Łaziński M. Wykłady o aspekcie polskiego czasownika. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. 315 s.
17. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 332 s.
18. Rivlina A.A. «Threats and challenges»: English-Russian interaction today // World Englishes. 2005. Vol. 24. № 4. P. 477-485.
19. Szkapienko T. Angloamerykańskie interiekcje w języku polskim i rosyjskim // Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. T. LXII. 2016. S. 157-166.
20. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Dysk USB. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
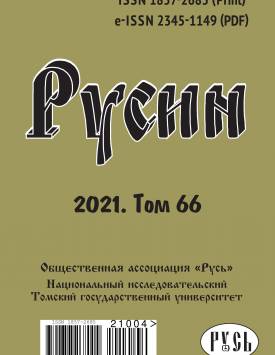

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью