В контексте жизни и многосторонней деятельности историка, этнографа и искусствоведа Сергея Константиновича Маковского (1877-1962) освещается его книга «Народное искусство Подкарпатской Руси», которая была издана в Праге на русском, чешском (1925) и английском (1926) языках. Хотя её не запрещали в Советской Украине, но и не популяризировали из-за эмигрантского прошлого автора и его близости к Дому Романовых. Однако она была хорошо известна специалистам: отзвуки впервые применённого в этой книге преимущественно эстетического подхода к народному творчеству заметны в исследованиях 1960-х гг. и даже позже. Названная книга - итог одноимёной выставки, устроенной школьным отделом Ужгородской гражданской управы (в 1924 г.). Как эксперт и директор выставки Маковский обошёл всё Закарпатье, изучал художественные произведения на месте изготовления, собрал большую коллекцию, общался с мастерами, фотографировал. Для него произведения народного искусства - не только музейные экспонаты, но и «продолжающаяся живая сила», живое свидетельство истории края. В статье использованы биографический, текстологический, историографический, сравнительный методы. Сделан вывод, что в книге Маковского народное искусство Закарпатья впервые является предметом внимания не музейщика, историка, этнографа или организатора народных промыслов, а профессионального критика, который всю жизнь писал о современных художниках. В Карпатах он столкнулся с крестьянским творчеством, где декоративность, присущая также и модернистам, - основное свойство, неразрывно связанное с прикладной целесообразностью и местной традицией. Маковский восторженно воспринимает это творчество, отзываясь точными наблюдениями и обобщениями.
The Artistic Specificity of the Transcarpathian Material Culture in the Works by Sergey Makovsky: A Look at the Historic.pdf Сочинение Сергея Константиновича Маковского выпущено пражским издательством «Пламя» почти век назад параллельно тремя изданиями - на русском, чешском и английском языках, тиражом 300 экземпляров в каждом издании [15; 19; 20]. С тех пор редкое исследование украинского народного декоративного творчества обходится без упоминания труда «Народное искусство Подкарпатской Руси» (1925), по меньшей мере в библиографии. Книга стала итогом выставки «Искусство и быт Подкарпатской Руси», устроенной школьным отделом Ужгородского гражданского управления (1924). Как эксперт и комиссар (в английском тексте -директор) выставки Маковский объехал, а главным образом, обошёл пешком в течение более полугода всё Закарпатье - от Лемковщины на севере до Мармарощины на юге, изучал памятники рукоделия как произведения искусства на месте их изготовления, общался с мастерами, фотографировал и собрал большую коллекцию для будущей экспозиции [18]. Цель этой экспозиции он видел в содействии системному изучению домашних ремёсел Подкарпатской Руси, популяризации образцов «крестьянского художества», пробуждении интереса к народу, который через века порабощения пронёс традицию узоров и бытовых навыков [19]. Более всего Маковского занимают произведения народного искусства, ещё не ставшие музейными экспонатами, а продолжающие и сегодня служить полезной и надёжной утварью: «В наши дни такое искусство не только анахронизм, но истинно современное очарование, оазис пленительного варварства с журчащей ключами среди сыпучих песков фабричной цивилизации» [15: 5-6]. Основу книги составили художественные фотографии, с технической точки зрения совершенные. В изобразительном ряду около трёхсот объектов. Более половины изображают текстиль, одежду и украшения; немало вещей из дерева (около 60 примеров), керамики (27); писанки (18). Несколько фотографий представляют архитектурные формы деревянных храмов (в селах Крайниково, Соль, Шелестово, Лазещина), художественный металл и обрядовую выпечку. Большинство фотографий сделано во время авторских полевых выездов, некоторые представляют вещи из музеев или являются репродукциями образцов, иногда из других местностей Европы и Азии, необходимых для сопоставления с творчеством карпатских горцев. Да и сама книга, прекрасно свёрстанная и напечатанная при участии художника А. Хвалы, является образцом полиграфического мастерства. Антроплогия 235 Важно, что едва ли не впервые крестьянское искусство Закарпатья стало предметом внимания не музейщика, историка, этнографа или организатора народных промыслов, а профессионального критика, который всю жизнь писал о художественном творчестве эпохи модерн преимущественно с эстетической точки зрения. Честно говоря, можно вспомнить лишь одно, хоть и более скромное региональное издание, похожее на труд Маковского научным подходом и мастерством изложения, - книгу под редакцией директора Киевского городского музея М.Ф. Биляшивского с участием Я.А. Тугендхоль-да, Е.Ю. Спасской, художников Е.И. Прибыльской, Е.В. Поленовой, И.И. Модзалевского, А.Ф. Середы [14]. Карпатская же тема дополняется альбомом Д.М. Щербакивского [17], содержащим богатый архитектурный материал. Сам интерес к вопросам, которые ранее не входили в круг научных интересов Маковского, даже, можно сказать, были ему перпендикулярны, понуждает рассматривать подготовку выставки и альбома-монографии как исследование, внимание к которому спровоцировано рядом внутренних и внешних обстоятельств. Прежде всего они связаны с рассмотрением традиционных артефактов народной культуры как явлений современного автору искусства, как источника для дальнейшего движения по пути не преодоления прошлого, но обогащения за его счёт «свежих» художественных форм 1920-х. Книга С. Маковского, хотя и имеется в больших библиотеках Украины, в силу ряда исторических причин повлияла на осмысление нашего традиционного творчества значительно меньше, чем заслуживает, из-за эмигрантского прошлого автора и близости представителей его семьи Дому Романовых и не популяризировалась. Прадед художника [3], обрусевший поляк, разбирался в искусстве и архитектуре, коллекционировал эстампы, строил на продажу дома [5: 3]. Любовь к собиранию графики унаследовал его сын Егор Иванович Маковский, один из основателей Московского художественного класса (1833 г.), преобразованного позже в Московское училище живописи и ваяния. Трое сыновей Е.И. Маковского и старшая дочь стали художниками, младшая - актрисой. Особая слава была суждена Константину Егоровичу Маковскому (1839-1915). В 1863 г. он вместе с тринадцатью другими конкурсантами на Большую золотую медаль отказался писать картину на мифологическую тему и покинул Академию художеств, присоединившись к возглавлявшейся И.Н. Крамским «Артели художников», а затем к передвижникам. По иронии судьбы Большую золотую медаль на Всемирной парижской выставке 1889 г. получили картины Маковского «Суд Париса», «Демон и Тамара», «Смерть Иоанна Грозного» - историко-мифологического жанра, ci ii I 2021. № 66 236 против которого художник протестовал в молодости и который принёс ему успех в зрелости [2]. Сергей Маковский родился в Петербурге (1877) и сразу стал для отца главной моделью - с него написан терзаемый башибузуками младенец, а с его матери - «Болгарские мученицы» (1877). Детство проходило в доме на Адмиралтейской набережной с видом на Академию наук, университет и Академию художеств. Художник вспоминает в мемуарах шкаф-витрину в столовой с образцами народной одежды и различных старинных вещей, зарубежные путешествия, пребывание в Качановке на Черниговщине у Тарновских, журфиксы с интеллектуальной элитой Петербурга [8]. Все дядья и тётки со стороны отца были художниками, мамина сестра Е.П. Леткова - писательницей, её муж Н.В. Султанов - архитектором и архитектуроведом, идеологом неовизантийского стиля, реставратором, кузеном знаменитого культуроведа и политика П.Н. Милюкова, депутата Госдумы, лидера кадетской партии и министра иностранных дел Временного правительства. Частые гости на домашних спектаклях и приёмах у Маковских - художники Айвазовский, Ге, Лемох, Репин, Шишкин, композиторы А. Рубинштейн, Чайковский, Кюи, историк Костомаров и этнограф Миклухо-Маклай, писатели Апухтин, Боборыкин, Гончаров, Григорович, Полонский. Отвечая позже на вопрос, почему не стал художником, Сергей Константинович шутил, что тогда его путали бы с другими Маковскими. На самом же деле конец XIX в. - время повсеместного увлечения естественными науками, поэтому он начал университетское образование с естественного факультета, осваивая окружающее не извне, подобно многочисленным родственникам-художникам, а, так сказать, изнутри. Возможно, именно перенасыщенность семейной среды зрительными образами подтолкнула Маковского к литературе, особенно к поэзии, которая на рубеже ХІХ-ХХ вв. оказалась для европейской культуры семантически и структурно стилеобразующим видом творчества. В тогдашней - преимущественно символистской - версификации не только оттачивалась письменная сноровка выражения мысли, которая не лежит на «прямом пути», но и формировалась особая литературная культура орнаментальной прозы, не в последнюю очередь отразившаяся и на научно-исторических текстах: «Образы Италии» П.П. Муратова (1912) - яркое тому свидетельство. Довольно скоро Маковский увлёкся арт-критикой, полагая, что при наличии первоклассных художников в империи мало критиков, способных осмысливать современность, раскрывать сущность живописных и поэтических образов при помощи логически выверенных Антроплогия 237 вербальных средств. На втором курсе университета в журнале «Мир Божий» (1898, № 3, с. 201-219) появляется его первая искусствоведческая статья, посвящённая росписям Владимирского собора в Киеве, которые вызывали восхищение, смешанное с неприятием. В том же 1898-м С. Маковский познакомился с основателем журнала «Мир искусства» С.П. Дягилевым и его кузеном Д.В. Философовым и стал фактически секретарём редколлегии. После закрытия «Мира искусства» (1904) эстафету в поддержке модернистского искусства принял основанный в 1909 г. журнал «Аполлон», где Маковскому принадлежала роль организатора и первого главного редактора [4]. В империи не было сколько-нибудь амбициозного художественного журнала («Золотое руно», «Старые годы», «Столица и усадьба», «Русская икона» и т. п.), где художник не сотрудничал бы как автор, рецензент, редактор. С юношеским задором он поддерживал всё лучшее из нового, высмеивал новаторов-шарлатанов, иронизировал над корифеями, включая И.Е. Репина и особенно В.В. Стасова, не отказывая им в таланте и заслугах. Имея хороший вкус и слух, поощрял поэтов и прозаиков, организуя дебютные выступления, печатая их произведения и рецензии, давая конструктивные советы и внося редакторскую правку, которая не всегда находила тёплый приём у авторов. Начиная с 1900-х гг. о каждом из них Маковский писал в статьях и книгах, позднее собранных в сборники [8-11]. В 1910 г. женился на Марии Ходасевич, в начале 1917-го с матерью и женой выехал в Крым, надеясь переждать революционную бурю, захлестнувшую Петроград. Как всюду и всегда, организовывал выставки, концерты, лекции, консультировал коллекционеров, скупавших произведения искусства у собиравшихся эмигрировать. Успел побыть «советским служащим» в сфере охраны музейных сокровищ во время недолгой большевистской власти в Крыму в 1919 г., а в 1920 г. уехал с семьей в Стамбул, откуда вскоре перебрался в Прагу. В середине 1920-х гг. основная часть русской эмиграции сосредоточилась в Париже, куда семья Маковских перебралась в 1924 г. Хотя быт эмигрантов был довольно плачевным, талантливому Маковскому удавалось работать по специальности в редакциях и издательствах, выступать с обзорами выставок, докладами, печатать свои книги, править чужие мемуары. Начало Второй мировой войны усложнило трудное, хоть и стабильное существование. Наиболее драматичным было то, что родственникам художника пришлось воевать по разные стороны баррикад. Воспоминания и письма Маковского отражают идейные изменения в эмигрантской среде, где он был более всего дружен с И.А. Буниным, Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус и А.М. Ремизовым [7-9]. На фоне по- 238 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 66 бед Красной армии некоторые пересматривали антибольшевистские позиции, после войны получали в посольстве советский паспорт. Но возвращались в СССР единицы, надеясь на положительные изменения на родине, особенно после смерти Сталина. Среди оптимистов был и Маковский, лелея надежду, что «при Никите» зазвучат над заброшенными храмами замолкшие колокола [5: 275-281]. Поскольку «замолкшие колокола» звонили недолго, разумный Маковский предпочёл умереть во Франции (в 1962 г.). В последние годы - С. Маковский прожил 85 лет - он всё чаще обращался к поэзии, где звучат нотки разочарования, согретые христианской надеждой. * * * Обращение Маковского к изучению и осмыслению традиционного декоративного искусства Карпат воспринимается на фоне его биографии случайным эпизодом вследствие эмигрантской судьбы. На самом деле интерес к народному творчеству в контексте его предыдущей деятельности вполне логичен. Подобно большинству художников, сформированных эпохой модерна, он придавал немалое значение декоративной составляющей материальной формы. Наверное, для С. Маковского было неприемлемо противопоставление идейного декоративному, неоднократно высказанное Репиным в крылатой фразе: «Предоставим вышивание узоров благовоспитанным барышням». И, надо думать, Маковскому ближе красноречивое кредо немного старшего современника Станислава Выспянского: «Kazda dobra sztuka jest dekoracyjnq» (Каждое хорошее искусство является декоративным). Ранее декоративность привлекала Маковского как примета современного искусства, контрастирующего с тусклостью красок предыдущего этапа «критического реализма» [10]. Впрочем, понятие «реализм» в терминологическом поле искусствоведения многогранно, расплывчато. В Карпатах он столкнулся с искусством, в котором декоративность - основное свойство, неразрывно связанное с целесообразностью и традицией - главным способом наследования знаний и навыков. Закарпатье (тогдашняя Подкарпатская Русь) и сейчас, через сто лет после пребывания там Маковского, остаётся краем, который не только ревностно хранит (в домашних мини-музеях) местное художественное наследие, но и воспроизводит его в быту. Маковский этим наследием увлечён, воспринимает его жадно, с любопытством, фиксирует, собирает, делает меткие и точные наблюдения и обобщения. Антроплогия 239 При всей литературности изложенные преимущественно в органичном для него жанре эссе эти обобщения оснащены солидным библиографическим аппаратом, аналитическими комментариями. Три десятка примечаний к тексту рассматриваемой книги содержат ссылки на полсотни изданий на чешском, русском, украинском, немецком, венгерском, английском, польском, румынском, французском, болгарском языках. Замечаем в этой совокупности хорошо известные имена Я.Ф. Головацкого, Хв. Вовка (Ф.К. Волкова), Олены Пчилки (Е.П. Косачёвой), В.-С.Р. Залозецкого-Саса, Е. Кольбенгаера, В.М. Щер-бакивского, Ю.А. Кулаковского, Г.Г. Павлуцкого, В.В. Стасова, Н.М. Мо-гилянского и других учёных, преимущественно из Львова и Киева. Кроме энциклопедической эрудиции автора, всё это свидетельствует о тщательном изучении им литературы по теме и первичных источников. Структура книги [15] логична. В предисловии отмечены главные черты традиционного творчества Подкарпатской Руси. Подлинно народное искусство, настаивает Маковский, «дальше всего от пошлости. Оно восхищает благородством оттенков и разнообразием в каноническом своём коснении. Никогда не вульгарное, потому что всё в нём от полноты народного сердца и всегда согретое творческим чувством, как бы ни повторяло стародавних образцов. В этом его обаяние» [15: 6]. По большей части не умственный, но чувственный подход к освещению явлений народного искусства, раскрытие его поэтики, т. е. системы средств эмоционального выражения, сочетаются у бывшего «мирискуснического» эстета Маковского с историческими и этнографическими интересами, как бы продолжая его рассуждения 1900-х об этнической природе искусства разных регионов [1]. Он постоянно занят вопросами происхождения карпатской орнаментики. Ненавязчиво проявляя удивительную эрудицию, находит параллели местных узоров с тюркскими (надволжскими, среднеазиатскими, оттоманскими), персидскими и кавказскими, финно-угорскими, даже дальневосточными. Обозревает и новые времена, и эпоху бронзы, отмечая сходство украшений гуцульского металла с латенской культурой, халльштаттом, геометрической вышивки - с неолитическими узорами. Понятно, что подмеченные Маковским подобия не обязательно наследственные: схожими их делают характер материала и техника обработки. Впрочем, решение этой проблемы, по его мнению, едва ли достижимо в ближайшем будущем. По крайней мере, за полтора века после работ Ф.К. Волкова наука не слишком продвинулась, хоть и накопила огромный фактический материал, всесторонний анализ и толкование которого пока преждевременны. Этому мешает не- 240 g J Ml 'Ci ii I 2021. № 66 обозримый объём вещественных памятников, лишь незначительно обработанных, введённых в научный оборот и ещё меньше осмысленных как целое. Несмотря на начальный этап разработки этнографического районирования Карпат, автор устанавливает границы регионов «по сродству вкуса» их обитателей, считая влияние географических и климатических условий более существенным, нежели племенные оттенки. Вместе с тем он почти полностью исключает из поля внимания узоры «явно чужие, вследствие чего в книге не представлены целые округа, где древнейшие мотивы почти вытеснены словацкой, мадьярской, румынской модой» [15: 9]. Он утверждает, что «самые простые, как бы элементарные, вер-ховинские вышивки ни в коем случае не являются первичными по своему рисунку, и, напротив того, сложный “тканый” рисунок некоторых вышивок Косовской и Кобольей Полян, Росушки, Луги, Рахова, Ясины, Богдана-на-Тиссе ближе к узору, от которого когда-то пошли бесчисленные разновидности. Население севера, более бедное во всех отношениях, только опростило в этих случаях стиль узора. Произошла декоративная редукция, давшая в свою очередь много неожиданно красивого Это не мешает тому, что тот же верховинский север, полудикая горная область, сохранил лучше, чем более впечатлительный и подвижный юг, некоторые элементы примитива» [15: 12]. По видам традиционного искусства (прежде всего, это вышивки), С. Маковский выделяет на Закарпатье четыре района. Наиболее ему интересна Гуцульщина, расположенная на юго-востоке горного края, по обе стороны тогдашней чехословацко-польской границы. Далее, на северо-запад следует Верховина, от главного карпатского хребта в долину реки Турии. Ещё западнее простирается третий выделенный Маковским равнинный район, переходящий на юге в долины Марма-роша, смежного на юге с Трансильванией, а на востоке - с Буковиной. Первая после вступительной части глава посвящена резьбе и деревянной архитектуре, где обработка дерева названа наиболее характерным видом русинского традиционного творчества в лесном карпатском крае. С восторгом описаны региональные и местные различия посуды, по-разному украшенной резьбой, гравировкой и обжигом - в долинах Тиссы, Турии; отмечены общие черты и различия их в декоре и конструкции с обеих сторон главного Карпатского хребта; выделены такие линии развития, как техническое совершенствование, огрубление и примитив. В наиболее сжатой по объёму второй главе достаточно критически охарактеризована керамика. Если на юге (Мармарош) ещё Антроплогия 241 сохранились в отдельных сёлах ячейки гончарного промысла для собственного потребления, то на севере и западе (Ужгород, Севлюш, Хуст) это ремесло приобрело под влиянием города полуфабричные формы производства и мадьяризованную стилистику. Гуцульщина, расположенная на обоих склонах главного Карпатского хребта, привыкла пользоваться гончарными изделиями Восточной Галиции, которая в межвоенный период принадлежала Польше. Третья глава содержит описание одежды и украшений, включая обувь, головные уборы и причёски. Эту сферу Маковский называет «наиболее уцелевшей отраслью прикарпатского фольклора». Поэтому с особым вниманием и этнографической тщательностью обследует одну за другой долины рек, формально фиксируя номенклатуру и стилистику женской и мужской одежды для лета и зимы, функционально - способы ношения, изменяющиеся во времени. В четвёртой главе «Вышивки и ткани» говорится о стилистических особенностях и колорите выделенных четырёх районов Закарпатья. Впрочем, навыки применения цвета, по его мнению, «подвержены колебаниям от случайных причин», если согласиться, что повсеместное внедрение фабричных нитей, окрашенных анилином, является случайным искушением. Графику узора Маковский считает более стабильной, чем цветные нововведения. Основа орнамента Карпат (как Кавказа и вообще Востока) - это комбинации ромбовидных элементов, а фитоморфные мотивы отсутствуют. Добавим: они распространятся позже, в конце 1920-х гг. Свыше двух третей объёма книги занимает иллюстративная часть, идущая после примечаний, в конце - аннотированный список иллюстраций на десяти цветных таблицах и ста черно-белых (всего около трёхсот сюжетов). Русское, чешское, английское издания книги при том же объёме различаются тоном и качеством бумаги, характером полиграфического исполнения и художественного оформления. Во всех главах книги главное внимание уделено мотивам орнамента, их местным образным названиям, среди которых встречаются не зафиксированные в литературе середины и конца ХХ в. Это можно объяснить постоянными изменениями в номинациях узоров и непрестанным изощрением народных ремесел, которое невозможно полностью зафиксировать даже коллективам ученых. Богат нюансами лексики и интонаций язык исследователя, критика и поэта в одном лице, которому не приходилось раньше профессионально обращаться к такому специфическому предмету. Маковский не обременён этническими сантиментами, основной пафос в его текстах связан с раскрытием поэтики народных произведений, прекрасных в их «безыскусности». 242 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 66 Не раз дивишься прозорливости Маковского. Часто он первым усматривал то, что становилось очевидным и общеупотребительным через три десятилетия. Например, словосочетание «художественный фольклор» начали повсеместно применять (с прилагательными «визуальный» или «изобразительный») только в 1960-х гг. Ещё позже стали говорить о своеобразии «деревенской моды». Отдавая дань распространённому мнению об упадке качества народного искусства под воздействием роста фабричных городов, Маковский подчёркивает способность коллективного творчества регенерировать, в корне меняя ассортимент и стилистику под влиянием талантливых мастеров, иллюстрируя это новациями Юрия Шкрибляка и его сыновей: «Всякое произведение деревни, можно сказать, делается постоянно, переиначивается на тысячу ладов, умножаясь в веках, всегда прежнее и всегда другое, с каким-нибудь добавлением, которое может привиться и даже вызвать своеобразный уклон стиля» [15: 19]. Интересно, что подобные рассуждения исследователи затем повторяли на разные лады без существенных изменений. Для Маковского продукты народного творчества вовсе не анонимны. Напротив, он внимателен к исполнителям конкретных вещей и называет их поимённо, пытаясь выявить отличительные черты, инструменты и материалы, ими используемые, любимые типы изделий и декоративные средства. Приводит имена когорты закарпатских гончаров; вспоминает имена своих информаторов Анну Коропчук и Настуню Агопщук, в жилищах которых он обнаружил особенно интересные произведения. Как и в петербургский период, учёного занимает проблема национальной специфики искусства, мало зависящая от этнической принадлежности художника: немецкой Рериха, французов Бенуа или Лансере, польской Врубеля, Семирадского (как и династии Маковских), еврейской - Антокольского, Левитана или Бакста. Поэтому несколько неожиданной оказывается неодобрительная интонация, едва речь идёт о «мадьяризации», «полонизации», «румынизации» народных ремёсел карпатских русинов начала ХХ в., т. е. о наличии в них черт, характерных для традиции этих этносов. Автор мог и не знать, что население Берегсаса (Берегово) или Севлюша (Виноградова) не мадьяризованное, а преимущественно мадьярское. Народоведение того времени не успело осознать, что нет мотивов орнамента или стилистических решений, принадлежащих исключительно тому или иному этносу. Иное дело, что народному искусству русинов-украинцев (их Маковский по традиции называет русскими) действительно больше свойственны, по сравнению с соседями, черты архаики. Здесь сосуществуют два «стиля» орнаментики - геометрический, унасле- Антроплогия 243 дованный от неолита, и растительный - реминисценции расцвета местного барокко в XVII-XVIII вв. Подчёркивая некоторые параллели карпатского искусства с великорусским, автор не делает акцентов на таких различиях, как ориентация последнего на образцы быта верхних стратов и на произведения, импортируемые из Европы через Архангельск. Ныне сходство орнаментики молдаван и румын, болгар и гагаузов, крымских татар и приазовских греков, обусловленное их давнишней принадлежностью к культурному пространству Оттоманской империи, очевидно. Замена и роль римско-католической церкви в формировании бытовой среды поляков. Известно, что, кроме особенностей, присущих Центральной Европе, народное творчество венгров примечательно декоративной пышностью пастушеской культуры, несколько плакатной многокрасочностью в одежде и т. п. Кстати, тогдашнюю «скоропись» толстостенной гончарной посуды Маковский характе-ризирует скорее положительно, как отклик на меняющиеся условия жизни обнищавшего крестьянства. Бросается в глаза беглость рассказов о церковном искусстве. Правда, Маковский восторженно характеризует резные ручные кресты, типичные для Карпат, но сдержаннее - резные барочные царские врата (одни из них он собственноручно привёз для выставки). Любые воздействия исторических стилей (готики или барокко) на церковную архитектуру заметно снижают интерес исследователя к этим объектам, поскольку, по его мнению, чем больше их влияние, тем меньше родство таких произведений с местной культурной средой. Хотя стоит напомнить, что позднейшие исследования (Г.Н. Логвин [6], П.И. Макушенко [12], Я.М. Тарас [16]) показали достаточную степень архитектурной и художественной «автохтонности» карпатского деревянного храма и незначительность формолого-исторических реминисценций. Конечно, с точки зрения традиционных европейских стилей отдельные карпатские формы сакральной архитектуры можно рассматривать в одном ряду с готической стилистикой, однако ни в планировке, ни в трактовках дверных и оконных проёмов, ни даже в общих пропорциях масс этих срубных построек система готического стиля не отражена [12: 66]. К тому же аналогичные сооружения Маковский наверняка видел и за пределами Карпат - в равнинных районах Украины, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии. Не могла здесь не повлиять и эллинская учёность бывшего гимназиста, поскольку по-гречески народное искусство - Ла'і'кп? Техѵп?, т. е. искусство мирское, нецерковное, поскольку народ как нация по-гречески ЕѲѵод. Вместе с тем автор признаёт неповторимый региональный характер деревянных храмов Бойковщины, Гуцульщины, Лемковщины. 244 рая Ml vf < ci ii I 2021. № 66 В 1920-е гг. они ещё сохранились достаточно хорошо и в большом числе, чтобы воспринимать их как раритет, а подготовка и издание сводных материалов о деревянной архитектуре Карпат, подобных трудам М. Драгана или В. Сичинского, были впереди. Таким образом, следует сделать вывод, что художественные описания-экфрасисы анализируемых Маковским произведений представляют собой редкие образцы конгениального по силе художественной выразительности словесного толкования, к тому же убедительно сочетаются с научным проникновением в сущность осмотренных явлений. По литературному мастерству к ним приблизятся в последующие десятилетия разве что тексты таких исследователей украинского народного искусства, как В.М. Василенко, Д.Н. Гоберман, а в недавние годы - А.С. Данченко. Книга С.К. Маковского выдержала испытание временем и совершенно не устарела. Напротив, она приобрела значение своеобразного эталона качества проведения исследований, оставшись образцом сохранённых артефактов. Поэтому следует поблагодарить харьковского издателя А.О. Савчука [13] за недавнее переиздание этого непреходящего труда на высоком уровне книжной культуры, эстетически не уступающее первоисточнику.
Голлербах Е.А. Немецкий след в русском пантеоне: Петербургское издательство «Пантеон» (1907-1912) как агент немецкой культуры // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Т. 11, вып. 3. С. 177-186.
Династия Маковских (продолжение). URL: https://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/3604553 (дата обращения: 17.01.2021).
Династия Маковских. URL: https://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/3468873/ (дата обращения: 17.01.2021).
Лебедева Т.В. «Страницы художественной критики» - итог раннего творчества С.К. Маковского // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2006. № 2. С. 192-198.
Лебедева Т.В. Сергей Маковский: Страницы жизни и творчества. Воронеж: Воронежский ун-т, 2004. 484 c.
Логвин Г.Н. Украинские Карпаты. М.: Искусство, 1973. 192 с.
Маковский С. И аз воздам: Роман. Отрывки // Литературная газета. 1990. 26 сент.
Маковский С. На Парнасе «Серебряного века»: статьи. Мюнхен: Изд. Центр. объединения полит. эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1962. 364, [8] с., 13 лл. ил.
Маковский С. Памяти современников: Статьи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 413 с.
Маковский С. Силуэты русских художников. Прага: Наша речь, 1922. 160 с.
Маковский С.К. Страницы художественной критики: в 3 кн. 2-е изд. СПб.: Пантеон; Аполлон, 1909-1913. Кн. 1-3.
Макушенко П.И. Народное деревянное зодчество Закарпатья (XVIII - начала XX века). М.: Стройиздат, 1976. 98 с.: 75 с. ил.
Народне мистецтво Карпат / Альбом ілюстр.: С.К. Маковський; передм. М.Р. Селівачова; упоряд. О.О. Савчук. Харків: Вид. Олександр Савчук, 2019. 128 с.: 110 табл. іл.
Народное искусство Галиции и Буковины и Земский союз в 1916-1917 гг. войны = Народне мистецтво Галичини й Буковини / Ком. Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза (Отд. помощи населению, пострадавшему от войны). Киев: Тип. Худ.-ремесл. школы-мастерской печатного дела, 1919. 64, [3] с., [8] л. ил.: ил.
Народное искусство Подкарпатской Руси / Пояснит. текст С.К. Маковского. Прага: Пламя, 1925. 162 с.: ил.
Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура: Словник-довідник. Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 2006. 584 с.: іл.
Щербаківський Д.М. Українське мистецтво: Т. 2: Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці. Київ; Прага: Укр. гром. вид. фонд, 1926. XXXIV c.: іл.
Katalog výstavy: «Umění a život Podkarpatské Rusi», pořádané pod záštitou guvernéra Podkarpatské Rusi dra Antonína Beskida školským odborem civilní správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě 1924, 20. Březen - 1. květen / uspořádal a redigoval Sergej Makovskij. Praha: Umělecko-průmyslové museum obchodní: Živnostenská komora, 1924. 159 s.
Lidové Umĕni Podkarpatské Rusi / Objasňuje S. K. Makovský; Přeložil Ant. Poláček. Praha: Plamja, 1925. 56 s. [100] s. obr. příl., il.
Peasant Art of Subcarpathian Russia / Explanatory text by S. Makovskij. Preface by J. Gordon. Transl. by L. Hyde. Prague: Plamja edition, 1926. 154 p.: il.
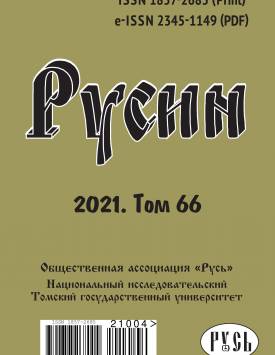

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью