Рассматривается генеалогия шляхтичей русинского происхождения в Галицкой земле Русского воеводства Польского королевства в XV в. Анализируются специфика и изъяны источников по этой теме. Отмечается высокий удельный вес мелких землевладельцев русинского происхождения как важная особенность галицкой шляхты. Это объясняет, почему после введения в Червонной Руси польского права (и шляхетского самоуправления) галицкими судьей и подсудком долгие годы были шляхтичи русинского происхождения Игнат Кутицкий (1438-1471) и Сцибор Васичинский (1435-1459). Изучена история этих двух родов в XV в.: родственные связи, земельные владения, отношения с соседями. Их члены до 1435 г. перешли из православия в католичество, однако не успели полонизироваться во второй половине XV в. На примере истории подтверждения королем в 1550-1558 гг. фальсификата грамоты галицко-волынского князя Льва предку Васичинских показано, что ополяченные потомки галицких бояр даже в середине XVI в. помнили о своих русинских корнях.
The Kutitskies and Vasichinskies in Galicia in the 15th century: on studying noble families of Rusinian origin.pdf В 2001 г. увидела свет наша книга о генеалогии перемышльской шляхты второй половины XIV - начала XVI в. [5]. За 20 лет, прошедших после выхода книги, украинские и польские историки достигли определённых успехов в изучении перемышльской и саноцкой шляхты XIV-XVI вв., т. е. шляхетства западных регионов Червонной Руси, но ничего не сделали в рамках историко-генеалогического исследования шляхты Восточной Галичины - территории, которая после распространения в 1435 г. на Червонную Русь норм польского права составила Галицкую землю Русского воеводства1. Нашим первым шагом в деле изучения галицких шляхетских родов русинского происхождения XIV-XV вв. стала статья «Крупнейшие галицкие бояре XIV века и их потомки», которая должна быть опубликована в «Вестнике» одного из поволжских университетов. 68 g J Ml ci ii I 2022. № 67 Уже в процессе подготовки упомянутой статьи стали понятны специфика источников по генеалогии галицкой шляхты и причины, по которым историки избегали заниматься изучением шляхетства данного региона: на сегодняшний день последней книгой по генеалогии галицкой шляхты XV в. является опубликованное во Львове ещё в 1928 г. «Зеркало шляхетское» П. Домбковского объёмом 216 небольших страниц (включая 27 страниц генеалогических таблиц) [15]. Во-первых, бросается в глаза крайняя скудость источников «врёмен русского права» (до 1435 г.). Особенно это касается второй половины XIV в. Во-вторых, оставляет желать лучшего качество галицких судебных книг XV в. До нас дошли только фрагменты протоколов заседаний гродского суда за 1435, 1438-1440, 1456-1459, 14621464 и 1476-1489 гг. Правда, практически полностью сохранились протоколы земских судов за 1435-1497 гг. [9; 12: 164-323]. Затем начинаются трагические для всей Червонной Руси 1498-1501 гг. -период опустошительных турецких и татарских набегов, который во множестве червонорусских судебных записок получил название «tempus devastacionis Turcorum». Отразивший состояние лишь в части сел Галицкой земли налоговый реестр 1515 г. пестрит сообщениями о ланах «deserti» и сёлах, которые «funditus per Tartaros vastita» [18: 169-173]. На рубеже XV-XVI вв. демографическая ситуация в Галицкой земле претерпела кардинальные изменения, а практика ведения земских судебных книг прервалась на долгие годы. Однако главная проблема в случае с галицкой шляхтой заключается в другом. Саноцкие и перемышльские книги рисуют шляхетское общество, которое вольно или невольно стремится к тому, что принято называть жизнью в соответствии с нормами правового государства. Хорошо знакомые автору этих строк протоколы перемышльских земских судов фиксируют практически все изменения семейного и имущественного положения местных шляхтичей: семейные разделы, купли-продажи и залоги недвижимости, брачные контракты, договоры займа денег, завещания и т. д. Иная картина наблюдается в галицких земских книгах. Простые подсчёты показывают, что за 40 лет (1435-1475) в Галиче было проведено только 263 заседания земского суда - по одному заседанию в 2 месяца. На практике судебные заседания обычно проводились раз в месяц, однако в судебных книгах нередко отсутствует информация о двух-трёх заседаниях подряд. Предполагаем, что виной тому была не утрата судебных протоколов в позднейшее время, а изначальная небрежность писарей при их оформлении. В этих условиях понятно, История 69 почему многие важные стороны жизни галицких шляхтичей не попали на страницы земских книг. Ещё один досадный недостаток источников по истории галицкой шляхты - это отсутствие или плохое качество налоговой документации начала XVI в. В случае с Перемышльской и Саноцкой землями историки располагают удачно дополняющими друг друга налоговыми реестрами 1508 и 1515 гг. Первый сообщает имена налогоплательщиков, перечисляет принадлежавшие им села, солтыства или войтовства и указывает сумму собранных с них налогов. Реестр 1515 г. можно назвать своеобразным ключом к расшифровке данных 1508 г. Он содержит список практически всех сел с перечнем имеющихся в каждом селе единиц налогообложения: земельных ланов (12 грошей с лана), мельницы (6-12 грошей), корчмы (6-12 грошей), православного священника (15 грошей). Информация реестров позволяет оценить реальную стоимость и размеры шляхетских земельных владений и подвести итоги полуторавековой истории становления и развития двуязычной перемышльской и саноцкой шляхты. С Галицкой землей связан только охвативший 143 села (далеко не все) налоговый реестр 1515 г. Все упомянутые изъяны источников не мешают сделать несколько предварительных выводов относительно галицкой шляхты XV в. Прежде всего, заметно безраздельное экономическое и политическое доминирование Бучацких, Колов и Влодковичей. Только представители этих трех родов на протяжении практически всего XV в. (с 1435 г.) занимают важнейшие галицкие земские уряды каште-ляна и подкомория [17: 42-42, 55]. Исключения в виде двух выходцев из Перемышльской земли - подкомория Андрея Чурило (1435-1453) и каштеляна Андрея Фредро (1464-1471) - только подтверждают это правило: оба шляхтича породнились с указанными родами, что, собственно, и позволило им занять высокие должности. Ещё одна особенность Галицкой земли - высокий удельный вес шляхтичей русинского происхождения, причём среди них преобладают мелкие землевладельцы, распоряжающиеся одним-двумя небольшими сёлами. Нет ничего удивительного в том, что буквально вторая запись в галицкой гродской книге, сделанная, по-видимому, в ноябре 1435 г. - адресованное местным шляхти-чам-«землянам» постановление старосты Михаила Бучацкого и судьи Яна Колы о поимке беглых «злодеев» и суде над ними - составлена на староукраинском языке и без латинского перевода [9: 425-426]. Специфика национального состава галицкой шляхты не могла не повлиять на выбор руководителей местного земского суда. 70 g J Ml ci ii I 2022. № 67 Первым галицким подсудком на долгие 24 года стал шляхтич русинского происхождения Сцибор Васичинский, или с Васичина (1435-1459) [17: 58]. Не сразу определилась только кандидатура многолетнего земского судьи. После распространения на Червонную Русь польс-кого права первыми земскими судьями стали поляки - уроженцы Галицкой земли: Ян Кола (1435-1437) и Яков Гиза (1437-1438). Однако после того, как первый предпочел уряду судьи более престижную и менее хлопотную должность каштеляна, а второй просто умер, земским судьей на целых 33 года, до самой смерти в 1471 г., становится шляхтич русинского происхождения Игнат Кутицкий, или с Кутищ [17: 62]. Как сложились судьбы пана судьи и его потомков? Игнат с Кутищ достиг совершеннолетия ранее 1419 г. Его упоминает составленная 1 января 1419 г. разъезжая грамота на староукраинском языке о границах «межи Кутищи и межи Полагичи» некоего Кунцеря (Милованского?) [6: 90-91]. Около 1429 г. он женился на дочери видного шляхтича русинского происхождения, будущего первого перемышльского земского подсудка Волчка Боратынского Анне, получив в качестве приданого доставшиеся невесте от матери перемышльские села Хожов и Туличов. Анна, по-видимому, была единоутробной сестрой Петра, Александра и Яна (Яцка) Прохницких-Розбожских - представителей ещё одного крупного перемышльского рода русинского происхождения. Владельческие права на упомянутые сёла стали предметом длительного судебного разбирательства, закончившегося в октябре 1437 г. тем, что трое братьев Прохницких выкупили фактически удерживаемые ими Хожов и Туличов у Игната и Анны за 250 гривен. Реальная стоимость названных сел была гораздо выше, поскольку в мае 1438 г. Ян продал Хожов старшему брату Петру за 300 гривен [5: 21, 25; 10: 49, 64, 72]. В октябре 1438 г. Игнат с Кутищ и Прокоп из Стрелищ оказались единственными галицкими шляхтичами среди десятков участников львовского съезда червонорусской шляхты, назначившего опекунов Русского воеводства при малолетнем короле Владиславе III Вар-ненчике [14: 369-370]. 24 ноября того же года Игнат примерно в 40-летнем возрасте впервые в качестве судьи руководит работой галицкого земского суда [9: 46]. На страницах земских книг Игнат выступает не только как судья, но и как обеспеченный человек, нередко ссужающий деньгами земляков. Только в 1430-1450-е гг. его должниками были Прокоп из Стрелищ, Франциск Милованский, Урбан Буковенский, вдова каштеляна Яна Колы, Михаил Мужило Бучацкий. Размеры займов колебались от 40 до 250 гривен [9: 49, 55, 69, 72, 117, 221, 232, 252, 263]. История 71 Игнату время от времени приходилось и конфликтовать с соседями. Петр Буковенский в 1449 г. обвинял его в убийстве своего кузена Яна Вилчицкого, в 1452 г. уже Игнат обвинял Яна Колу (сына каштеляна Яна Колы) в нанесении ран членам его семьи при набеге целого отряда из 40 слуг и клиентов Колы [9: 192, 216, 219, 344]. Кола, кажется, претендовал на село Загорье, заложенное Игнату сначала младшим братом, а потом - мачехой Колы. Пан судья, в свою очередь, был обвинен в декабре 1470 г. Петром Мокрошоцким в убийстве отца и брата последнего [9: 342]. Владения Игната раскинулись на 12-15 км вдоль правого берега Днестра, на территории бывшего Тлумачского района, который после административной реформы 2020 г. вошел в состав укрупненного Ивано-Франковского района. В первую очередь, это дедичные села Кутищи (ныне - Кутище), Братышев, Нижнев, Окняны, Доброгост. На левом берегу Днестра, напротив Кутищ, находилось купленное Игнатом в 1437 г. село Остра (ныне - Вистря Монастырисского района Тернопольской области) [9: 17-18, 24]. Согласно люстрации заложенных королевских имений 1469 г., «судья галицкий» представил «грамоту вечного пожалования сел Олешов и Перешов, служба одним копьем и двумя лучниками» [18: 41(B)]. Привилей, скорее всего, был выдан от имени короля Варненчика. Перешов больше нигде не упоминается, а село Олешов находилось и до сих пор находится по соседству с Братышевом. Список земельных владений пана Игната на этом не ограничивается. В 10 км от Кутищ, ниже по течению Днестра, находилось село Секирчин (ныне - Сокирчин), которое Кутицкий по неизвестной причине обменял на село Каменки Коломыйского повета, с доплатой прежнему владельцу Каменок 60 гривен [9: 229, 269]. В том же Коло-мыйском повете Игнату принадлежало село Угерники, на котором он в марте 1462 г. записал 100 гривен своему слуге (familiari) шляхтичу Альберту, которому надлежало вплоть до уплаты ему 100 гривен служить Игнату «своими издержками... на коне» [9: 279]. Последний раз как живой Игнат упоминается в судебной записке от 6 мая 1471 г. После этого заседания, на котором было рассмотрено 17 дел разной сложности, в течение всего 1471 г. состоялось только одно заседание, 1 июля, под председательством даже не подсудка, а галицкого мечника Яна Спичника. Запись об этом заседании начинается на той же странице земской книги, где записаны последние дела от 6 мая. Участники этого странного заседания рассмотрели лишь одно дело, точнее, констатировали уступку каменецким (подольским) подстолием Грицко Кирдеевичем нескольких сел в Скальском повете Подолии галицкому подкоморию Яну Коле. Сразу после этого начи- 72 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 нается протокол заседания от 7 января 1472 г., на котором недавний подсудок Миколай Сенявский выступает в качестве судьи, а Ян Спичник оказался новым подсудком [9: 344-345]. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Игнат с Кутищ умер в период с 7 мая 1471 г. по 6 января 1472 г. 70-летним стариком - редкий случай в истории червонорусской шляхты XV в. Состояние судебных записок не позволяет сузить временные рамки. Игнат имел двух дочерей и сына Феликса. Дочери, соответственно, со 100 и 150 гривнами приданого вышли за галицких шляхтичей, можно сказать, соседей: Настасья - за Завишу с Гнильче (1453 г.) и Милохна - за Федька Подвербецкого (1461 г.) [9: 227, 275]. Сын и наследник пана судьи, «Федько, иначе Феликс», или просто - Феликс, в ноябре 1466 г. женился на Анне - дочери галицкого каштеляна, а в 1472-1477 гг. - подольского воеводы Андрея Фредро, правнука крупнейшего перемышльского и червонорусского боярина второй половины XIV в. Ходька Быбельского [5: 10, 113]. Приданое за завидной невестой составило внушительные 500 гривен. Феликс, в свою очередь, с согласия отца записал 1000 гривен вена на четырёх сёлах и половине принадлежащего семье скота [9: 315]. Не ставший долгожителем Феликс фигурирует только в трёх записках 1472 и 1474 гг. [9: 405, 411, 412]. В мае 1478 г. овдовевшая Анна упоминается как держательница села Нижнев и жена подольского шляхтича Павла Мареца Чемежовс-кого. Супруги судились с соседом Павлом с Петрилова [12: 291]. В январе 1479 г. тот же шляхтич - в записке он назван Марецем с Нижнева - явно ввиду несовершеннолетия пасынка Яна, выступает ответчиком в начатой в 1470 г. при Игнате и продолженной в 1474 г. при Феликсе тяжбе с Петром Мокрошоцким об уплате 60 гривен головничества за убийство судьей отца и брата Петра [12: 234]. Единственный сын Феликса и Анны, Ян с Кутищ, или Ян с Нижнева (Нижневский), упоминается только в пяти земских записках 14861488 гг., которые освещают многолетнюю тяжбу между Кутицкими и Милованскими по поводу принадлежности уже известного нам села Олешов. Суть претензий к Яну с Кутищ со стороны истца, галицкого хорунжего Яна Милованского, можно свести к следующему. Ещё в правление Владислава III Варненчика, т. е. на рубеже 1430-1440-х гг., дед ответчика Игнат получил от короля запись «определенной суммы» на Олешове. Между тем это село было основано «из сырого корня» (de cruda radice), т. е. на пустом месте, умершим к 1485 г. Урбаном - родным братом Франциска, отца истца, на что у последнего есть убедительные локационные документы, поскольку в результате семейных обменов село Олешов досталось сначала Фран- История 73 циску, а после его смерти - Яну Милованскому, истцу в тяжбе 14861488 гг. Этой тяжбе предшествовало составленное во Львове 3 августа 1485 г. постановление королевского суда, которое предписывало решить затянувшийся спор и изложило его историю в благоприятном для Милованских свете [І2: 243-244]. Занимавший должность земского судьи Игнат с Кутищ, по-видимому, немало поспособствовал тому, чтобы этот спор в течение четырёх десятилетий ни разу не обсуждался в стенах галицкого суда. Дело далеко не сразу сдвинулось с мёртвой точки и при внуке пана судьи. Едва начавшись в январе 1486 г., тяжба по неизвестной причине была отложена ровно на год. Из протокола судебного заседания от 8 января 1487 г. можно узнать, что в своё время Ян Милованский (хорунжий, не последний человек в Галицкой земле!) пытался вызвать в суд отца ответчика, Феликса с Кутищ, однако все его попытки оказались тщетными. В январе 1487 г. участники суда не пришли к какому-либо решению и передали дело на рассмотрение русского воеводы. 23 апреля 1487 г. судебные заседатели констатировали, что воевода продолжает свои раздумья [12: 250-251, 257]. Только 7 января 1488 г. стало ясно, что «Ян с Нижнева» должен до Рождества (впереди 11 месяцев!) заплатить Яну Милованскому 100 гривен компенсации на Олешов, иначе ему грозит двойной штраф [12: 212]. Заплатил ли внук судьи требуемую сумму - мы не знаем: 7 января 1488 г. датируется последнее упоминание его и вообще кого-либо из Кутицких в источниках. Зато среди участников заседания галицкого земского суда от 7 октября 1493 г. встречаем «Павла Мареца с Нижнева» [12: 228]. В налоговом реестре Галицкой земли 1515 г. можно найти (без указания владельцев) только село Остра, а в реестре 1578 г. совладельцами всех принадлежавших в XV в. Кутицким сел обычно в равных долях указаны шляхтичи Блудницкий, Скотницкий и Шапоровский. В случае с Нижневом, Острой и Окнянами к ним добавляются Остафий и «вдова» Копычинские [18: 86, 171]. Скорее всего, Ян с Кутищ не пережил или даже не дожил до бурных событий 1498-1501 гг., и с его смертью род извёлся. В реестре 1578 г. речь идёт о наследниках (а не покупателях) внушительных владений Кутицких2. Как уже указывалось выше, верным соратником и помощником судьи Кутицкого на протяжении 21 года был земский подсудок Сци-бор Васичинский (1435-1459) [17: 58]. Своё фамильное прозвание пан Сцибор получил по дедичному селу Васичин3, расположенному в густонасёленной местности на обоих берегах реки Свирж (левого притока Днестра), на границе Галицкого повета и Жидачовского повета Львовской земли, примерно в 40 км от Галича. 74 g J Ml ci ii I 2022. № 67 На севере васичинские угодья граничили с большим селом Кне-гиничи (ныне - Княгиничи) - одним из многочисленных владений могущественного Яна Влодковича - сначала львовского подстолего (1435-1439), а затем - галицкого каштеляна (1439-1461) [17: 42, 139]. Мы не исключаем, что пан Влодкович оказал содействие Сцибору в занятии влиятельной должности: на протяжении четверти века соседи ни разу не ссорились, а напротив, довольно активно сотрудничали на взаимовыгодной основе. По договору 1447 г. получивший Кнегиничи по недавнему семейному разделу младший брат каштеляна, Миколай (Влодкович) с Кнегиничей, разрешил Сцибору устроить пруд между Кнегиничами и Васичином. Взамен ему был обещан платёж 30 коп грошей в течение трёх лет и ещё 30 коп - в последующие три года [9: 160]. На юге Васичин граничил с обширными владениями жидачовского рода Даниловичей - потомков щедро пожалованного в 1394 г. королём Владиславом-Ягайло шляхтича русинского происхождения Данила Дажбоговича Задеревецкого [5: 53-54]. С ними у Васичинских также не было никаких конфликтов. Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, граничный спор у Васичинских был всего один раз - с западным соседом, жидачовским шляхтичем русинского происхождения Васько Мо-шенчичем, причём в далеком 1401 г. Этот Васько «позвал» Кондрата (Кундрата) Борснича - вероятно, отца или деда нашего Сцибора4 - «о границю о Васичиньскоую». Вскоре галицкий и снятынский староста Петраш (Петр Влодкович) «выехалъ на тоу границю, тогда Коундратъ оуказалъ свою границю и листомъ и знамены, што на лесте стоять, а Васко Мошенчичь на тои рокъ не сталъ». Затем староста со свидетелями «оправили есмы Кундрата оу тои граници, поколя ему кнезъ Левъ оуехалъ, и мы емоу толя оуехали по та знамена» [6: 65-66]. Не касаясь требующего специального рассмотрения вопроса об аутентичности грамоты князя Льва, которую, возможно, предъявил Кондрат Борснич, заметим, что в 1401 г. предметом спора была только западная граница Васичина. В качестве земского подсудка Сцибор Васичинский упоминается буквально в первых строчках галицкой земской книги среди участников первого заседания земского суда, состоявшегося 12 сентября 1435 г. [9: 1], и в дальнейшем на протяжении 24 лет регулярно участвует в судебных заседаниях. В отличие от Кутицкого, Сцибор редко выступал кредитором. Он не отличался буйным нравом и склонностью к сутяжничеству. За свою долгую жизнь он участвовал только в двух затяжных судебных тяжбах, причём в обоих случаях ответчиками оказывались его жены, а История 75 Сцибор лишь представлял их интересы. Первая тяжба продолжалась в галицком земском суде 14 месяцев, в 1439-1440 гг., истцом выступал львовский шляхтич Ян Шадурка с Урбановичей, а ответчицей - первая жена подсудка Гахна. Тяжба обсуждалась как минимум на семи заседаниях и касалась оплаты за использование рыбного пруда [9: 62, 65, 70, 73, 79, 80, 82]. Вторая тяжба велась в стенах львовского гродского суда в 14421446 гг.; ответчиком в ней оказалась вторая жена подсудка Варвара, сестра львовского шляхтича русинского происхождения Петра Романовского. Для Варвары это был третий брак. Её первый муж Андрей Черткович сделал ей дарственную запись на своё село Конюхи. После смерти мужа она несколько лет распоряжалась этим селом, однако в 1442 г. на него появились два новых претендента: выступающий в качестве львовского землевладельца подольский воевода Грицко Кирдеевич и племянник покойного Андрея Яков с Гневшины, который утверждал, что «названное село есть моё дедичство после отца моего издавна, от дедов и прадедов, и пан король никогда не был владельцем этого села». Интересы Варвары обычно представлял её брат Пётр Романовский, однако за четыре года несколько раз приезжал во Львов и её муж Сцибор, а однажды - даже пасынок Прокоп (Проц) [11: 66, 68, 71, 87, 90, 93, 95, 162]. В декабре 1446 г. спор выносился на рассмотрение червонорусского шляхетского веча, которое так и не решилось вынести окончательный приговор [12: 486]. Единственным земельным приобретением Сцибора стала покупка в марте 1441 г. за 300 коп (375 гривен) у русского воеводы Петра Одровонжа граничившего с Васичином на западе, на правом берегу Свиржа, села Воскресенцы (Woszkrzeyncze) - кажется, это бывшее владение Васька Мошенчича. Купля выглядит подозрительной, если знать, что 9 июля 1440 г., т. е. 8 месяцев назад, село было куплено воеводой у львовского шляхтича русинского происхождения Дмитра Лагодовского всего за 200 гривен [9: 88, 98]. Последний раз как живой Сцибор упоминается 8 октября 1459 г. Судя по активности его сына Проца, он умер в конце 1459 или в 1460 г. [9: 263-265, 442]. Сцибор был женат дважды. На второй, Варваре, он женился не позднее мая 1442 г. [9: 102], однако его единственный сын Проц родился в браке с первой женой Гахной и был совершеннолетним уже в марте 1443 г. [11: 87]. В июне 1461 г. Проц договорился с мачехой, что в течение четырех лет он заплатит ей 200 коп вена, записанных на Васичине [9: 274]. Ради этого ему пришлось залезть в долги, которые выплачивались ещё в 1465 г. [9: 282, 287, 292, 300, 302]. Не позднее апреля 1466 г. Проц женился на Маргарите - дочери 76 g J Ml ci ii I 2022. № 67 галицкого шляхтича Мацея с Ненчина, записав ей 300 коп вена на Васичине, мельнице, нижнем пруде и Воскресенцах [9: 310, 332]. Он был жив ещё в сентябре 1468 г., а 8 апреля 1469 г. львовские судья и подсудок по жалобе королевского уполномоченного Миколая Гжималы лишили не названных по имени малолетних сыновей покойного Проца права собирать мыто с проезжавших через город5 Васичин купцов [7: 117-118]. Тем же днём датируется ещё восемь грамот об отмене уплаты мыта в различных львовских и галицких частновладельческих городах и сёлах, так что речь идет о массовой кампании [7: 118-130]. Сироты, как и другие лишившиеся дополнительных доходов шляхтичи, не смогли представить документы, подтверждающие их право на сбор мыта. Кстати, опекуном Васичинских в 1469 г. выступил их южный сосед Ивашко Чагровский - внук Данила Дажбоговича Задеревецкого. Судебная записка от 29 июля 1473 г. впервые называет Маргариту опекуном своих (и покойного Проца) несовершеннолетних сыновей Андрея и Якова [9: 353]. Не позднее июня 1475 г. - в связи с замужеством Маргариты за сыном Ивашка Чагровского Бартоломеем - опекуном Андрея и Якова Васичинских становится правнук Задеревецкого Миколай Данилович [9: 367, 371, 417]. В декабре 1476 г. в качестве опекуна выступает некий Дмитр - возможно, младший брат Миколая Даниловича. Он требовал от Маргариты - супруги своего дальнего родственника Чагровского - представить в суд грамоту с венной записью [12: 231]. Следующее - последнее в XV в. - упоминание о Васичинских датируется 10 октября 1496 г. Из него следует, что галицкий земский подсудок Андрей с Черниева второй раз безуспешно вызывает в суд Якова Васичинского из-за украденного «сивого» коня стоимостью 30 злотых, а также его сбежавшей в Васичин служанки [12: 271]. Васичинские, в отличие от Кутицких, были довольно известны в Червонной Руси и в XVI, и в XVII вв. [8: 154, 157, 163, 167, 200, 205]. Автор знаменитой книги «Гербы рыцарства польского» (1584 г.) Б. Папроцкий в главе о специальном гербе червонорусской шляхты русинского происхождения Корчак называет «дом» Васичинских «старинным и значительным» и особо выделяет своего современника -львовского войского Каспера Васичинского [16: 690]. В рамках нашей статьи могут представлять интерес связанные с получением королевских привилеев четыре эпизода из жизни отца пана Каспера -Христофора Васичинского. В 1550 г. пан Христофор обратился к королю Сигизмунду II Августу с просьбой подтвердить «написанную по-русски грамоту» о пожаловании села Васичин Осташко Гласкову, «предшественнику» Хрис- История 77 тофора, «с подписью и печатью светлейшего принцепса, господаря Льва, некогда князя Руси». В изданном в Кракове 26 декабря 1550 г. королевском привилее видим текст львовой грамоты на староукраинском языке в латинской транскрипции, а затем - итоговую резолюцию: «апробируем, ратифицируем и подтверждаем» [2: 869-870]. Христофор Васичинский через несколько лет обратился к тому же королю по поводу мыта, некогда установленного в его дедичном городе Васичин «славным Львом, князем Руси». Сигизмунд II выдал 11 ноября 1557 г. грамоту, в которой подробно рассказывается о затруднениях Христофора и королевских мерах по их преодолению. Согласно привилею, через Васичин с давних пор проходил торговый путь из Валахии во Львов и обратно. Проезжавшие через город купцы платили пошлины, однако собранных с них денег катастрофически не хватало на ремонт мостов и насыпей в районе реки Свирж. Прислушавшись к мнению уважаемых людей, король разрешил заметно увеличить пошлины с каждого проезжавшего воза и каждой головы скота в пользу Христофора Васичинского и его наследников «на вечные времена», выразив уверенность, что собранные деньги пойдут на благое дело [2: 884-887]. Христофор Васичинский на этом не успокоился, и 22 декабря 1558 г., т. е. 13 месяцев спустя, Сигизмунд II по его просьбе издаёт уже третий привилей. В нем говорится, что Христофор представил пожалование «славного господаря Льва, некогда князя Руси», его предшественнику на село Васичин и просит короля, «наперекор каким-либо просьбам», подтвердить княжескую грамоту своим королевским авторитетом на проходящем в ту пору Петрковском сейме. Далее в документе повторяется текст подтверждения от 26 декабря 1550 г., включающего в себя текст грамоты князя Льва. Все завершается стандартными словами: «апробируем и подтверждаем» [2: 889]. Все три привилея Сигизмунда II со ссылками на князя Льва дошли до нас в списках, в составе двух книг Коронной метрики. Они были обнаружены львовским историком и археографом О.А. Купчинским в Главном архиве древних актов в Варшаве и опубликованы только в 2004 г. Нас, в первую очередь, интересует сохранившаяся в списках 1550-х гг. грамота князя Льва Осташко Гласкову на село Васичин. О.А. Купчинский называет пять причин, по которым грамоту нельзя считать аутентичным документом рубежа XIII-XIV вв., и связывает её создание с XV-XVI вв. [2: 488-489]. В своём фундаментальном труде о галицко-волынских актах XIII - первой половины XIV в. учёный сделал немало важных наблюдений. К примеру, он установил, что большинство из 26 копий грамот князя Льва связано с Перемышльс-кой землёй. Два документа связаны с Львовом и два - с Галицкой 78 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 землёй [2: 412]: это грамота на Васичин и грамота Успенскому собору в Крылосе - селе на месте обезлюдевшего после Батыева нашествия стольного Галича. Грамота собору в Крылосе дошла до нас в 39 списках, самый ранний из них датируется 1581 г. [2: 627-667]. Она имеет генетическую связь с частью аналогичных княжеских «пожалований» в пользу перемышльских духовных землевладельцев и восходит к одной из редакций церковного устава князя Владимира. В 1996 г. мы написали работу о дипломатике червонорусских актов XIV-XV вв. и грамот князя Льва [4]. Опираясь на основные итоги этого исследования, попытаемся оценить содержание грамоты на село Васичин, не прибегая к детальному дипломатическому анализу. Прежде всего, следует с уверенностью характеризовать грамоту как уникальную среди привилеев князя Льва. На это указывает, во-первых, единственная в своём роде интитуляция «во имя отца и сына и святого духа»; во-вторых, отсутствующая в других львовых грамотах промульгация (с ошибками: «свичим кождому доброму нашим листом, кто на нь узрит и услышит»). В-третьих, уникальная инскрип-ция («нашому верному слузе Осташкови Гласкови»): прочие львовы пожалования могут быть адресованы «нашему» или «моему» слуге, но без определения «верный». В-четвертых, только в диспозиции грамоты на Васичин имеется клаузула «имает нам служити копием и трими стрильцы». Наконец, это единственная львова грамота без санкции-заклятья [2: 490]. Зато все указанные особенности имеются (или, в случае санкции, отсутствуют) в жалованных грамотах на староукраинском языке короля Владислава-Ягайло. Пожалуй, единственное существенное отличие в формулярах привилея на Васичин и жалованных грамот Владислава-Ягайло - это отсутствие в львовой грамоте корроборации в виде списка свидетелей. На наш взгляд, было бы ошибкой утверждать, что изготовитель привилея на Васичин просто взял какую-то жалованную грамоту на староукраинском языке «времен русского права» и по её образцу создал фальсификат. Привилей имеет уникальную для всех львовых грамот диспозицию: «...дали есмо ему село Васичин на Свержи, на векы вечные и детем его и блискому племеню зо всими ужитки, яко есмо сами уживали, з мытом и с корчмою и з млины». Далее идет подробное описание границ села на левом и правом берегах Свир-жа, после чего следует дополнение: «...и еще придали есмо к тому Васечину два дворища во Лвовской волости. дали есмо Осташкови Гласкови.». Затем почти полностью повторяется приведённая выше цитата с «племенем», только вместо мыта, корчмы и мельниц упоминаются земля и борти [2: 490]. История 79 Нам представляется, что подобная, по сути, двойная диспозиция есть плод довольно грубого соединения позднейшим фальсификатором созданных во второй половине XIV - первой трети XV в. актов двух, а то и трех разновидностей. Кроме жалованной грамоты, в качестве образца могла использоваться какая-то разъезжая грамота (только в них подробно описывались границы владений) и, возможно, купчая: только в червонорусских купчих на староукраинском языке упоминается «племя», под которым - в отличие от грамоты на Васичин - всегда подразумеваются близкие и особенно дальние родственники продавца, теряющие право претендовать на объект купли-продажи [6: 10, 18, 25-26]. Кстати, «корчма, млин, земля» - это практически стандартный порядок перечисления угодий именно в червонорусских купчих. В жалованных грамотах речь всегда идёт о детях и потомках пожалованного. В них нет места «племени» как более широком круге родственников. Думается, ключевым в тексте диспозиции грамоты Осташко Гласко-ву можно считать слово «мыто». Мы помним, что в 1469 г. у малолетних Васичинских не было никаких документов, подтверждающих их право собирать торговые пошлины в своих владениях. В первой половине XVI в. потомки братьев явочным порядком вернули себе это право, а Христофор Васичинский с помощью фальсификата грамоты князя Льва в 1550-1558 гг. добился королевского разрешения на сбор торговых пошлин в свою пользу. Однако, судя по тексту подтверждения 1558 г., находились люди, ставившие под сомнение предоставленную привилегию. Возможно, отвечая недоброжелателям, неутомимый пан Васичинский в четвёртый раз за 10 лет обратился к королю, и 2 октября 1559 г. в Варшаве Сигизмунд II даровал ему очередной привилей. На это раз это было подтверждение выданной в Галиче 18 августа 1351 г. грамоты старосты Русской земли Оты Пилецкого. Формуляр документа на староукраинском языке в латинской транскрипции не вызывает особых вопросов, чего не скажешь о его содержании. Согласно тексту грамоты, пришедшая к старосте «пани ласкавая» Овдотья «воздала» (передала) своей внучке Марусе свою «деднину в Галицкой волости... на веки вечные, зе всем правом, зе всеми ужитки» (угодьями), «з мытом, и з рекою, и з водою, и ставем» и т. д. Из следующего предложения ясно, что передаваемой «дедниной» было село Васичин, впрочем, так и не названное в грамоте селом [1: 340-341]. Очень подозрительно, что обе женщины упоминаются только по имени, без ссылки на мужа или отца и без фамильного прозвания. Странным кажется и отсутствие свидетелей. Все эти отступления от формуляра можно объяснить рассеянностью копииста XVI в. 80 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 Зато появление в диспозиции грамоты «мыта» явно не было ошибкой - Христофор Васичинский сознательно приложил руку к созданию ещё одного фальсификата, призванного обосновать право на сбор торговых пошлин. Так галицкий шляхтич XVI в. решал проблемы, возникшие у его предков в предыдущем столетии. Подведём итоги. Даже те состоятельные галицкие шляхтичи русинского происхождения, которые перешли из православия в католичество, во второй половине XV в. не успели полонизироваться. Именно по этой причине среди них высок процент браков с такими же окатоличенными, но не полонизированными потомками бояр из других червонорусских земель. В течение XVI в. многие потомки галицких бояр вполне полонизировались, однако помнили о своём происхождении и не отказывались от него. Бросаются в глаза и сравнительно скромные размеры земельных владений шляхтичей русинского происхождения, которых можно назвать крупными землевладельцами в XV в. Эти владения явно не вызывают ассоциации с огромными вотчинами галицких бояр XI-XIII вв., про которые так любили писать советские историки, и с латифундиями польских панов XVI-XVII вв. Список сокращений AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardynskiego we Lwowie. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Ныне это территория Ивано-Франковской области (без населенных пунктов на западе Калушского района) и нескольких районов на западе Тернопольской области Украины. 2. Ср.: [13: 286]. 3. Ныне село Васючин Ивано-Франковского (до укрупнения районов в 2020 г. - Рогатинского) района. 4. Киевский историк В.Н. Михайловский ошибочно идентифицирует Кондрата с соседом Игната Кутицкого Кунцерем [3: 540]. Кроме разъезжей грамоты 1419 г., Кунцерь упоминается как свидетель в грамоте 1424 г. галицкого старосты Михаила Бучацкого [6: 90-91, 10б]. 5. Именно в этом документе Васичин впервые характеризуется как город (oppidum), а не село.
Źródła dziejowe. Warszawa: Warszawska Drukarnia Estetyczna, 1902. T. 18. Cz. 1/ Ziemie ruskie. Ruś Czerwona / Opis. przez A. Jabłonowskiego. 252, XVIII, 72, 66 (B).
Przyboś K. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spicy. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. 415 s.
Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego, zebrane i wydane r. p. 1584 / Wyd. K.J. Turowskiego. Kraków: Nakładem wydawnictwa biblioteki Polskiej, 1858. 964, CLXII, 11 s.
Dąbkowski P. Zwierciadło szlacheckie. Lwów: Wszhod. Wydawnictwo do dziejow i kultury ziem wszhodnich Rzeczypospolitej Polskiej, 1928. IV, 216 s.
[Boniecki A.] Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. S. l., s. a. T. 13. 400, IV s.
Codex epistolaris saeculi XV / Collectus opera A. Lewicki. Cracoviae: Typis Universitatis Iagellonicae, 1891. T. 2. LXXVII, 531 p.
AGZ. We Lwowie: Z drukarni E. Winiarza we Lwowie, 1906. T. 19 / Wyd. A. Prochaska. XXXIV, 855 s.
AGZ. We Lwowie: Z I. Związkowej drukarni, 1889. T. 14 / Wyd. O. Pietruski, X. Liske. XVII, 635 s.
AGZ. We Lwowie: Z I. Związkowej drukarni, 1888. T. 13 / Wyd. O. Pietruski, X. Liske. XIV, 730 s.
AGZ. We Lwowie: Z I. Związkowej drukarni, 1884. T. 10 / Wyd. O. Pietruski, X. Liske. VI, 542 s.
AGZ. We Lwowie: Z I. Związkowej drukarni, 1887. T. 12 / Wyd. O. Pietruski, X. Liske. XIV, 551 s.
Южнорусские грамоты / собр. В. Розовым. Киев: Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1917. Т. 1. 176, 75, IX с.
AGZ. We Lwowie: Z drukarni narodowej W. Manieckiego, 1876. T. 6 / Wyd. O. Pietruski, X. Liske. VI, 302 s.
Пашин С.С. Перемышльская шляхта второй половины XIV - начала XVI века: Историко-генеалогическое исследование. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. 172 с.
Пашин С.С. Червонорусские акты XIV-XV вв. и грамоты князя Льва Даниловича: учеб. пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1996. 118 с.
Михайловський В. Iсторiя одного розмежування бiля Крилоса в 1412 роцi // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя iсторична. 2010. Вип. 45. С. 521-544.
Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2004. 1283 с.
Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV - першої половини XV ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1997. Т. CCXХХІІІ. С. 333-359.
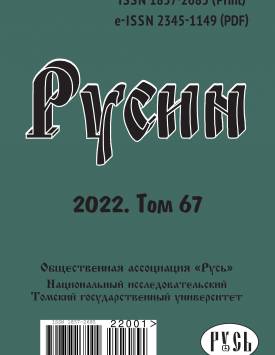

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью