Рассматривается один из наименее изученных сюжетов в истории церковнодипломатических отношений России и Восточных Патриархатов - судьба имений заграничных монастырей в Российской империи в 1860-1870-е гг. На неизвестных ранее материалах Архива внешней политики Российской империи прослежен процесс принятия решений в российских правительственных ведомствах (Министерство иностранных дел, Министерство государственных имуществ, Комитет министров) по вопросу управления имениями восточных монастырей в Бессарабии в 1873-1874 гг. Выявлено, что причинами реформы, начало которой было положено Высочайше утверждённым указом 9 марта 1873 г., послужили не только определение Константинопольского собора 1872 г. о схизме Болгарской Церкви и решение Иерусалимского Синода о низложении Патриарха Иерусалимского Кирилла II (1872), но и обнаруженные злоупотребления уполномоченных от монастырей лиц (т. н. поверенных), доведших состояние имений до полного обезлесения, что грозило экологической катастрофой всей Бессарабской области. Решалась также задача пресечения финансовых нарушений поверенных, при которых доходы с бессарабских имений расходовались ими в собственных видах. Новые положения Комитета министров, имевшие в виду соблюдение интересов монастырей, изменили всю систему взаимодействия российских властных структур и священноначалия восточных монастырей по делам управления монастырскими имениями в пределах Российской империи. Несмотря на принципиальные отличия российской реформы в отношении бессарабских имений (1873-1874 гг.) от секвестра молдо-влахийских имений правительства князя А. Кузы (1862 г.), указы российского правительства вызвали крайне негативную реакцию греческих монастырей Афона, что послужило одной из важнейших причин острого греко-русского конфликта на Святой Горе.
The reforms in the management of eastern monastic estates in Bessarabia (1873-1874): causes, objectives, and impact.pdf Введение История церковно-дипломатических отношений России и православного Востока представляет собой одно из важнейших направлений истории дипломатии, что вызвано, с одной стороны, актуальностью проблематики российско-османских и постосманских отношений, с другой - недостаточной изученностью роли конфессионального фактора во внешней политике великих держав. К одной из лакун, оказавшихся вне внимания исследователей, относится вопрос об имениях заграничных монастырей в Российской империи, и прежде всего в Бессарабии. Не имеет должного освещения и такой ключевой для российско-греческих отношений вопрос, как реформа в управлении имениями греческих монастырей, начало которой было положено Высочайше утверждённым положением от 9 марта 1873 г. Несмотря на частое упоминание этого указа в научной литературе [7; 11; 14], причины реформы и процесс принятия в российских ведомствах решений по «бессарабскому вопросу» не являлись предметом отдельного изучения. Не всегда верно интерпретируется и сама реформа, которую сводят лишь к положению от 9 марта 1873 г. Исключение составляет статья Е.В. Ванькина, в которой даётся краткий обзор распределения доходов с бессарабских имений в конце XIX - начале XX в., но не прослеживается ход правительственных решений, составляющих содержание реформы 1873-1874 гг. [3]. О том, что реформа по управлению монастырскими имениями в Бессарабии 1873-1876 гг. не сводится к «секвестру на доходы с бессарабских имений 1873 г.», свидетельствуют, в частности, документы из фонда посольства в Константинополе АВП РИ [1], обращение к которым позволяет избежать искажённых трактовок реформы 1873-1876 гг., получивших распространение в историографии. 116 g J Ml 'Cl III 2022. № 67 Действия поверенных имений восточных монастырей в Бессарабии (1860-1870-е гг.). Из дипломатической корреспонденции 1860-х гг. можно видеть, что секвестры на монастырские доходы с имений были распространённой мерой, к которой прибегало правительство России для прекращения земельных тяжеб и других спорных вопросов в афонских монастырях и их имениях в Российской империи [2: 13 об.]. Но несравненно более болезненной для Восточных Патриархатов стала реформа в управлении имениями заграничных монастырей в Бессарабии и на Кавказе, начатая в 1873 г. К её причинам относят, как правило, попытку экономического воздействия на Константинопольский и Иерусалимский Патриархаты в связи с объявлением Болгарской схизмы (11 февраля 1872 г.) и лишением кафедры Патриарха Иерусалимского Кирилла II (7 ноября 1872 г.) [11: 528; 13: 368]. Секвестр доходов с монастырских имений служил «важным рычагом воздействия» и на монастыри Афона, где однозначно воспринимался как «наказательный», необоснованный и несправедливый [6: 523]. Однако существовали и другие мотивы для оказания экономического «давления» со стороны российского правительства, такие как сохранение и защита доходов и имущества имений как собственности монастырей-владельцев и, что не менее важно, -соблюдение государственных интересов России. В силу важности «монастырского вопроса» для российской внутренней и внешней политики на протяжении многих лет к нему было приковано внимание российской правящей элиты - решения прорабатывались в Министерствах иностранных дел и государственных имуществ, принимались Комитетом министров и утверждались государем императором. Вопрос о бессарабских имениях восточных монастырей актуализировался в начале 60-х гг. XIX в. в связи с церковными реформами правительства князя Кузы, когда не только были отчуждены монастырские имения в Молдо-Влахии, но и предприняты попытки распространить реформу на молдавские монастыри в Бессарабской области Российской империи [6: 328]. В ответ на притязания правительства Объединённых княжеств бессарабское земское начальство приступило к изучению вопроса о состоянии дел зарубежных имений в Бессарабии, их принадлежности, доходности и способах управления. При этом действия гражданского начальства не распространялись на имения восточных монастырей в Бессарабии, за исключением тех афонских монастырей, на которые в 1860-е гг. в связи с открывшимися злоупотреблениями было обращено особое внимание российского МИД. История 117 В обзоре Н. Зозулина приводится стандартная схема постепенного завладения имениями в Дунайских княжествах восточными духовными общинами, когда монастыри, «воспользовавшись неурядицею в управлении княжеств, посредством своего религиозного влияния, а иногда и денег), получили право посылать в преклонённые им монастыри своих представителей. Впоследствии поверенные начали «мало по малу, не без интриг, вытеснять местных игуменов, прятать или уничтожать акты жертвователей и устранять установленный актами светский надзор, становясь безотчётными распорядителями монастырских имуществ» [8: 263]. В результате условия завещаний, согласно которым «имения жертвовались учреждению в неотчуждаемую собственность и только доходы с имения предназначались частью на вечное содержание монастыря, частью на разные богоугодные учреждения и благотворительные предметы» [і: 5], не исполнялись, местные монастыри и храмы разрушались, благотворительной деятельности не велось. Более того, поверенные незаконно захватывали имения и непреклонённых монастырей, приобретая при содействии князей-фанариотов «преклонённые грамоты на независимые монастыри» [8: 263]. Отчуждение в 1863 г. молдо-влахийских имений восточных монастырей привело к тому, что поверенные бессарабских монастырей постарались обезопасить себя от потенциальных материальных лишений: «Монастыри, как бы чувствуя под собою почву колеблющуюся и неуверенные в долговечности существования за ними прав владения имениями вообще, старались выручить как можно скорее наличные деньги, почему принялись за самое беспощадное истребление лесов и вовсе не заботились о будущем сельскохозяйственном положении своих имений» [1: 5 об.]. Как стало известно в МИД из донесений Бессарабского областного земства, поверенные, преследуя свои частные выгоды, входили в тайные сделки с арендаторами: из получаемых доходов значительная часть употреблялась поверенными на личные нужды, её размеры назначались произвольно и несоразмерно их реальным потребностям; зачастую поверенные могли полностью израсходовать все получаемые ими доходы; имения отдавались в аренду присылаемыми от монастырей монахами за баснословно низкие цены; иногда от имени монастыря заключались крупные долговые обязательства, которые, как правило, «поглощали монастырские доходы на несколько лет вперёд». В итоге «доходы с имений святых мест в России положительно расхищались, и до владельцев доходили лишь небольшие остатки» [і: 5]. Прежняя, давно устоявшаяся практика защиты и покровительства России святым местам на Востоке - по возможности не стеснять 118 g J Ml ci ii I 2022. № 67 право собственности монастырей - привела к полному произволу и безнаказанности поверенных, что было пагубно «как для самих имений, так и относительно всего экономического быта Бессарабской области и климатических условий оной» [1: 10-10 об.]. Оказавшись перед проблемой полного истребления лесов на больших площадях Бессарабской губернии и несоблюдения условий дарения, руководство МИД пришло к заключению, что контроль за соблюдением воли дарителей и обеспечение целенаправленного назначения расходов в пользу монастырей должно взять на себя российское правительство, которое «имеет не только право, но даже обязанность следить за тем, чтобы эти имения не расхищались и чтобы доходы с них шли только на те предметы, для которых они предназначаются» [1: 5-5 об.]. Представление министра иностранных дел относительно порядка управления имениями православных заграничных монастырей в России от 7 февраля 1873 г. и представление министра государственных имуществ о принятии мер по прекращению неправильной рубки лесов, принадлежавших заграничным монастырям в Бессарабии, от 10 февраля были внесены в Комитет министров, где были заслушаны 27 февраля 1873 г. Меры в отношении молдавских имений в Бессарабии: пример для подражания (1864 г.). Ситуация с бессарабскими имениями восточных монастырей представляла разительный контраст с имениями молдавских монастырей в Бессарабии, перешедшими под контроль российских властей ещё в 1864 г., когда были приняты меры, ограждавшие собственность молдавских обителей в пределах Империи от произвольных распоряжений правительства князя Кузы. Находя в его действиях ущемление прав молдавского духовенства и угрозу монастырской собственности, российское правительство отказалось признать секуляризацию молдавских монастырских земель на территории Бессарабии. Отказ объяснялся тем, что находящаяся в России собственность «подлежит действию только российских законов», ограждавших права признанных владельцев, и состоит под покровительством российских властей [4: 7-7 об.]. Признавая невозможным сохранение прежнего порядка управления монастырскими имениями в Бессарабии, МИД пришёл к заключению, что «правительство наше должно было войти в свои права относительно монастырских имений, находящихся в России» [4: 7 об.-8]. В 1864 г. для ограждения от притеснений молдавских светских властей прав православных монастырей и устранения запутанности в денежных делах в МИД были разработаны меры по изменению «способа отдачи в арендное содержание находящихся в России имений молдавских монастырей» [4: 15-20]. В результате после передачи История 119 молдавских монастырей в арендное содержание доходы с них тотчас же возросли вдвое и затем продолжали постоянно расти. Правда, при приёме в 1873 г. монастырских имений в казённое управление выяснилось, что в ведении бессарабского областного правления состояли имения лишь шести молдавских обителей - Ясская, Гушская, Слатинская, Пангарцкая, Богданская и Нямецкая обители, за которыми на основании грамот князей Михаила Стурдзы II и Александра-Григория Гики VI сохранялось самостоятельное управление принадлежавшими им имениями [8: 272]. Остальные имения, которые с 1844 г. находились в ведении молдавского департамента церковных дел, к 1864 г. оказались «во владении поверенных разных восточных греческих монастырей и греческой школы в Константинополе». Как и когда это случилось, установить не удалось. «Нет сомнения, - писал Зозулин, - что таким же точно порядком, благодаря изворотливости греческих монахов, составилась большая часть остального имущества восточных греческих монастырей на счёт молдавских заграничных и местных обителей» [8: 273]. Помимо того что в руках греческих поверенных в период с 1844 по 1864 г. оказалась «целая категория имений, принадлежавших молдавским монастырям», при расследовании «бессарабского дела» в 1873 г. открылось, что поверенные, размежевав эти имения, «сумели получить межевые документы не на имя молдавских монастырей, а на имя восточных обителей, от которых они были уполномочены» [8: 277-278]. Бессарабским губернским начальством было выявлено также полное пренебрежение поверенными своими обязанностями устраивать в монастырских вотчинах благотворительные и образовательные учреждения и благоустраивать церкви, что особо оговаривалось в завещаниях дарителей. Сведения о злоупотреблениях поверенных и пренебрежении ими интересами преклонённых монастырей в Бессарабии красноречиво свидетельствовали о том, что необходимо изменить прежний порядок управления монастырскими имениями как «гибельный для края, восьмая часть территории которого находилась в безотчётном распоряжении греческих монахов» [8: 278]. Столкнувшись с полным произволом в управлении монастырскими имениями и учитывая опыт управления молдавскими имениями в Бессарабии, приведёнными в «блестящее состояние» и составлявшими «совершенную противоположность» с имениями восточных монастырей, руководство МИД пришло к убеждению о необходимости изменить порядок управления имениями святых мест на Кавказе и в Бессарабии [1: 5 об.]. Высочайший указ 9 марта 1873 г. Предложенная в докладе князя А.М. Горчакова от 7 февраля 1873 г. новая система управления монас- 120 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 тырскими имениями в Бессарабии состояла в том, чтобы возложить обязанности управления заграничными монастырскими имуществами в России на российские правительственные учреждения с полным устранением поверенных монастырей от всякого участия в распоряжении монастырскими имениями. Комитет министров признал предложения МИД «справедливыми и совершенно необходимыми». Управление монастырскими имениями в Бессарабии возлагались на Министерство государственных имуществ (в обязанности которого входило заведование казёнными имениями в Российской империи), а на Кавказе - на местное гражданское начальство. Контроль за получаемыми с имений доходами и передача их собственникам вменялись в обязанности Министерства иностранных дел как наиболее осведомлённого в делах монастырей на Православном Востоке. Введение новой системы мер предполагало, прежде всего, пользу самих монастырей-владельцев - тем самым сохранялась доходность монастырских имений и целенаправленное поступление в казну монастырей полагавшихся им доходов; монастыри, при сохранении за ними права собственности, освобождались от «несвойственной им обязанности управления имениями»; прекращалось «вредное для имений и благосостояния Бессарабской области истребление монастырских лесов» [1: 11 об.-12]. Предполагалось, что введение в действие новых правил в соответствии с проектом МИД от 7 февраля 1873 г. «О передаче управления имуществами заграничных монастырей в казённое заведывание» вступит в силу тотчас после их Высочайшего утверждения. Однако, учитывая, что передача имений может состояться не так быстро, как того требовали обстоятельства, канцлер опасался, что поверенные успеют «продать весь лес и все, что найдут возможным», или заключить новые арендные контракты на самое продолжительное время с получением всех денег вперёд и вообще пойти на заключение таких договоров, которые надолго лишат эти имущества доходности. Принимая во внимание, что при существующем управлении имения «могут подвергнуться окончательному расхищению», а обезлесение грозит «совершенным упадком производительности» и экономике Бессарабского края, князь Горчаков 6 марта 1873 г. представил императору новый доклад, предложив «ограничить права монастырских поверенных заключать сделки на недвижимые имущества заграничных монастырей и благотворительных учреждений в России» [1: 3 об.]. «Если не принять заблаговременно нужных мер, - подчёркивалось в докладе, - то эти имущества будут переданы в управление государственных имуществ при таких условиях, которые могут парализовать совершенно все его действия» [1: 8]. История 121 Осуществление этих мер МИД предлагал возложить на Министерства юстиции и государственных имуществ, а также на Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора. По Высочайшему повелению доклад князя Горчакова был вынесен на рассмотрение Комитета министров. 9 марта 1873 г. положения Комитета министров о новом порядке управления монастырскими имениями в Бессарабии были утверждены Александром II. Суть новых правил как нельзя более ёмко выразил Н.П. Игнатьев в письме к архимандриту Антонину (Капустину) от 30 марта: «Монастырские и патриаршие имения в Бессарабии и на Кавказе принимаются... в казённое управление, с воспрещением присылать греков для заведывания доходами. Сии последние будут сохраняться в банках и передаваться святым местам не иначе, как через посредство министерства иностранных дел» [13: 101]. Особо важным пунктом новых правил российского правительства, на которое впоследствии неоднократно ссылались российские дипломаты в переписке с афонскими монастырями, было положение о сохранении за восточными монастырями и церквами права собственности на принадлежавшие им имения, предоставленного им российским правительством. Другой не менее важный пункт предписывал «привести, по возможности, в известность, в силу каких именно актов и документов монастыри и церкви владеют имениями». Впоследствии именно этот, 4-й пункт нового положения стал камнем преткновения при согласовании с монастырями распределения сумм доходов с монастырских имений. Расследование ситуации в Бессарабии. В соответствии с п. 5. указа от 9 марта 1873 г. Министерство государственных имуществ передало дело «бессарабских имений» в Херсонско-Бессарабское Управление и командировало в Кишинёв действительного статского советника А.А. Боровкова для организации приёма имений, принадлежавших молдавским монастырям и преклонённым монастырям на Востоке. По прибытии в Кишинёв Боровков запросил у монастырских поверенных акты, подтверждавшие права монастырей на владение имениями, и документы по финансовой отчётности, пригласив поверенных присутствовать при приёме имений, но встретил с их стороны «самое упорное сопротивление» [1: 24]. Поверенные монастырей Святого Гроба Патрикий, Синайского Порфирий, Святого Павла Дамиан и Ватопеда Ананий отказались принимать участие в процессе передачи имений, объясняя это тем, что не получали актов и документов на право владения имениями; при отсутствии канцелярий и не владея русским языком, не могут предоставить копии контрактов, сделок и документов по тяжебным делам, место их нахождения им неизвестно, а на передачу имений они не уполномочены монасты- 122 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 рями [1: 21 об.]. Столкнувшись с уклонением поверенных от приёма имений, Боровков был вынужден действовать без их участия, заменив их арендаторами, а при отсутствии или уклонении последних акты о приёме и описи имений подписывались командированными чиновниками министерства, полицейскими и понятыми. При изучении контрактов и сделок, заключённых поверенными афонских обителей Ватопеда и Святого Павла, Боровков убедился в том, что практически все имения были сданы в аренду по контрактам на продолжительные сроки, несмотря на то, что не закончились сроки прежних контрактов. Так, например, имение Липник афонского монастыря Святого Павла в 1868 г. было сдано в посессию сроком до 1880 г., однако в 1870 г. то же имение было сдано ещё на 4 года сроком с 1880 по 1884 г. При этом поверенные каждый раз получали от будущих поссесоров в задаток денежные суммы [1: 21-22 об.]. В течение 1871-1873 гг. все леса, принадлежавшие имениям, были проданы на сруб с получением всех денег или их части вперёд. Однако проследить приходы и расходы по имениям оказалось невозможным - поверенные не предоставили никаких доказательств тому, что все доходы, полученные с имений, а также деньги, вырученные от продажи леса, отправлены по назначению: денежных отчётов не производилось, канцелярские книги не велись, никаких почтовых квитанций об отправлении отчётов и денег в монастыри предъявлено не было. По словам самих поверенных,«деньги разменивались на звонкую монету и переводились чрез разные конторы, или же пересылались с нарочными и т. п.» [1: 32]. В связи с отказом поверенных участвовать в передаче имений директор Азиатского департамента П.Н. Стремоухов писал Боровкову в ответ на письма от 6 и 8 июня 1873 г.: «Затруднения, встреченные Вами со стороны поверенных монастырей, можно было бы предвидеть, так как принятая правительственная мера не могла прийтись по вкусу этим господам, которые столько времени совершенно бесконтрольно и безнаказанно распоряжались громадными имениями монастырей и делали всевозможные злоупотребления по управлению этими имуществами». МИД лишний раз убедился в правильности принятых мер как «крайне необходимых» для избежания «окончательного разорения имений в ущерб самим монастырям» [1: 26 об.-27]. Вместе с тем Стремоухов готов был войти и в положение монастырей-собственников, допуская, что польза от введения новых правил могла оставаться для них под вопросом, а потому трудно было ожидать, что принятые меры будут с сочувствием встречены на Востоке. В Азиатском департаменте теплилась надежда, «что когда они (монастыри) убедятся, что такие опасения неосновательны, и узнают о История 123 проделках и неблаговидных действиях своих поверенных, они будут нам благодарны за то, что мы решились взять на себя труд управлять их собственностью и спасти её от конечного разорения» [1: 26, 27]. Соглашаясь с предложением Боровкова не давать разрешения поверенным на выезд за границу до окончания приёма имений, МИД поставил вопрос об аннулировании невыгодных для монасты-рей-владельцев и незаконных сделок. 8 сентября 1873 г. по рассмотрении предложения МИД в Комитете министров был принят закон, приостанавливавший действие заключённых контрактов на рубку монастырских лесов до того времени, пока посессоры не предъявят доказательства на «безусловное право монастырей Востока на отчуждение лесов, т. е. на неограниченное пользование имуществами, в том числе на продажу лесов на сруб сплошными площадями» [9: 280]. Принятие этого закона стало очередным шагом российского правительства по защите бессарабских имений от разорения и обезлесевания. Ответ Афона. Генеральным консулам в Иерусалиме и Салониках было поручено испросить от Иерусалимской Патриархии и упомянутых в письме Боровкова афонских монастырей акты (или их точные копии), подтверждавшие права владения имениями в Бессарабии и на Кавказе, с разъяснением, что это необходимо в интересах самих монастырей [1: 33-33 об.]. Несмотря на надежды, что монастыри вскоре убедятся, что во главу угла поставлено «соблюдение интересов святых мест» [1: 4 об.], у российских дипломатов в Иерусалиме, Салониках, Александрии не вызывало сомнений, что новый закон об управлении бессарабскими имениями «возбудит некоторое неудовольствие монастырей-владельцев» как в Патриархате, так и на Афоне. Опасения дипломатов полностью себя оправдали. Особенно сильно принятием имений в казённое управление были обеспокоены святогробское братство и афонские монастыри, имения которых приносили весьма значительный доход. Так, доходы с имений Гроба Господня в 1872-1873 гг. простирались ежегодно до 260 000 руб. (более 218 500 руб. из бессарабских имений и 40-45 000 руб. с кавказских) [9: 38-38 об.]; доходы с имений Зографа составляли более 100 тыс. руб. сер., Ватопеда - 90 тыс. руб. сер., Ксиропотама - 30-35 тыс. руб. сер., а монастыря Св. Павла - 25 тыс. руб. сер. Братия Зографа, имения которого в Бессарабии состояли из 18 сел, подали в российское константинопольское посольство два прошения об оказании монастырю особого снисхождения и покровительства. В первом из прошений братия ходатайствовала о том, чтобы Зограф «не подвели под одну категорию с греческими монастырями». Во втором прошении братия просила сделать некоторые исключения 124 g J Ml ci ii I 2022. № 67 из общепринятых правил в пользу преклонённого Зографу Киприа-новского монастыря в Бессарабии. Считая нужным поддержать болгар в знак протеста против решений Константинопольского собора 1872 г., Игнатьев в отношении от 10 мая 1873 г. выразил мнение, что «было бы справедливо и полезно способствовать по мере возможности ограждению интересов сего монастыря, увеличению его доходов и правильному их поступлению по принадлежности» [1: 16]. (Позже, в целях оказания поддержки болгарам, Игнатьев добился высылки в Зограф из России двадцати тысяч рублей, накопившихся за время секвестра с процентов от доходов с его бессарабских имений [12: 451]). Другие афонские обители, имевшие владения в России, поначалу воздержались от обращения в посольство, однако в ответ на предложение солунского генконсула предоставить документы о праве владения монастырей заграничными имениями или их копии [1: 36] к российскому императору обратился Священный Кинот с коллективным ходатайством от 24 августа 1873 г. об отмене положений Комитета министров, которые были восприняты на Афоне не иначе как наказанием, лишавшим монастыри «пользованием правами собственности над находящимися в России имениями» и «конфискацией этой собственности» [6: 522]. В ответ на разъяснения Комитета министров, что «монастыри и церкви сохранят за собой право собственности на принадлежащие им имения», антипросопы возражали, что «простое право собственности без пользования им через употребление и распоряжение доходами имений есть право призрачное и ничего не стоящее». Ходатайство оканчивалось просьбой «оказать правосудие»: «приказать снять запрещение, наложенное на распоряжение вышеупомянутыми имениями Афонской Горы, и возвратить чрез сие ей тишину и спокойствие» [6: 522-523]. Послание было составлено в общем собрании представителей и предстоятелей двадцати священных монастырей Святой Афонской Горы, однако далеко не все из них искренне разделяли положения подписанного ими «общего прошения» на имя Александра II. «Утверждение это, - писали Игнатьеву его постоянные корреспонденты, духовник русской братии Свято-Пантелеимонова монастыря Иероним (Соломенцов) и иеросхимонах Макарий (Сушкин), - последовало от нас не по сердечному нашему влечению и не по убеждению в истинном достоинстве начатого святогорцами дела, или в действительной необходимости исполнения оного, а так, по увлечению потоком общих здешних обстоятельств и по нежеланию произвесть дисгармонию в ходе общих наших дел... По одной почти мысли с нами сделали скре- История 125 пление просьб, о которых идёт речь, и другие здешние монастыри, не имеющие в России недвижимых имений» [6: 62-63]. На прошение Священного Кинота последовала собственноручная резолюция Александра II: «Оставить без уважения» [1: 38 об.]. Русским консулам на Востоке поручалось напомнить монастырям, «что их упорное уклонение от предоставления подлинных актов и документов на владение и систематический отказ от всяких уступок» помешало в своё время решению «монастырского вопроса» в пользу монастырей в Молдо-Влахии. И вновь напоминалось об обязанности российского правительства, согласно условиям дарения и завещаниям жертвователей, «заботиться о целости и неприкосновенности этих имений, даже противодействуя распоряжениям самих монастырей, если бы эти распоряжения не соответствовали предназначенной цели» [1: 40]. Позиция российских дипломатов по «бессарабскому вопросу» (октябрь 1873 г. - июнь 1874 г.). В октябре 1873 г. министр государственных имуществ представил в Комитет министров проект новых правил о порядке управления бессарабскими имениями заграничных монастырей. По его рассмотрении было признано полезным разработать систему «счетоводства и отчётности» по доходам с монастырских имений в Бессарабии (с учетом того, чтобы правила эти не «стесняли распоряжений, клонящихся к увеличению и правильному извлечению доходов» [5: 1]). Министру госимуществ П.А. Валуеву было поручено создать при министерстве Особую Комиссию с участием Министерства иностранных дел и Государственного Контроля. 21 ноября 1873 г. положение Комитета министров получило Высочайшее утверждение. Однако все попытки получить от восточных монастырей какие-либо документы, подтверждавшие их права на владение имениями в России, потерпели фиаско. В дипломатическом ведомстве не исключали, что «монастыри будут тщательно их скрывать», и даже допускали, что «все документы, заключавшие какие-либо обязанности, наложенные на монастыри, давно уничтожены» [1: 57 об.]. Не имея возможности ознакомиться с монастырскими актами, МИД был вынужден поставить вопрос о размере высылаемых на Восток сумм, а также о способе их передачи и мерах по контролю за их употреблением. Прежде всего требовалось определить (хотя бы приблизительно) долю из общего размера доходов, которая, согласно духовным завещаниям, должна расходоваться на духовные и богоугодные учреждения и на дела благотворения «как в пользу края, где находятся имения, так и в тех местностях, где находятся святые места». Исходя из размера этой доли, предстояло определить размер выплат монастырям (за отчислением расходов по управлению) [1: 58-58 об.]. 126 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 Дипломатам на местах поручилось испросить от монастырей краткий бюджет высылаемых из России денег [1: 59]. Однако российский поверенный в делах в Константинополе А.И. Нелидов был убеждён, что «от управления большей части монастырей невозможно будет добиться предварительных сведений о предполагаемых ими расходах» [1: 60-60 об.]. Решение по определению сумм, отправляемых монастырям-вла-дельцам из России, было принято на основании отношения Игнатьева от 6 июня 1874 г., составленного по донесениям российских генконсулов в Иерусалиме, Александрии, Бухаресте и Солуни. В записке рассматривались два вопроса: каким путём следовать при передаче заграничным монастырям поступавших в МИД доходов с их имений в России, и каким способом осуществлять контроль за расходованием этих сумм. Игнатьев был единодушен с генконсулами во мнении о бесполезности запроса от монастырей их бюджетов по употреблению доходов. Подобные запросы, отмечал он, неизбежно вызовут раздражение восточного духовенства, что может «весьма легко сделаться причиной раздоров между консулами и восточными иерархами и, наконец, рискует втянуть нас в щекотливые вмешательства во внутреннее управление монастырей» [1: 77 об.]. Признавая невозможным «достигнуть добровольного соглашения с монастырями ни в определении доли с доходов в пользу края, ни относительно представления ими ежегодных бюджетов», дипломаты пришли к выводу, что российское правительство должно своей властью определить доли с доходов в пользу края (на духовные и богоугодные учреждения, согласно завещаниям дарителей) и на издержки по управлению имениями и придерживаться этого решения до тех пор, пока «обстоятельства не укажут какого-либо другого исхода» [1: 74 об., 78]. Отношение Игнатьева от 6 июня 1874 г. послужило основанием для составления в МИД проекта по распределению доходов с бессарабских имений восточных монастырей и церковных общин, согласно которому 2/5 доходов предполагалось передавать монастырям как собственникам имений, 2/5 - оставлять Бессарабскому земству на благотворительные учреждения в губернии, а 1/5 доходов удерживать в министерстве на издержки по управлению имениями и на непредвиденные расходы. В июле 1874 г. князь Горчаков внёс проект в Комитет министров, и 26 июля 1874 г. положение Комитета министров получило Высочайшее утверждение [5: 3-9]. Меры, принятые правительством России в отношении бессарабских и кавказских имений восточных монастырей, вызвали крайне негативную, хотя и предсказуемую реакцию на Востоке. В январе История 127 1874 г. Нелидов сообщал в Азиатский департамент об «озлобленном относительно нас раздражении греческого духовенства» [1: 61 об.]. О раздражении монахов греческих монастырей на Афоне свидетельствовал и солунский генконсул Н.Ф. Якубовский. Несмотря на то, что при всех «воспитательных» мерах российское правительство преследовало прежде всего пользу монастырей-владельцев [1: 4 об.], греческие монастыри Афона, чьи имения находились в России, не могли примириться с невыгодным для них (а точнее, для определенной части афонской элиты) решением бессарабского вопроса. Высочайше утверждённые 9 марта 1873 г. положения Кабинета министров, дополненные указами от 8 сентября 1873 г. и 26 июля 1874 г., изменили всю систему взаимодействия российских властных структур и священноначалия восточных монастырей по делам управления монастырскими имениями, находящимися в пределах Российской империи. На весь период реформирования доходы с имений были временно заморожены с помещением их в российские банки и с введением подотчётной российскому МИДу системы их распределения [5: 3 об.-4]. Выплаты же большинству монастырей (за редким исключением) возобновились только после Высочайше утверждённого положения Комитета министров от 21 мая 1876 г. [6: 524], в котором детально прописывались все статьи по распределению доходов с монастырских имений. Новый закон, воспринятый в России как «благодетельный для Бессарабии», стал важным вкладом в урегулирование «бессарабского вопроса. Заключение. Как видно из документов по «бессарабскому делу», реформа по управлению монастырскими имениями в Бессарабии не может быть сведена к «секвестру на доходы с бессарабских имений 1873 г.». Неправомерно и утверждение о наложении секвестра на доходы Восточных Патриархатов с бессарабских имений «в пользу казны» [11: 528]. Документы однозначно свидетельствуют о том, что деньги с аренды доходов поступали в МИД не «в пользу казны» -государство лишь брало на себя функцию временного хранения монастырского капитала от бесконтрольного расходования его поверенными, что принципиально отличает решение «бессарабского вопроса» от «молдо-влахийского». Впрочем, российскому правительству не удалось избежать упрёка в том, что «Россия хочет вступить на узкий путь князя Кузы», о чем предупреждал К.Н. Леонтьев, и это несмотря на то, что «русское правительство объявляет во всеуслышание, что оно считает бессарабские имения неотъемлемою собственностью святых мест, что оно не конфискует их никогда, но налагает на них как бы временную опеку вследствие беспорядков в управлении ими» [10: 89], и только ci ii I 2022. № 67 128 летом 1874 г. из-за отказа монастырей предоставить документы, подтверждавшие их права на владение бессарабскими имениями, было принято политическое решение о распределении доходов по предложенному Министерством иностранных дел соотношению долей (2/5:2/5:1/5), из которых лишь пятая часть доходов с имений предназначалась на «издержки по управлению». Непонимание этих существенных различий может дать повод приравнять российскую реформу 1870-х гг. к антицерковным действиям правительства князя Кузы, когда имения монастырей в Молдо-Влахии были отчуждены от монастырей-владельцев, а доходы с них поступили в полное распоряжение правительства Объединённых княжеств, произвольно распоряжавшегося ими в своих интересах. Тем не менее, как отмечал Леонтьев, «все-таки толчок дан... буря, которая кипела в Царьграде, в Иерусалиме, в Антиохии, отозвалась наконец и на тихом Афоне!» [10: 89]. Введение финансового контроля со стороны России вызвало массовое недовольство греческих монастырей Афона, что привело, наряду с другими факторами - этно-национальными, межцерковными, внешнеполитическими - к обострению в отношениях между греческой и русской братией Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, перешедшего в 1874 г. в стадию острого греко-русского конфликта не только в обители, но и на всем Афоне.
Э.П.А., Августин (Никитин), архим., Игорь Якимчук, диак. Екатерины великомученицы монастырь на Синае // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 170-214.
Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н.П. Игнатьевым (1865-1893) / Изд. подг. К.А. Вах, О.В. Анисимовым. М.: Индрик, 2014. 479 с.
[Муравьев А.Н.] Андрей Николаевич Муравьев и российская дипломатия на Православном Востоке. Дипломатические записки и переписка / сост. И.Ю. Смирнова. М.: Индрик, 2019. 608 с.
Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь и войны Российской империи XIX в.: дис.. д-ра ист. наук. М., 2021. 866 с.
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: философская и политическая публицистика. Духовная проза, 1872-1891. М.: Республика, 1996. 798 с.
Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XIII. Канцелярия обер-прокурора Св. Синода. Ед. хр. 297. Переписка о Православной Церкви на Востоке. 1859-1871 гг.
Зозулин Н. Бессарабские имения заграничных монастырей // Бессарабия / Под ред. П.А. Крушевана. Кишинёв, 1903. С. 253-285.
Гросул В.Я. Бессарабия в международных отношениях нового времени. Кишинёв: Б. и., 2018. 475 с.
Граф Н.П. Игнатьев и Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Серия: Русский Афон XIX-XX веков / Гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко). Т. 12: Святая Гора Афон: Изд-е Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2016. 897 с.
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 1057 Справка из журналов Комитета министров об имениях восточных монастырей (1874).
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 1051. Записка о конфликте между Россией и молдавским господарем в связи с отказом России признать секуляризацию Молдавией монастырских земель на территории Бессарабии (1864).
Ванькин Е.В. Некоторые аспекты финансово-хозяйственной деятельности Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон и его Константинопольского подворья // Православный Палестинский сборник. 2017. Вып. 114. С. 221-234.
АВПРИ. Ф. 161. СПбГА. II-9. Оп. 46. 1867. Ед. хр. 14. О введении общежития в Иверском монастыре на Афоне и секвестр доходов его в России (1867-1869).
Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 180. Оп. 517/2. 1873. Ед. хр. 3395. Переписка о новом порядке правительственного управления имениями, состоящими в России, принадлежащими разным заграничным Патриархиям, афонским монастырям, школам, с правилами и изменениями.
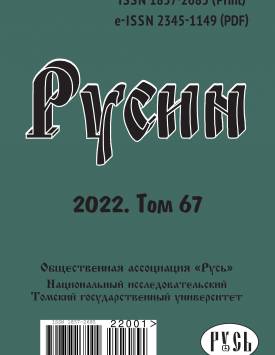

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью