К.Я. Грот и Карпато-Дунайские земли
Константин Яковлевич Грот (22.06 (04.07).1853-29.09.1934) - российский славист, архивист. Второй сын академика Якова Грота, брат философа Николая Грота. Член-корреспондент Российской академии наук. Был одним из учредителей «Русского собрания». Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета, ученик В.И. Ламанского. Студентом был награждён золотой медалью за «Разбор свидетельств Константина Багрянородного о южных славянах». Степень магистра получил за диссертацию «Моравия и мадьяры с половины IX по начало Х века» (1881). В 1883 г. становится профессором по кафедре славистики Императорского Варшавского университета. В 1889 г. защитил докторскую диссертацию «Из истории Угрии и славянства в XII в.» (1889). В 1894 г., после смерти своего отца. К.Я. Гроту было поручено издание его трудов и литературной переписки на средства императора Александра III. В 1899 г. К.Я. Грот переехал в Санкт-Петербург. В 1905 был назначен заведующим Общественным архивом министерства Императорского двора. В 1905 г. в «Новом сборнике статей по славяноведению учеников В.И. Ламанского» К.Я. Грот опубликовал статью «Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях». Это очерк позже был положен в основу изданной и несколько раз переизданной в 1914 г. монографии «Австро-Венгрия. или Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях». В 1907 г. под его редакцией вышла монография «Галицкая Русь прежде и ныне. Исторический очерк и взгляд на современное состояние Очевидца». В 1914 г. написал брошюру «Великая война и карпато-дунайская монархия (К освещению вопросов недалёкого будущего)». Автор исследований об известных славистах: А. Будиловиче, П. Кулаковском. М. Лавровском. В. Ламанском. Й. Первольфе, И. Филевиче и др. После революции в течение нескольких лет управлял вверенным ему Архивом. С апреля 1925 по ноябрь 1929 г. работал научным сотрудником Пушкинского Дома (сверх штата).
K.Ya. Grot and Carpatho-Danubian Lands.pdf К.Я. Грот родился в Царском Селе, второй сын академика Я.К. Грота и писательницы Наталии Петровны Семёновой (1824-1899). Был крещён 22 августа 1853 г. в соборе святой Екатерины в Царском Селе. Его восприемниками стали великий князь Николай Александрович и государыня императрица Александра Фёдоровна, в лице её при купели находилась О.Ф. Корф, жена статс-секретаря, тайного советника барона М.А. Корфа [57]. К.Я. Грот был женат на Каролине Стивенсон (03.02.1860-04.10.1934), британской поданной англиканского вероисповедания, в семье родилось четверо детей (Вера, Сергей, Александра, Ольга) [61]. По своим убеждениям К.Я. Грот был славянофилом старой московской школы с её «романтизмом и демократичностью» [51: 215]. История его рода род - пример служения России. Прадедом К.Я. Грота был Ефим Христианович (Иоахим Христиан) Грот (17331799), пастор лютеранской церкви на Васильевском острове (с 1771 г. - церковь Св. Екатерины), проповедник, учёный, писатель, основал в Санкт-Петербурге первое страховое общество в России - «Общество для смертных случаев», пробст и старейшина протестантского духовенства Санкт-Петербурга (с 1797 г.) [44: 639]. Как писал К.Я. Грот в «Материалах для жизнеописания академика Якова Карловича Грота (1812-1893). Вступительный очерк. Предки, семья и детство», его прадед пользовался «неизменным благоволением и сочувствием императрицы Екатерины II, переселился в Россию из Голштинии (ныне - южной части земли Шлезвиг-Гольштейн) в конце царствования императрицы Елизаветы Петровны». Иоахим (Яким, Ефим) Христиан Грот родился 14 июня 1733 г. в голштинском городе Плон (Плён (Plon)), который когда-то был древним славянским поселением. Его отцом был адвокат местного герцога, мать - дочь придворного проповедника. В 1751-1753 гг. учился в Йенском университете, затем стал кандидатом на должность проповедника в родном городе, преподавал в дворянских семьях Киле и соседних населённых пунктах, стал членом Кильского «Общества изящных наук». Во время Семилетней войны в 1758 г. был приглашён домашним пастором к русскому губернатору Кёнигсберга генерал-аншефу барону Н.А. Корфу, стал его секретарём. Здесь он сошёлся с Иммануилом Кантом и немецким писателем-юмористом, юристом Теодором Готлибом фон Гиппелем. В Кёнигсберге Грот прожил два года, в 1760 г. он переехал в Санкт-Петербург, куда перевёлся барон Корф. Гроту было тогда 27 лет, Россия стала его второй родиной [28: 1-4]. 134 g J Ml ci ii I 2022. № 67 В 1766 г. он женился на Христине Сусанне Энгельгардт, третьей дочери уже покойного тогда доктора медицины и директора Сухопутного госпиталя Николая Фридриха Энгельгардта. От этого брака у Ефима Грота было двое детей: сын Карл Христиан (Карл Ефимович), отец Якова и Константина Карловичей, и дочь Амалия, бывшая замужем за К. Липком. В 1783 г. пастор Грот овдовел и в 1785 г. женился вторично на дочери бременского купца Марии Бушер [28: 8-9]. Семья пастора Грота была дружна с семьёй Цизмеров (Ziesmer), вероятно, выходцев из Восточной Пруссии, глава семьи был негоциантом, с женой был в разводе. В І804 г. К.Е. Грот женился на К.И. Цизмер. У них было четверо детей. Первый сын (Александр) умер во младенчестве. Дочь Роза, родившаяся в 1811 г. стала впоследствии писательницей-переводчицей (псевдоним К.Р. Аполлонская), Яков (родился в 1812 г.) и Константин (в 1815 г.). Жили Гроты скромно. К 1812 г. Карл Ефимович перешёл с должности старшего столоначальника 3-й Экспедиции для свидетельства государственных счетов в Департамент государственных имуществ и стал начальником отделения [28: 38-39,42]. Став чиновником Департамента государственных имуществ, он получил чин коллежского советника [27: 9], выслужив право на личное дворянство. К.Е. Грот был отличным пловцом и неоднократно переплывал Неву. Однажды в начале июля 1818 г. он пропал, вероятно, утонул, купаясь в Неве. Его одежду нашли на берегу [28: 43]. Потеряв мужа, Каролина Ивановна посвятила себя детям и их воспитанию [28: 44]. Император назначил вдове пенсию в размере полного жалования её мужа (3 тыс. руб. в год) [27: 9]. Она умерла в Гельсингфорсе 24 августа 1852 г. [28: 44]. По свидетельству Я.К. Грота, «она, хотя и была по происхождению немка, но любила все русское и, почитая Россию своим единственным отечеством, воспитала нас в любви к русскому языку и народу, в привязанности и благодарности к России» [28: 56]. Отец К.Я. Грота Яков Карлович (1812-1893) стал лингвистом и историком литературы, профессором Императорского Александровского (Гельсингфорсского) и Императорского Санкт-Петербургского университетов, вице-президентом Российской академии наук. В 1823 г. К.Я. Грот был зачислен в Царскосельский лицейский пансион, благодаря прошению матери на имя императора Александра I. Император через начальника Главного штаба уведомил «госпожу коллежскую советницу Грот», что «государь император, снисходя на просьбу её, Высочайше повелеть соизволит старшего её сына поместить на казённый счёт в пансион Царскосельского лицея» [28: 57, 69-70]. В 1826 г. он стал первокурсником лицея. В 1832 г. он История 135 закончил лицей с золотой медалью и чином IX класса (титулярный советник, давал право на личное дворянство). После выпуска из Лицея он служил в канцелярии Комитета министров (под начальством М.А. Корфа), потом - при Государственном совете, где он переписывал официальные бумаги для государя. Одновременно он продолжал совершенствоваться в иностранных языках, изучает историю России, писал стихи [27: 9-10; 35: 179-180]. В 1840 г. он стал чиновником особых поручений при статс-секретаре княжества Финляндского, в 1841-1852 гг. - профессор русского языка и словесности в Гельсингфорсском университете. В университете читал лекции на шведском и русском языке. При его участии в 1849 г. в журнале «Современник» был опубликован перевод финского народного эпоса «Калевала» на русский язык. Для финских школьников он написал учебники русского языка и книги для чтения по истории России [27: 12-13; 35: 180]. В 1850 г. он женился на Н.П. Семёновой [27: 18]. Наталья Петровна Семенова (1824-1899), писательница, уроженка Рязанской губернии, была дочерью героя войны 1812 г., писателя-дра-матурга и пародиста П.Н. Семенова (1791-1832) и сестрой Николая Семенова и Петра Семенова-Тян-Шанского [34: 14]. В 1852 г. после смерти матери Грот решает переехать в Санкт-Петербург. В декабре его избрали членом-корреспондентом Императорской академии наук по II отделению. Он также стал наставником и учителем великих князей - Николая и Александра (будущего императора Александра III) Александровичей. В январе 1853 он прибыл в Санкт-Петербург [27: 20-21]. Александр Александрович «ценил мнения и компетентность Я.К. по предметам его ведения» [24: 4]. «С личностью старого наставника у государя были без сомнения глубоко связаны дорогие для него воспоминания детства и юности» [24: 5]. В 1853-1862 гг. он - профессор кафедры словесности Александровского (бывшею Царскосельского лицея). С сентября 1859 г. оставил придворную службу [27: 20, 25, 28]. В 1889 г. он утверждён вице-президентом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге [27: 45]. Я.К. Грот скончался 24 мая 1893 г. Получив доклад об этом от министра народного просвещения, император написал на докладе: «Меня эта смерть весьма огорчила. Я знал Якова Карловича более 35 лет и привык любить и уважать эту достойную личность» [24: 5]. Говоря о похоронах учёного, К.Н. Бестужев-Рюмин написал: «в этот день провожали не только видного учёного деятеля, но и одного из благороднейших и чистейших людей Русской земли. Когда вполне будет рассказана его жизнь, она послужит примером и поучением грядущим поколениям» [2: 12]. 136 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 16 декабря 1912 г. во время торжественного собрания Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук в честь столетия со дня рождения академика Я.Г. Грота во вступительном слове академик А.А. Шахматов отметил: «Наш язык нашёл в Гроте неутомимого исследователя, много потрудившегося между прочим, над популяризацией научных о нём знаний. Многолетними его трудами достигнуто упорядочение нашего правописания. Гротом положены основания русского словаря, памятника современного литературного и живого языка. История нашей культуры и духовного развития в отдельных частностях разработана Гротом разносторонне: им извлекались для этого материалы из истории языка, литературы, быта; широкое научное и литературное образование давало ему возможность освещать эти данные умными соображениями и ценными обобщениями» [45: 1]. Другой сын Карла - Константин Карлович (1815-1897) тоже закончил Царскосельский лицей, впоследствии стал губернатором Самарской губернии (1853-1860), председателем основанного им Мариинского попечительства о слепых и т. д. [44: 639-640]. Старший брат Константина Яковлевича Грота Николай (1852-1899) стал русским философом, профессором Московского университета (с 1886), председателем Московского психологического общества, первым редактором журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889) [44: 641-642]. К.Я. Грот учился в частной Петербургской гимназии Видемана (до 1867 г.), а затем в Ларинской казённой гимназии, закончив курс в 1872 г. с золотой медалью [34: 14]. Затем поступил на историкофилологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1874 г. избрал своей специальностью славяноведение «не только следуя своим внутренним влечениям, но и, несомненно, под сильным влиянием университетских чтений Владимира Ивановича и той духовной атмосферы, которая невольно создавалась около него, его кафедры кружка его молодых почитателей» [32: 15; 33: 219]. Надо отметить, что в своё время магистерская диссертация В.И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (1859) была издана при содействии Я.К. Грота [51: 153]. К.Я. Грот посещал лекции В.И. Ламанского, курсы И.И. Срезневского и В.Г. Васильевского [34]. Его настолько «увлекли славянские интересы и сочувствия», что уже в начале третьего курса стал членом петроградского славянского комитета, где видную роль играли В.И. Ламанский и его ученик А.С. Будилович [32: 15; 33: 219-220]. Закончив университет в 1876 г. со степенью кандидата, К.Я. Грот был награждён золотой медалью за студенческую работу «Разбор История 137 свидетельств Константина Багрянородного о южных славянах», которая была издана в 1880 г. Автор поднял сложные вопросы древней истории южных славян, показал великие этнические движения в Европе, которые привели к переселению сербов и хорватов на Балканы, и подробно рассматривал их историческую жизнь на новой родине на Балканах. Как отмечал позже В.А. Францев, сегодня некоторые положения исследования К.Я. Грота устарели, его этимологические толкования неприемлемы, но была эта первая попытка всестороннего анализа сообщений Константина Багрянородного и работа стала ценным вкладом в изучении южнославянской этнографии и балканской истории [60: 6-7]. После окончания университета К.Я. Грот был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре славянской филологии (у профессора Ламанского). Летом того же года он совершил путешествие в Чехию и Моравию. В Праге он познакомился с рядом учёных и общественных деятелей [41: 679]. Ранее К.Я. Грот бывал в Чехии вместе с семьёй: восьмилетним мальчиком в 186І г., когда его родители приехали в Теплице на лечение и в 1867 г. [60: 30]. Он продолжил свою учёную подготовку, а также стал преподавать русский язык и литературу в двух частных (женских) учебных заведениях. С осени 1878 г. К.Я. Грот провёл около трёх месяцев у своего брата профессора философии в Нежине (в историко-филологическом институте кн. Безбородько), где «важным подспорьем в работе» стало общение с профессорами-славистами А.С. Будиловичем и «старым товарищем и спутником по поездке в Моравию в 1876 г.» РФ. Брандтом [25: 1104-1106, 34]. С А.С. Будиловичем он более близко сошёлся осенью 1876 г. в Нежине, а затем осенью 1878 г. «Общение и частые беседы с Бу-диловичем, указания и советы такого сведущего специалиста, уже непосредственно знакомого с славянским миром и с виднейшими представителями славянской науки и жизни на западе и юге, - были для меня чрезвычайно полезны и важны, и сам Антон Семенович с присущими ему отзывчивостью, добротой и готовностью быть полезным шёл радушно навстречу при всяком обращении к нему и готов был служить и указаниями и своей богатой уже библиотекой» [25: 1104-1106]. Весной 1879 г. сдал магистерские экзамены у профессоров В.И. Ламанского, И.И. Срезневского, А.И. Веселовского [25: 1106]. Под влиянием В.И. Ламанского он избрал темой своей магистерской работы историю Моравии во время появления венгров в Европе. В 1881 г. он закончил, защитил и напечатал диссертацию «Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века» [41: 679-680]. Вопреки 138 g J Ml ci ii I 2022. № 67 одностороннему мнению большинства учёных, считавших вторжение венгров на Тисо-Дунайские равнины фатальными и пагубными для западного славянства, К.Я. Грот, признавая бедствия, причинённые дунайским славянам мадьярским погромом, отстаивал мнение, что мадьяры помогли сдержать немецкий натиск на восток. Таким образом, немцы больше пострадали после венгерского нашествия [60: 7-11]. В 1882-1883 гг. К.Я. Грот совершил научную командировку в славянские земли Австро-Венгрии и другие страны. Большую часть времени он проработал в Праге, также учёный побывал в Вене, Будапеште, Белграде, Загребе, Любляне, Будишине [41: 680]. Так же он посетил Новый Сад, Триест, где тоже работал в местных архивах и библиотеках [34]. Как отмечал В.А. Францев, К.Я. Грот был одним из тех русских славистов, которые досконально знали чешскую историю и литературу, в молодом возрасте путешествовал по чешским землям, познакомился со многими выдающимися учёными и поддерживал с ними связь [60: 29]. В 1883 г., в связи со смертью В.В. Макушева, К.Я. Грот (через профессора Будиловича [34]) был назначен экстраординарным профессором на славянскую кафедру Императорского Варшавского университета [41: 683-684]. Первую лекцию в университете он провёл 16 сентября 1883 г. К.Я. Грот читал лекции по истории славян и славянской литературе [11], позже стал читать курс славянских древностей. Он преподавал также чешскую литературу [41: 684-685]. Некоторые лекционные курсы К.Я. Грота были изданы в конце XIX в. [51: 215]. В 1885-1886 г. он снова был в научной командировке, её время совпало с его женитьбой. Летом посетил Англию (Лондон и Оксфорд), поработал в Британском музее. Результатом научных изысканий стала статья «Лондонские заметки. Славянские рукописи Британского Музея) («Русский филологический вестник», 1887. Т. XVII. С. 1-29) [34]. Затем он собирал в Праге, Вене и Будапеште материалы для докторской диссертации. Диссертацию «Из истории Угрии и славянства в XII в.» он защитил в 1889 г. в Императорском Санкт-Петербургском университете [41: 685]. Его труд получил высокую оценку и был награждён академической Уваровской премией [5]. Автор развивает концепцию двух враждебных миров (латино-германского и греко-славянского), использует все известные в его время источники, анализирует их и впервые в историографии поднимает вопрос о венгеро-русско-византийских взаимоотношениях [41: 694]. Как писал В.А. Францев, в диссертации автор рассмотрел небольшой период в истории Венгрии, который венгерские и немецкие учёные обычно назвали эпохой «византийского влияния». К.Я. Грот считал это неправильным. По его мнению, это была эпоха борьбы с История 139 усиливающимся влиянием Византии, и эта борьба составляет суть венгерской политической жизни того времени. Западное влияние в Венгрии в то время не только не уступало византийскому, наоборот, всё больше набирало силу [60: 12]. С 1894 по 1896 гг. К.Я. Грот был в командировке в Санкт-Петербурге. Ему было поручено издание трудов и литературной переписки его отца на средства императора Александра III. Он издал три тома «Переписки Я.К. Грота с П.А. Плетневым» [СПб., 1896] со своими примечаниями [41: 685]. Осенью 1896 г. К.Я. Грот вернулся в Варшаву и до весны 1899 г. продолжил преподавать в университете. За это время он издал два первых тома «Трудов Я.К. Грота», новое дополненное издание книжки «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», написал отзыв о представленной на соискание премии имени А.А. Котляревского монографии профессора А.Н. Ясинского «Падение земского строя в чешском государстве» [34]. По семейным обстоятельствам (тяжёлая болезнь матери, скончавшейся летом 1899 г.), он, выслужив пенсию, вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург. Здесь он продолжил работать над архивом отца [34]. С 1901 г. К.Я Грот - действительный статский советник, состоял при Министерстве народного просвещения, был председателем Комиссии по государственным испытаниям в Харьковский и Московский университеты, председателем издательского отделения Общества ревнителей исторического просвещения (1904-1909) [4: 449]. В этом же году он издал сборник статей «Об изучении славянства. Судьба славяноведения и желательная постановка его преподавания в университете и средней школе» (СПб., 1901), который вызвал немало откликов. Тогда же он стал одним из учредителей «Русского собрания» [52: 11], первой русской общественной право-монархической организации. В 1905 г. его пригласили возглавить Общий архив Министерства императорского двора [41: 686; 47: 466]. Благодаря К.Я. Гроту в 1904-1916 гг. были изданы «Камерфурьерские церемониальные журналы» за 1805-1817 гг. (всего 40 томов) с объяснительными «Приложениями» и «Алфавитный указатель» за 1695-1774 гг. Архивом он заведовал 17 лет, в т. ч. и 5 лет при Советской власти [34; 41: 686; 58: 452]. В 1905 г. по случаю 50-летнего юбилея В.И. Ламанского был издан «Новый сборник статей по славяноведению учеников В. И. Ламанского». В нём он опубликовал очерк «Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях» [23]. 140 g J Ml ci ii I 2022. № 67 С 1900 по 1915 гг. он выпустил следующие труды: Грот Н.П. «Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков» (СПб., 1900), Грот К.Я. «По поводу школьной реформы» (СПб., 1901), Грот Н.Я. «Философия и её общие задачи» (СПб., 1904), «Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей» (СПб., 1911), издаёт оставшееся два тома «Труды Я. К. Грота» (СПб., 1901, 1903) [34]. В 1904-1909 гг. К.Я. Грот стал председателем издательского отделения «Общества ревнителей исторического просвещения». Среди изданных за это время книг были «Галицкая Русь прежде и ныне» (1907), «Св. Кирилл и Мефодий и культурная роль их в славянстве и России» Е.И. де-Витте (1908), «Славянство и мир будущего» Л. Штура (2-ое изд., СПб., 1909) [34]. Вкладом в изучение истории своего рода и собственной семьи, родственных связей стали, в частности, материалы по биографии своих деда, тёти. Позже, особенно после выхода на пенсию, он стал более активно заниматься этой работой. Многие из его последних работ, к сожалению, так и не были опубликованы, часть из них не вошла в его библиографию [53]. Ему принадлежит ряд исследований о лицейском периоде творчества Пушкина и издание «Пушкинский лицей (1811-1817). Бумаги 1 курса, собр. акад. Я.К. Гротом» (СПб., 1911). Как написал учёный в предисловии: «значительную часть публикуемых материалов составляют литературные упражнения товарищей Пушкина, его собратьев по перу» [26: X]. Он - автор исследований о творчестве поэтов и писателей XIX в., а также об известных славистах: А. Будиловиче, П. Кулаковском, М. Лавровском, В. Ламанском, И. Первольфе, И. Филевиче, А. Добрянском и др. [41: 686; 698-699]. В 1911 г. К.Я. Грота избирают членом-корреспондентом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге [41: 686]. В 1912 г. К. Я. Грот приступил к разработке и изданию биографических и историко-литературных материалов, связанных с деятельностью его отца Я.К. Грота и других родственников учёного. К 100-летней годовщине рождения Я. К. Грота были изданы два выпуска «Материалов для жизнеописания академика Якова Карловича Грота». В 1915 г. к 100-летию со дня рождения своего дяди Константина Карловича Грота, им был опубликован первый том издания «К.К. Грот как государственный и общественный деятель» [34]. В 1914 г. он издал книгу «Австро-Венгрия, или Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях» [30]. В основу её был положен очерк «Карпато-Дунайские земли в судьбах История 141 славянства и в русских исторических изучениях». Монография была несколько раз переиздана. Её логическим продолжением стала брошюра «Великая война и карпато-дунайская монархия (К освещению вопросов недалёкого будущего)», вышедшая в этом же году [31]. К.Я. Грот был награждён орденами св. Владимира III ст., св. Анны II ст., св. Станислава I ст., медалями «В память императора Александра III» и «В память 300-летия царствования дома Романовых» [4: 449; 47: 467]. Всю жизнь К.Я. Грот, как и его отец, всегда старался оказать помощь другим исследователям. Примером тому служит его многолетняя переписка с А.К. Жизневским, одним из основателей Тверского музея и первым председателем Тверской губернской учёной архивной комиссии. К.Я. Грот высоко оценивал деятельность учёного из провинции: «Это прекрасное дело, за которое Вам будет обязано потомство, и примеру Вашему должны бы следовать во всех местностях России, но жаль, что таких просвещённых деятелей, как Вы, у нас мало» [6: 162]. После революции 1917 г. К.Я. Грот несколько лет управлял вверенным ему архивом, затем после реорганизации архивов, вышел в 1923 г. на пенсию [41: 686]. В конце жизни он заботился о передаче семейных архивов в советские учреждения. В частности, он передал архив Я.К. Грота в Музей русской литературы [41: 686]. О том, что К.Я. Грот принял новый строй свидетельствуют его размышления в записке «Мой взгляд на переживаемую эпоху» (1930).В ней учёный выразил «свой взгляд и своё отношение к происшедшему великому перевороту в нашей истории, к пролетарской диктатуре, новому политическому и социальному строю и вообще к современному положению России в Европе и в отношении к капиталистическому миру» [50: 389]. Он писал, что его «прежняя дореволюционная идеология об образовательном и культурном подъёме народа на степень сознательного участия и роли в государственной жизни России, уже в известной мере освещала образовавшееся у меня скоро принципиальное положительное отношение к великому историческому перевороту, вызванному революцией, к пролетарской диктатуре, к утверждению значения и решающей роли в государственном управлении народных масс - в лице рабочих и крестьянства, а затем и к основной идее социализма, именно: безусловного равенства и братства людей и бессословности, - так как такое мировоззрение вполне совпадало с моими христианскими религиозными воззрениями или, вернее, с моими нравственными принципами в понимании религии не в смысле той или другой церковности или исповедания, а в смысле веры в какое-то высшее, непостижимое человеческому уму начало» [50: 391]. 142 g J Ml ci ii I 2022. № 67 В конце 1933 - начале 1934 г. начались аресты учёных, закончившиеся ликвидацией организационных структур славяноведения. Пострадали знакомые К.Я. Грота. Вероятно, эта тяжёлая обстановка повлияла на Константина Яковлевича [50: 309]. Он умер 29 сентября 1934 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище. К.Я. Грот был действительным членом Петербургского отделения Славянского благотворительного общества (с 1864 г., с 1915 г. - почётный член) и Русского географического общества (с 1901 г.), членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академия наук (с 1917 г. - Российская академия наук), Чешской академии наук и искусств (с 1903 г.) и Общества любителей древней письменности (с 1905 г.), почётным членом Сербской королевской академии наук (с 1892 г.), Археологического отдела Чешского музея (с 1904 г.), Пушкинского лицейского общества (с 1911 г.) и Археологического института в Петербурге (с 1913 г.) [41: 699; 58: 451]. В своё время Л.П. Лаптева отметила малое количество литературы о К.Я. Гроте, хотя он прожил долгую жизнь и пережил большинство своих современников. Нам, как и Л.П. Лаптевой [41: 677], не удалось отыскать ни одного некролога в советских изданиях. Это, вероятней всего, было из-за «дела славистов» и разгрома славяноведения в СССР в 1934 г. Л.П. Лаптева условно разделила все творчество К.Я. Грота на три части: исследования древнего периода истории славян, освещение вопросов, связанных с развитием славянской духовной культуры в новое время и изучение состояния славяноведения и деятельности учёных славистов второй половины XIX - начала XX в. Также он писал путевые очерки, рецензии, статьи в энциклопедии и словари [41: 687]. Значительное количество исследований К.Я. Грота посвящено истории Карпато-Дунайских земель, в них уделено внимание и русинской проблематике. В магистерской диссертации «Моравия и мадьяры с половины IX по начало Х веков» (1881) предметом его исследования стали «образование и судьба Великоморавского политического союза на среднем Дунае; упорная борьба его с Восточно-Франкскою державой, настойчиво и последовательно стремившеюся, со времени торжества над аварами, к порабощению славянских племён на Дунае и к распространению на восток своего политического и церковного господства; духовно-просветительская деятельность незабвенных апостолов св. Кирилла и Мефодия; успехи немцев в борьбе за церковную власть и в деле германизации восточно-альпийской территории и Паннонии; наконец, вторжение в великую Дунайскую раввину мадьяр, давших История 143 новый, неожиданный поворот истории этих стран, их поселение здесь, покорение Моравии, а затем решительное торжество над немцами, надолго отброшенными этой победой от среднего Дуная» [10: IX]. Последний тезис учёный будет развивать в последующих своих работах. В предисловии автор «выразил искреннюю признательность» В.И. Ламанскому за оказанное «содействие многими полезными советами, указаниями и замечаниями, a также и другим лицам» [10: XXIV]. Работа состоит из предисловия, четырёх глав («Вступительный очерк: взгляд на судьбу средне- и нижне-дунайских земель до начала IX в.», «Очерк политических отношений на среднем Дунае перед мадьярскими погромами», «Мадьяры: их выселение, странствования до водворения на среднем Дунае», «Поселение Мадьяр на среднем Дунае и Тиссе и их торжество в борьбе с Моравией и Восточно-Франкской державой»), общих заключений о перевороте, произведённом мадьярами на среднем Дунае, указателе личных и географических имён [10: I-VIII]. В диссертации автор пишет: «славянское население, расположившееся в восточно-дунайских землях, т. е. Молдавии, Трансильвании и может быть отчасти Валахии, и ныне оставившее на себе следы лишь в местной номенклатуре, было русское, т. е. совершенно однородное с тем, которое соседило с ним на востоке, в пределах нынешней России (по Днестру, Днепру, его притокам и севернее). To же русское население издавна заняло и северо-восточный прикарпатский край Угрии, на север от Трансильвании, откуда оно затем распространилось на запад и юго-запад, колонизировало, вероятно, весь северо-восточный угол тиссо-дунайской равнины и восточные окраины Угрии» [10: 63]. Он ссылался на мнение австрийского историка и географа Р. Рёсле-ра, который сделал вывод «не столько на исторических соображениях и известиях (вообще очень скудных), сколько главным образом на топографической номенклатуре в Молдавии, Трансильвании и в их соседстве», которая «решительно свидетельствует о том, что когда-то распространённое здесь славянское население было именно русское. Действительно, о существовании некогда в Трансильвании русского населения свидетельствуют такие названия мест, которым уже присуще обозначение русских (напр., Reussdorf, Reussen, Reussmarkt, Russberg, Russholz, Oroszfaja, Oroszfalu, Oroszmezo и т. д.)» [10: 65-66]. К.Я. Грот подчеркнул, что «славянское население территории древней Дакии в своей главной массе (главным образом, в Трансильвании, Молдавии и северо-восточной Угрии) принадлежало русской ветви, но очень может быть, что в Валахии, как мы уже выше высказали предположение, славяне были одноплеменны со славянами болгарскими» [10: 94]. Он упомянул, что «в южных степях России, в этой 144 g J Ml ci ii I 2022. № 67 Лебедии Константина Багрянородного мадьяры впервые ближе познакомились с тем племенем, от которого им позднее пришлось ещё столько заимствовать и в государственном, и в домашнем быту, и в нравах, и в языке. Кое-что из этой славянской стихии, наверное, привилось к ним уже в эпоху их общения с русскими славянами между Днепром и Доном (а затем и в Ателькузу''). Это первоначальное славянское влияние - в противоположность хозарскому - происходило исключительно в сфере внутреннего, домашнего и семейного быта, вседневных житейских отношений, а тем самым должно было уже тогда отчасти проникнуть и в язык. Среди русских славян мадьяры познакомились впервые ближе с оседлою земледельческою жизнью, с её трудами, занятиями и обстановкой» [10: 220]. Упоминая о том, что «большая часть черноморской равнины от Днепра до нижнего Дуная была населена в ІХ веке (хотя и негусто, конечно) русскими славянами», об этом говорит Нестор, однако известия в летописи об этом скудны, искажены, и трудно определить «какие именно русские племена заселяли эту равнину, насколько она простиралась на запад» [10: 275]. Не позже конца IX в. племена уличей и тиверцев были оттеснены печенегами на север [10: 277]. К.Я. Грот считал, что мадьяры застали в «Ателькузу», тиверцев, которые до этого были частично истреблены, частично вытеснены печенегами, оставшихся мадьяры поработили. Т. е. мадьяры вступали в контакт со славянами в Лебедии (Леведии), нижнем Дунае (Ателькузу) и на новой родине на среднем Дунае [10: 279]. «Поселившись на новой территории, мадьяры приобрели и новых соседей. Соседями этими были: на север и северо-восток, вдоль гор Карпатских - довольно многочисленные славяне: с одной стороны соплеменные моравским славянам (предки нынешних словаков), с другой - русским; на востоке - славяне Трансильвании, принадлежавшие также к русской ветви, и затем, хотя и немногочисленное, но все-же составлявшее важный этнический элемент, горное романское (валашское) население; на юго-восток, в прежних мадьярских жилищах - печенеги, которые, впрочем, соседи с мадьярами не непосредственно; на юге, за Дунаем - частью болгары, частью хорваты; на юго-западеа и западе словенское население и немецкие владения Восточной марки; наконец на северо-западе - славяне Моравского княжества» [10: 512-514]. Автор делает вывод, «что если мадьяры своим вторжением в дунайскую равнину и поселением в ней и нанесли глубокую рану славянам и стали для них причиной многих бедствий и в прошедшем, и в настоящем, зато своим своевременным вмешательством в жестокую борьбу немецкой народности с дунайскими славянами и История 145 неизмеримым вредом, нанесённым Германии и всему западу, они в конце концов дали благоприятный оборот славянскому делу на Дунае в IX веке и надолго остановили дальнейший рост политического, культурного и всякого вообще преобладания немцев на среднем Дунае, принимавшего тогда уже значительные размеры и грозившего действительно великим и роковым для всего западного славянства несчастием» [10: 422-423]. В рецензии на диссертацию К.Я. Грота член-корреспондент Императорской академии наук в Санкт-Петербурге по Отделению русского языка и словесности В.В. Макушев отметил, что этот труд «составляет драгоценный вклад в историческую науку: он решает весьма важный вопрос об историческом значении "мадьярского погрома", т. е. о вторжении мадьяр в великую дунайскую равнину, о покорении ими Моравии и о торжестве их над немцами». Рецензент привёл две точки зрения на вторжения мадьяр: общераспространённую, что «мадьярский погром был одним из величайших бедствий, когда-либо постигших славянство» и точку зрения, поддерживаемую немногими учёными, что «от мадьярского погрома более пострадали немцы, чем славяне». Справедливость последнего взгляда «неопровержимо доказал г. Грот в своей диссертации». В.В. Макушев в заключении написал: из «перечня вопросов, рассмотренных г. Гротом в его диссертации, видно, что она имеет важное значение для истории не только западных славян, но и русских, мадьяр и даже немцев» [43: 149, 152]. В 1883 г. в «Известиях Императорского Русского географического общества» была опубликована полемика Н.Я. Данилевского с К.Я. Гротом по поводу ряда положений последнего в работе «Моравия и мадьяры с половины IX по начало Х веков». В своей монографии учёный показал путь переселения мадьяр на место их нынешнего жительства. Он отметил, что во время переселения мадьяры делал как минимум две значительные остановки: в степях южной России между Доном и Днепром («Лебедия» Константина Багрянородного) и в низовьях Дуная (местности, называемой Багрянородным Атель-кузу, часть Бессарабии и Молдавии), оттуда они и двинулись в долину Тисы [36: 220-221]. Касаясь пути мадьяр в Лебедию (вопрос о её нахождении до сих пор является дискуссионным. - С.С.), К.Я. Грот считал, что они шли по Каме и Волге на Оку, затем вверх по Оке к верховьям Дону. На Оке они пошли «торговым путём» «перевалом на Дон к хазарам» [36: 227]. Н.Я. Данилевский считал данный путь «невозможным». Этими путями мадьяры «идти не могли», они бы «перемерли бы с голоду». Он считал, что мадьяр было от 80 до 100 тыс. чел. и они шли скученно, распугивая дичь, которой было не так много, рыбы тоже было 146 g J Ml ci ii I 2022. № 67 бы недостаточно. Исследователь приводит примеры из настоящего времени. По прибытии в Лебедию тоже питаться было нечем. Он считал, что путь мадьяр надо разделить на две части: «из их финской прапрародины, Биармии - лесной Пермской или Вятской губернии в их степную прародину, где они ономадились, и второй: из этой последней в Лебедию». «Промежуточной станцией» Н.Я. Данилевский считал восточную часть Уфимской и северную часть Оренбургской губерний, т.е. предгорье южного Урала. Здесь они «обашкирились», т. е. стали «вполне кочевниками». Н.Я. Данилевский считал, что «Лебедия это - степь, следовательно нет никакой надобности помещать её в окрестности Лебедяни и Лебедина в губернию Курскую и в северную часть Харьковской и Воронежской, а прямо в Таврическую, Екатеринославскую и южную часть губерний Воронежской, Харьковской и Полтавской, т. е. в ту самую страну, в которой и всегда жили кочевники, преемственно изгонявшие друг друга, откуда и мадьяр выгнали печенеги и заставили переселиться в другую часть той же степи, в Заднепровсккую "Ателькузу"», куда они уже прибыли настоящими кочевниками [36: 231-242]. Отвечая на замечания К.Я. Грот отметил, что численность орды Данилевский сильно преувеличивает, вряд ли мадьяры двигались скученно, подобно войску; в лесах в то время дичи было в изобилии; рыба служила только дополнительным источником питания, да и в то время её водилось больше; в ту пору Волга и Ока были шире и многоводнее, чем ныне и на их берегах не могло быть густого леса, учитывая постоянные разливы и изменения русла рек. Учёный согласился с оппонентом, что местоположение Лебедии могло быть южнее, что объяснение происхождении названия Лебедия может быть от травы лебеда (у венгров родственный вид травы - дикий шпинат - называется laboda). Однако этим Н.Я. Данилевский «подрывает только-что упомянутое своё мнение об исконном существовании лесов в Южной Руси» [6: 244-246]. В 1883 г. в «Сборнике статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В.И. Ламанского по случаю 25-летия его учёной и профессорской деятельности» вышла статья К.Я. Грота «Новые труды по истории Венгрии». В ней он отметил «необычную и оригинальную судьбу» историографии Угрии. Хотя ей посвящали свои труды не только мадьяры, но и представители исторической науки других европейских наций, «едва ли прошлое какой-либо другой страны в Европе обработано так ещё неполно, несовершенно и односторонне» [12: 58]. Население старой Угрии (Венгрии), писал автор, состояло «с самого её образования из двух главных элементов, славянского и мадьярского, к которым уже гораздо позднее присоединился История 147 первоначально малочисленный, и лишь в последствии, особенно в Новейшее время, сильно размножившийся пришлый румынский элемент». Причём, «мадьяры и славяне - вот народности, которые создали древнюю Угрию, которым она обязана своим могуществом и значением в долгий период своего самостоятельного бытия» [12: 59]. К.Я. Грот подчеркнул, что «чем одностороннее и пристрастнее работы немцев и мадьяр по истории Угрии, тем желательнее является разработка этой истории славянскими вообще, и, в частности, русскими учёными. К сожалению, до сих пор славянская историческая наука вообще далеко не достаточно вводила Угрию в круг своей деятельности, не останавливала на ней того внимания, которое она заслуживает» [12: 60]. Автор указал, что средневековая Угрия выросла и развивалась «на чисто-славянской почве, по преимуществу из славянских элементов, под непосредственным воздействием славянского духа». Он считал, что русские учёные, «стоя совершенно вне мелкой национальной и политической борьбы в Австро-Венгрии» могли бы заняться разработкой истории угорского государства. «Они в своих исследованиях могу
Ключевые слова
венгры,
русины,
Угорская Русь,
Галиция,
Венгрия,
Карпато-Дунайские земли,
Карпатская Русь,
Константин Яковлевич ГротАвторы
| Суляк Сергей Георгиевич | Санкт-Петербургский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент кафедры истории народов стран СНГ Института истории | s.sulyak@spbu.ru |
Всего: 1
Ссылки
Geni.com. Каролина Ивановна Грот (Стивенсон) [Электронный ресурс] URL: https://www.geni.com/people/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82/4482833062600076617 (дата обращения 10.01.2022).
Яцимирский А. Очевидец. Галицкая Русь прежде и ныне. СПб. 1907 // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1908. Т. 111. Январь-март. С. 714-715.
Francev V.A. K.J. Grot. V Praze: Nákladem Ceské akademie ved a umení, 1935. 56 s., portrét.
Ю.Ш. Грот Константин Яковлевич // Славянская энциклопедия. В 3 т. / Гл. редактор О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2020. Т. 1. А-К. С. 451-452.
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 597. Екатерининский собор в Царском селе. 1853 г. Л. 48 об.-49.
Штур Л. Славянство и мир будущего. С биографией Л. Штура и доп. примеч. проф. Т.Д. Флоринского и портр. авт. / Под ред. К.Я. Грота и Т.Д. Флоринского. Пер. неизд. нем. рукописи, с примеч. Владимира Ламанского. СПб.: О-во ревнителей русского исторического просвещения, 1909. XLVIII, 176 с., 1 л. портр.
Штур Л. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная. Пер. неизд. нем. рукописи, с примеч. Владимира Ламанского. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1867. [2], VI, 191 с.
Фёдоров Е. Константин Яковлевич Грот и родоведение. К 150-летнему юбилею [Электронный ресурс] URL: http://www.ostrov.ca/kgrot (дата обращения 10.01.2022).
Штакельберг Ю.И. Грот Константин Яковлевич // Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М.: Наука, 1979. С. 134-136.
Устав Русского собрания [утверждён 26 января 1901 года]. СПб.: типо-лит. В.В. Комарова, 1901. 15, [1] с.
Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян / Отв. ред.: академик Д.Ф. Марков, доктор исторических наук В.А. Дьяков. М.: Наука, 1988. 400 с.
Робинсон М.А. К.Я. Грот - общественные взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // Славянский альманах 1997. М.: Индрик, 1998. С. 196-210.
Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 - начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 432 с.
Робинсон М.А. Методологические вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX - начала XX в. (В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский, К. Я. Грот) // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 1986. С. 91-112.
Придворный календарь на 1916 год. Пг.: Т-во Р Голике и А. Вильборг [1915]. VIII, 769 с.
Пичета В. К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941. № 3. С. 36-62.
Памяти академика Якова Карловича Грота (род. 15 декабря 1812 г., сконч. 24 мая 1893 г.). Торжественное чествование 100-летней годовщины его рождения Императорской Академии наук 16 дек. 1912 г. Речи академика А.А. Шахматова, профессора. Е.В. Петухова и П.О. Морозова. Воспоминания академика И.В. Ягича и почётного академика А.Ф. Кони // СОРЯС. Т. 90. 1913. № 3. С. I-VI, 1- 87.
Немцы России энциклопедия. Т. 1. А-И / Редкол: В. Карев (пред. редкол.) и др. М.: «ЭРН, 1999. 832 с.
Макушев В. Три магистерских диссертации по славянской филологии // Русский филологический вестник. 1882. Т. 7. С. 140-156.
Лаптева Л.П. История славяноведения в России в конце XIX -первой трети XX в. М.: Индрик, 2012. 840 с.
Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. М.: Индрик, 2005. 848 с.
Лаптева Л.П. Жизненный путь и творческая деятельность историка-слависта А.Н. Ясинского // Славянский альманах 2008. М.: Индрик, 2009. С. 97-148.
К. Г-ъ (Грот К.Я.) О.А, Мончаловский. Житие и деятельность Ивана Наумовча. Изд. полит. Общ. «Русская Рада» во Львове. Стр. 112. Ц. 50 к. // Новое время. 1899. № 8501. 28 октября (7 ноября). С. 7.
Книжные новости. Галицкая Русь прежде и ныне // ЖМНП. Новая серия. 1908. Январь. Ч. 13. С. 255.
Зигель Ф.Ф. Я.К. Грот. Австро-Венгрия или Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. Петроград. 1914 ЖМНП. Новая серия. Ч. 56. 1915. Апрель. С. 355-368.
Данилевский Н.Я., Грот К.Я. О пути мадьяр с Урала в Лебедию. Заметки Н.Я. Данилевского и К.Я. Грота // Известия Императорского Русского географического общества. Т. 19. 1883. Отд. 2. Вып. 3. С. 220-246.
Грот Яков Карлович (1812-1897) // Русские филологи XIX века. Биобиблиографический словарь-справочник / Авт-сост. М.Е. Бабичева [и др.]. М.: Совпадение, 2006. С. 179-184.
Грот К.Я. Curriculum Vitae. Санкт-Петербургский филиал архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 281. Оп. 1. Д. 139. Л. 14-19 об. [Электронный ресурс] URL: http://www.ostrov.ca/kgrot/cv.htm (дата обращения 10.01.2022).
Грот К.Я. Владимир Иванович Ламанский (умер 19 ноября 1914 г.) // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Т. 139. 1915. Январь. С. 208-229.
Грот К.Я. Владимир Иванович Ламанский ([ум.] 19 ноября 1914 г.). Пг.: тип. А.С. Суворина «Новое время», 1915. 25 с., портр.
Грот К.Я. Великая война и Карпато-Дунайская монархия (К освещению вопросов недалёкого будущего). СПб.: тип. Министерства путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), [1914]. 10 с.
Грот К.Я. Австро-Венгрия или Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. Пг.: тип. Министерства путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1914. VI, [2], 118 с.
Грот К. И.П. Филевич (Некролог) // ЖМНП. Новая серия. Ч. 45. Отд. IV. 1913. Май. С. 26-46.
Грот К.Я. Материалы для жизнеописания академика Якова Карловича Грота (1812-1893). Вступительный очерк. Предки, семья, детство (К 100-летней годовщине рождения академика 15 декабря 1912 г.) // СОРЯС. Т. 90. 1912. № 1. С. 1-70.
Грот К.Я. Материалы для жизнеописания академика Якова Карловича Грота. (1812-1893). Хронологический обзор его жизни и деятельности (100-летней годовщине рождения академика 15 дек. 1912 г.). СПб.: тип. Министерства путей сообщения. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1912. 51 с.
Грот К.Я. Пушкинский лицей (1811-1817). Бумаги 1 курса, собр. акад. Я.К. Гротом. С прил. портр., факс. и рис., а также некоторых бумаг 3 и 6 курсов. СПб.: тип. Министерства путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1911. XXIV, 461 с., 4 л. ил.
Грот К.Я. Памяти Антона Семёновича Будиловича // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1909. Т 115. Март. С. 1097-1122.
Грот К.Я. Император Александр III в отношениях своих к наставнику своей юности (Я.К. Гроту). (Несколько документов и современных свидетельств). СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1906. 6 с.
Грот К.Я. Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях // Новый сборник статей по славяноведению. Сост. и изд. учениками В.И. Ламанского, при участии их учеников, по случаю 50-летия его учено-литературной деятельности. СПб., 1905. С. 69-140.
Грот К.Я. К истории славянского самосознания и славянских сочувствий в русском обществе (из 40 годов XIX столетия). Отдельный оттиск из №№ 195, 196, 197 и 198 «Правительственного вестника». СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, [1904]. 14 с.
Грот К.Я. Памяти Адольфа Ивановича Добрянского // Известия С.Петербургского Славянского благотворительного комитета. 1902. № 3. Декабрь. С. 16-22.
Грот К.Я. Об изучении славянства. Судьба славяноведения и желательная постановка его преподавания в университете и средней школе. СПб.: тип. Министерства путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1901. [4], 64 с.
Грот К.Я. Славяноведение // ЭСБЭ. Т. XXX: Сим - Слюзка. СПб.: Типография Акц. обш. «Издательское дело», Брокгауз - Ефрон, 1900. С. 294-306.
Грот К.Я. А.Н. Ясинский. «Падение земского строя в Чешском государстве. X-XIII вв.» Киев, 1895. Рецензия профессора К.Я. Грота / Отчёт о присуждении премий проф. А.А. Котляревского в 1898 г. // СОРЯС. Т. 66. 1900. № 6. С. 106-200.
Грот К.Я. Мадьяры и славяне в прошлом. Исторические справки о славизме в государственной жизни Угрии. Речь, составленная к торжественному акту в Императорском Варшавском университете 30 августа 1893 г. Варшава: типография Варшавского учебного округа, 1893. [2], 34 с.
Грот К.Я. История Венгрии // ЭсБэ. Т. Va (1892): Вальтер - Венути. СПб.: Гипотипография И.А. Ефрона, 1892. С. 887-896.
Грот К.Я. Из истории Угрии и славянства в XII веке (1141-1173). Варшава: тип. М. Земкевич, 1889. XX, 424, LXXVIII с., 1 л. табл.
Грот К.Я. Новый немецкий труд чешского слависта (J.L. Pic. Zur rumanisch-ungarischen Steitfrage. 1886). Критические заметки К.Я. Грота. СПб.: тип. В.С. Балашева, 1886. 45 с.
Грот К.Я. Взгляд на подвиг славянских первоучителей с точки зрения их греческого происхождения // Мефодиевский юбилейный сборник, изданный Императорским Варшавским университетом к 6 апреля 1885 года, под ред. орд. проф. А. Будиловича. Варшава: тип. К. Ковалевского, 1885. С. 1-22.
Грот К.Я. Новые труды по истории Венгрии // Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В.И. Ламанского по случаю 25-летия его учёной и профессорской деятельности. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1883. С. 57-98.
Грот К.Я. Вступительная лекция профессора К.Я. Грота, читанная в Императорском Варшавском университете 16 сентября 1883 г. [Варшава, 1883]. 27 с.
Грот К.Я. Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1881. [2], XXIV, 437 с.
Галицкая Русь прежде и ныне. Исторический очерк и взгляд на современное состояние Очевидца. СПб.: О-во ревнителей рус. ист. просвещения в память имп. Александра III, 1907. [6], 104 с.
В.Ф. [Францев В.А.] Об изучении славянства // Варшавский дневник. 1901. № 13. 14 (27) января. С. 2-3.
В.Ф. [Францев В.А.] Об изучении славянства // Варшавский дневник. 1901. № 11. 12 (25) января. С.2.
Воробьева И.Г., Штыков Н.В. Славист К.Я. Грот и исследователь Тверского края А.К. Жизневский (по данным переписки) // Славянский альманах: 2008. М.: Издательство «Индрик», 2009. С. 149-164.
Васильевский В.Г. Из истории Угрии и славянства в XII веке. [Соч.] Константина Грота. Варшава, 1889. СПб.: тип. Императорской академии наук, 1892. 7 с.
Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917). Т. I. А-З / Сост. Е.Л. Потемкин. М., 2017. 622 с.
Библиографические перечни учёных и учено-литературных трудов учеников В.И. Ламанского и их учеников. К.Я. Грот // Новый сборник статей по славяноведению. Сост. и изд. учениками В.И. Ламанского, при участии их учеников, по случаю 50-летия его учено-литературной деятельности. СПб., 1905. С. XXVI-XXX.
Бестужев-Рюмин К.Н. Яков Карлович Грот (Некролог) // ЖМНП. Ч. 288. 1893. Июль. Отд. 4. C. 12-17.
А. Б-в. Из истории Угрии и славянства в XII веке (1141-1173), исследование Константина Грота. Варшава, 1889. Критика и библиография // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1890. № 39. Январь. С. 200-202.
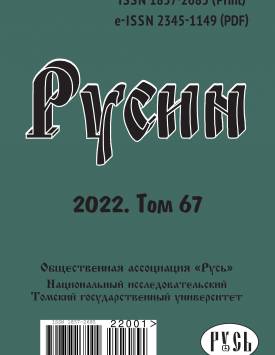

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью