Русины Холмщины и Бессарабии в системе взглядов А.Ф. Филиппова на окраины Российской империи
Анализируются взгляды Алексея Фроловича Филиппова на «русинский» вопрос на Холмщине, в Бессарабии и других регионах. Высказывания Филиппова с 1890-х по 1930-е гг. вписаны в контекст его общественной деятельности, его взглядов на проблемы различных окраин Российской империи и сопредельных территорий в целом. Анализ взглядов Филиппова на «национальный вопрос» охватывает как его политические проекты, так и позицию органов печати под его руководством. Уделено внимание становлению политической позиции мыслителя в молодые годы, опыту его проживания в многоэтничном Могилеве и участия в студенческих землячествах в Московском университете. Подробно рассматривается поездка Филиппова к русинам Холмщины как поворотный пункт в становлении его программы, имперской и националистической в одно и то же время. Рассматривается место «окраин России» в контексте редакторской программы Филиппова в журнале «Русское обозрение» 1901-1903 гг., с особым вниманием к истории русского присутствия в Бессарабии. Представлен обзор деятельности мыслителя на окраинах России в 1904-1911 гг. и обновлённая национал-демократическая программа периода его политической активности в Петербурге в 1912-1914 гг. Продемонстрирована преемственность взглядов Филиппова на расширение империи после Октябрьской революции на его службе советской власти в 1917-1921 гг. Вопрос об отношении мыслителя к русинам связывается с общей методологической проблемой имперских окраин в русской консервативной мысли. Обосновывается тезис о единстве подхода Филиппова к окраинам в духе «имперского национализма».
The Rusins of Chetm Land and Bessarabia in Aleksey Filippov’s views about the outskirts of the Russian Empire.pdf Целью данного исследования является прояснение характера взглядов Алексея Фроловича Филиппова (1869-1936) на русинов Холмщины, Бессарабии и Галиции и места этих взглядов в общей системе его политических воззрений. Случай Филиппова - мыслителя малоизвестного - примечателен для историка тем, что этот замечательный журналист, публицист, издатель, редактор, государственный 190 g J Ml ci ii I 2022. № 67 служащий, банкир, разведчик, чекист, церковный администратор стал возможен. как тип личности исключительно благодаря Российской империи и тем широким возможностям, которые она предоставляла выходцам с окраин. Деятельность А.Ф. Филиппова, полную авантюрных приключений, рассматривали различные историки русской журналистики, банковского дела, историки ВЧК, а также биографы известных государственных деятелей, имевших знакомство с Филипповым. Тем не менее лишь немногие исследователи касались его деятельности на окраинах Российской империи. В.С. Антонов и первый биограф Филиппова С.К. Лебедев уделили внимание лишь его финляндской эпопее [4: 20; 15: 158-159]. А.А. Чемакин кратко коснулся проблематики взглядов данного мыслителя на «окраинный и инородческий вопрос» [45: 172]. В наиболее полной на сегодняшний день биографии Филиппова, принадлежащей М.В. Медоварову [20], отсутствует отдельная глава о восприятии окраин во взглядах мыслителя и постановка такого вопроса, а соответствующие сведения разбросаны по различным главам. Поэтому данное исследование заполняет возникшую смысловую лакуну и основано, в первую очередь, на материалах архивной переписки и периодической печати. Филиппов родился в 1869 г. в Могилеве, на территории нынешней Белоруссии. Его отец был крещёным в эпоху Николая I евреем-канто-нистом, солдатом Преображенского полка, а затем работал швейцаром в женской гимназии. Мать была русской кухаркой. В документах сословная принадлежность Филиппова указывалась «из мещан» [35: 3], однако он это обычно скрывал и предпочитал писать в анкетах «русский,из крестьян». В Могилеве по переписи 1897 г. половину населения составляли евреи, более 5 % приходилось на долю поляков, немцев, латышей [28: 50-51, 94-99]. Филиппов вырос с расщепленной идентичностью, в окружении иноверцев. Он целыми днями присутствовал на религиозных праздниках в синагоге, костёеле, кирхе, а не только в православной церкви [24: 4 об.-5]. Воспитатель Филиппова - немец Ю. фон Гюнтер, выпускник Дерптского университета - ненавидел всё русское, был участником польского восстания 1863 г. и поклонником немецкой культуры [27: 48 об.-49]. Поэтому русский патриотизм Филиппова изначально нёс в себе заряд критической рефлексии. За семь лет обучения на юридическом факультете Московского университета (1889-1896 гг.) Филиппов успел получить богатый опыт наблюдения за межнациональными отношениями. Созданное белорусами Северо-Западное землячество студентов оказалось неспособным к какой-либо серьезной активности [39: 393]. Даже в История 191 литературном кружке для студентов из Могилева не было белорусов: помимо Филиппова, там были представлены только малоросс, еврей, поляк и «румын» (вероятно, молдаванин из Бессарабии). В эти годы Филиппов сделал вывод о неспособности великорусов и белорусов к самоорганизации. Совершенно иной уровень сплочённости и активности землячеств он видел у малорусов, у поляков, армян, немцев, чехов, сербов. По воспоминаниям Филиппова, все они знали и горячо любили свою культуру. Великорусы же не интересовались родным краем, не ценили родную литературу и танцы, а из народных песен знали лишь революционные и «пьяные». Один из студентов-«украинцев», занимавшийся «разработкой малороссийских сказаний», сгоряча сказал Филиппову, что «великороссы самый тупой и в то же время самый мошеннический народ» [39: 386]. Поражаясь прочнейшим корпоративным связям немецких выпускников Дерпт-ского университета, Филиппов «благоговел» перед ними [39: 368]. В противоположность этому, сетовал он, «мы, интеллигентные русские, вообще не можем преодолеть ни одного чужого, инородческого влияния, потому что у нас мало собственного устойчивого начала, мы не любим своей родины, не знаем и не имеем времени знать её !» [39: 384]. «Пусть попробует кто-либо заикнуться - я не говорю о большем, а только о русской пляске, русских костюмах - его осмеют! И как ещё!!» - возмущался Филиппов. Он отмечал, что «поляки, малороссы, не говоря уже об армянах и евреях, относятся с полнейшим пренебрежением ко всем проявлениям русского национализма среди студентов и менее всего склонны заимствовать что-либо у русских» [39: 386]. Публицист заключал, что «антинациональны чисто русские студенты в Москве. В студенчестве отражаются симпатии русского общества ко всему нерусскому и наше национальное свойство стыдится всего, что у нас есть хорошего, выставлять напоказ всему миру свои дурные и грязные стороны» [39: 386]. Сделав вывод, что «русские представляют из себя стадный элемент, подстрекаемый в некоторых случаях энергичными вожаками» [39: 383], Филиппов решил искать пути к перевоспитанию молодежи в русском национальном духе: «Нужно личным положительным примером показать путь, по которому должен идти русский человек». Тогда же он решил привлекать к делу укрепления государства российского ассимилированных инородцев: «Так легко и свободно превращаются свободомыслящие евреи в защитников православия, мнимые анархисты в воскурителей фимиама самодержавию и упорнейшие немцы в членов славянского взаимовспомогательного общества, славянофилов по оболочке» [39: 387]. Веру в это мыслитель сохранит на всю жизнь. 192 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 Вся дальнейшая деятельность Филиппова как редактора, издателя, журналиста с 1896 по 1914 г. протекала под знаком его двойной национальной идентичности и противоречивых рассуждений о «национальном вопросе». В зависимости от собеседника или корреспондента, он мог представлять себя националистом или противником национализма,«истинно русским» или евреем. Это влекло для Филиппова трудности в публичном обозначении своей позиции. Первым случаем проявленного интереса Филиппова к окраинам Российской империи стал выполненный им перевод книги английского путешественника О. Тревора-Бетти об арктическом острове Колгуев с соответствующим предисловием, проникнутым имперской риторикой [37: 3-4]. Однако после данного эпизода внимание Филиппова надолго приковывается к западнорусским землям в целом и к русинскому вопросу в частности. В І896 - 1898 гг. Филиппов написал книгу для чтения по истории России, предназначенную для церковно-приходских школ и вплоть до весны 1899 г. безуспешно пытался добиться ее издания в типографии Синода [18]. В этой книге большое внимание было уделено отстаиванию русского характера Прибалтики и Великого княжества Литовского. Филиппов собирался отправить свое пособие на конкурс на премию имени М.Н. Муравьёва, а в апреле 1899 г. представил на этот конкурс ещё один свой учебник по истории Северо-Западного края и православия в нём [27: 62-65]. Вопрос о русинской идентичности в Подляшье и Холмщине должен был там встать особенно остро. К сожалению, текст обоих пособий не был напечатан и считается утерянным. Осенью 1898 г. Филиппов попытался внести практический вклад в решение русинского вопроса и две недели провел в Тересполе на Холмщине, где православное духовенство вело отчаянную борьбу за эту древнерусскую землю с доминировавшим в ней польским влиянием. Мыслитель пообщался со священниками и новым варшавским архиепископом Иеронимом (Экземплярским), присутствовал на освящении нового храма, сбор средств на ремонт которого велся путем объявлений в «Московских ведомостях» по инициативе самого Филиппова. Во время церемонии он сказал: «Одержана духовная победа над врагами внешними - польским элементом и врагами внутренними - их не назову - которые в тысячи раз сильнее и опаснее всех противодействующих инородцев, взятых вместе» [26: 35]. Филиппов пришел к заключению, что нужна целая программа «по слиянию Холмщины с остальной Русью. Не сыск, не борьба с упорствующими и католицизмом путем доносов, штрафов и строгостей, а культурное движение русских церковных начал, самоусовершенст- История 193 вование и усовершенствование окружающей среды. Всё это довлеет духовному воинству!». Мыслитель сожалел, что «здешние условия борьбы с католицизмом создали из пастырей православной истины полуозлоблённых фанатиков» [26: 35 об.], и призывал священников одолеть «полонизм» не насильственными мерами, а самоотверженным служением, постройкой храмов, школ, читален [26: 36 об.]. В нездоровых явлениях на нищей Холмщине Филиппов винил правительство, отмечая, что «в 1875 г. администрация нагайками - буквально, а не переносно - вогнала униатов в церковь к воссоединению по бумажному проекту лиц, с жизнью малознакомых или от жизни удалившихся, народ проникся ненавистью ко всему, что носит на себе печать русского, а любовью к духовенству, помимо этого, не мог проникнуться и потому, что администрация вела себя крайне пренебрежительно к священникам, публично обещая их выпороть (факт!)» [26: 36]. Мыслитель восклицал, что «по-настоящему, в первую голову нужно было бы пороть не униатов, а русских и привести их прежде всего к православной вере и порядочности. А то мы всё бьемся над тем, как бы “обрусить других”, и кроме нагайки не находим другого средства, а сами не знаем, в чем заключается русский дух и что мы могли бы предложить после нагайки» [26: 3636 об.]. Смелые выводы Филиппова заслужили одобрение генерала А.А. Киреева, который увидел из его отчёта «глупость и беспомощность и лживость нашей администрации (духовной и светской)», «полную беспомощность нашей администрации, не знающей, кого слушать, кому лгать, что делать» [8: 63-63 об.]. Таким образом, Филиппов в данном случае воспринял давние идеи своего наставника и патрона Киреева - одного из лучших в России знатоков польского вопроса - о выделении Холмской губернии из состава Привислинского края [19]. Поездка к холмским русинам привела к усилению националистической риторики у Филиппова, который стал представлять себя активным борцом за права русского народа на окраинах и в центре, особенно же в плане руководства газетами и журналами, принося пафосные клятвы «всенародно исповедовать национальный символ веры» [35: 11-11 об.] и «не пускать в издание ни под каким видом инородцев» [25: 22 об.]. Когда Филиппов получил в свои руки консервативный журнал «Русское обозрение», то в напечатанной большим тиражом программе редакции в 1900 г. было заявлено: «Обращать серьезное внимание на всё, что носит печать самобытной культуры, заботливо относиться к тем сословиям и группам, которые утверждают внутренний порядок, ко всем национальностям и народностям (и не одной только русской - 194 g J Ml ci ii I 2022. № 67 это было бы шовинизмом!), содействующим русскому государственному строительству и ведущим Россию по пути величия - это долг каждого литературного деятеля, который своими трудами ищет способствовать великому русскому делу» [24: 10]. Филиппов пояснял: «Стоя на этой строго национальной почве, мы находим, что любая народность имеет право не только на существование, но и на свободное развитие до тех пор, пока не обнаружит отсутствия внутренней своей жизнеспособности или государственной жизнедеятельности. Приобщение же инородцев к нам возможно только путем всестороннего ознакомления их с формами нашей самобытной культуры» [24: 10]. Заявления Филиппова вызвали недоумение и слева, и справа. В.Г. Короленко обвинил его в антисемитизме, что вызвало резкий протест со стороны мыслителя [24: 3-3 об.], а Л.Н. Майкову он пояснил, что намерен бороться за русское дело руками инородцев, поскольку сами русские неспособны защитить себя даже на окраинах империи: «Два немца и еврей всегда могут создать - и тому есть примеры - чисто националистический орган и двинуть его вперед» [34: 3 об.-4 об.]. Во избежание перекрестной полемики в печати Филиппов обещал «на некоторое время» не освещать в «Русском обозрении» «окраинные вопросы», а вместо этого вырабатывать «формы управления и быта в строго национальном духе». Однако сразу же, в первом номере обновлённого журнала в июне 1901 г., он не сдержал этого обещания. Значительное внимание в этом выпуске «Русского обозрения» было уделено полемике с этническими националистами. Филиппов настаивал, что поскольку другие народности помогают «русскому государственному строительству», следует «заботливо относиться к ним. Это правило просто приличного - не говорю мудрого - хозяина» [40: 261]. Тема западных окраин империи, специфики малорусов и русинов, была затронута в рассматриваемом номере журнала в заметке генерал-майора А.Ф. Радецкого, обратившего внимание на диспропорции в развитии центра и окраин Российской империи: на 1/7 её территории (с аналогичной пропорцией населения) располагалось, например, 6 из 10 университетов (включая Варшавский, Киевский, Харьковский, Новороссийский в Одессе). Ключевой задачей правительства Радецкий называл поднятие Центра, Заволжья, Левобережной Украины, Сибири до уровня западных окраин [31]. При этом отмечалось, что благами развития западных регионов пользуются не русские (русины, малорусы, белорусы), а проживающие там поляки, немцы и прочие «инородцы». Что касается польского вопроса, то первоначально Филиппов под псевдонимом Мысовский намеревался напечатать в своем журнале поэму «Soli Deo gloria et honor» о возвращении лирического героя История 195 на руины костёла в Мозыре (город выбран, видимо, условно, как замена Могилёва) [24: 3 об.-4]. К сожалению, текст поэмы утрачен. Филиппов не решился опубликовать её, заменив её в композиции журнала поэмой В.А. Кожевникова о борьбе запорожских казаков с крымскими татарами [12]. Кроме того, в рассматриваемом номере журнала были помещены статьи по проблемам других окраин России: Магадана и Якутии [40: 264], Охотского края и Камчатки [36], Маньчжурии [23], Монголии [1]. Целых два материала в «Русском обозрении» 1901 г. было посвящено финляндскому вопросу [22; 30]. Долго и тщательно Филиппов подбирал для своего журнала подходящего автора для статьи по еврейскому вопросу, отвергнув в итоге кандидатуру В.В. Розанова в пользу Н.П. Розанова [32]. Таким образом, вопреки своему первоначальному обещанию воздержаться от рассмотрения окраин России, редактор «Русского обозрения» 1901 года уделил ему значительное внимание, в целом подбирая материалы в духе заявленной им программы привлечения лучших сил всех народов к строительству и процветанию империи. Филиппов не изменил своей позиции и в 1903 г. В редакционной статье в своем втором журнале «Искусство строительное и декоративное» он провозглашал принцип совместимости «торжества русского духа» с уважением к «высшей и своеобразной красоте» других народностей [38: 6]. Возвращался Филиппов и к теме империи: «Россия, как одно из величайших политических явлений всемирной истории, заключая в себе удивительное разнообразие элементов как духовной жизни нескольких сотен народностей, входящих в состав её, так и внешней природы, включающей необъятность пространства, бесспорно явится в недалеком будущем источником могущественного расцвета своеобразного и самобытного искусства, очагом высших и лучших проявлений человеческого духа» [38: 6-7]. В 1903 г. Филиппов написал еще одну статью от редакции в последнем номере «Русского обозрения». В ней он противопоставлял традиционную русскую терпимость космополитизму и своеобразно корректировал наиболее спорный лозунг той эпохи: «Есть Россия физическая и Россия духовная. Да, Россия, как территория - только для русских, но Россия духовная - для всего мира! Пусть у этого великого костра мысли и духа, бодро горящего на протяжении десятков тысяч верст - греется вся вселенная и прежде всего, сами мы, русские люди, слишком далеко раскиданные друг от друга и разделенные враждебными перегородками» [41: III]. Что касается лозунга «Россия для русских», сложная и запутанная история которого раскрыта в книге А.А. Иванова [10], то 196 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 буквально каждый публицист в начале XX в. истолковывал его по-своему. Филипповскую интерпретацию сложно назвать ясной: он постоянно использовал лексику правых («истинно русские люди», «чисто русские идеи»), но столь же неизменно подразумевал под русскими представителей всех конструктивно настроенных народов России, которые отзовутся на «призыв к мирной и дружной работе на пользу отечества, к мудрому служению государственным интересам» [41: III]. В 120-страничном выпуске «Русского обозрения» за 1903 г., оказавшемся последним в истории журнала, приоритетное внимание было отдано статье некоего Д.А. с обоснованием философии национализма [9]. В этих условиях, не имея средств на продолжение и расширение журнала, Филиппов не смог уделить отдельным окраинам существенное внимание. Единственным показательным исключением стало помещение в этом номере исторической статьи А.И. Яцимирского о многовековых контактах русских царей с монастырями Молдавии и Валахии [47]. Примечательно, что данная статья открывала номер журнала и была помещена сразу после филипповского предисловия. В данной работе (к сожалению, с грубыми опечатками в датах) перечислялись разнообразные реликвии, подаренные молдавским и валашским монастырям Иваном IV, Борисом Годуновым, первыми царями из Романовых, императорами XVIII-XIX вв. Были приведены примеры русских пожертвований, отправки посольств, ремонта церквей в Дунайских княжествах, опровергнут слух о якобы ушедшей в Нямецкий монастырь дочери Петра I Марии. Тем самым территория как Бессарабии, так и Запрутской Молдовы и Валахии позиционировалась в филипповском журнале как часть исторического русского пространства с многовековым российским и русинским присутствием в ней. Интерес Филиппова к окраинам России, особенно западным и южным регионам, сохранился и в последующие годы. В 1901 г. он ездил в Грузию, а своего брата отправил служить к калмыкам, в 1904 г. сам безуспешно пытался устроиться на службу в Финляндию. В 1905 г. на краткое время он переехал в Ревель и издавал там газету «Балтийские отголоски», делая акцент на освещении жизни русских в Эстляндии и проповедуя необходимость русской колонизации Персии. С 1905 по 1911 гг. Филиппов издавал несколько газет в Екатеринодаре и Новороссийске, позиционируя их как проводников влияния русских националистов на Кубани. С января 1912 г. Филиппов перебрался в Петербург и со своим прежним знакомым по Новороссийску А.Л. Гарязиным примкнул к Всероссийскому национальному союзу [46: 154-155]. Однако с января 1913 г. они вышли из него и стали проводить в своем ежене- История 197 дельнике «Дым Отечества» специфический курс по национальному вопросу. В конечном счёте, Гарязин и Филиппов примкнули к новой партии «национал-демократов», превратив «Дым Отечества» и «Журнал для всех» в её рупоры. На страницах «Дыма Отечества» звучали чрезвычайно резкие и смелые нападки Филиппова на космополитизм целого ряда великих князей и высокопоставленных сановников, на проникновение в Россию иностранных капиталов. В этой связи вновь прозвучала тема русинов западных окраин, страдающих от немецких и австрийских колонистов. Публицисты «Дыма Отечества» уже осенью 1913 г. писали о неизбежности войны против Германии и Австро-Венгрии, о том, что эта война приведёт к ликвидации немецких колоний в России и эвакуации немцев вглубь страны. Однако условием победы в грядущей войне и воссоединения галицких русинов в Россией Филиппов считал отказ российской элиты от западничества. «Господа патриоты из всех Русских собраний и союзов, одумайтесь и подумайте об этом прежде, чем идти на Австрию и побеждать её. Победите самих себя; давайте завоюем не Балканы и Персию, а Центральную Россию и внесём в неё хоть какую-то культуру, только не сарафанную», - предостерегал публицист [42: 5]. При этом «Дым Отечества» считал неопасным украинский сепаратизм и самонадеянно смеялся над австрийскими проектами завоевать Киев и короновать там эрцгерцога Фердинанда [17]. В качестве главной угрозы в Галиции соратники Филиппова воспринимали поляков, проводивших во Львове в 1913 г. антироссийские манифестации. Вместе с тем в целом «Дым Отечества» положительно относился к полякам и много раз выражал надежду на компромиссную договорённость с ними. А.Л. Гарязин доказывал, что в ходе Балканских войн среди поляков пробудилось чувство славянского единства, публиковал письма польских депутатов, желавшим достичь договоренности с Россией [2; 29]. Ставился вопрос о предотвращении германского плана отрыва Польши и русинских территорий Западного края (включая Холмщину) от России и создания там марионеточного польского правительства [11]. В статье Г. Кучинского утверждалась программа сотрудничества между польскими и русскими национал-демократами: «Следует уповать, что русский национализм, поднявшись на орлиные высоты патриотизма, сорвёт мрачную завесу, которой задёрнута теперь жизнь польского края» [14]. Филиппов в данном случае на тему русинов и поляков в «Дыме Отечества» не высказывался, сосредоточившись на проблемах Закавказья, Финляндии, Эстонии [44]. Октябрьская революция привела к новому взлёту карьеры Филиппова, мгновенно перестроившегося на поддержку большевиков при 198 g J Ml ci ii I 2022. № 67 сохранении своих национал-демократических взглядов. В начале 1918 г. он планировал издавать газету «Великая Россия», в которой намеревался пропагандировать возрождение имперской политики руками большевиков [5: 115]. Однако новой власти Филиппов пригодился в ином качестве. С января по март 1918 г. он стал первым разведчиком Советской России, будучи отправлен Ф.Э. Дзержинским в Финляндию «для изучения настроений матросских масс» и способов спасения оставшегося там Балтийского флота [5: 116]. Результаты миссии Филиппова, буквально спасшего флот, неизменно высоко оцениваются историками разведки и ВЧК [3: 41-49; 4: 22-25; 16: 79-80]. Полуторамесячный арест Филиппова летом 1918 г. по заведомо ложному и сфабрикованному обвинению в причастности к монархическому и антисемитскому заговору организаций «Каморра народной расправы» и «Союз спасения Родины» завершился его освобождением и оправданием. Осенью 1919 г. мыслитель вернулся к публичной политической деятельности, возглавив Исполком по делам духовенства и став основным автором текста послания патриарха Тихона от 8 октября. Любопытно, что, убеждая власти издать его тиражом в 500 тысяч экземпляров, мыслитель пояснял: «Такое количество экземпляров необходимо не столько для рассылки внутри Советской России, ибо об этом оповещена она достаточно путем печати, сколько для распространения в зарубежной России - на Дону, Сибири, на Украине и по Кавказу» [7: 13]. Сам термин «зарубежная Россия» применительно к территориям под контролем белых и сепаратистских правительств выглядит странным, пусть и в условиях Гражданской войны. Белоруссия в это понятие не входила: Филиппов не забывал родной Могилев, находившийся под контролем красных, и 3 декабря 1919 г. подал протест против национализации здания одной из тамошних церквей [7: 30]. Летом 1920 г. Филиппов издал брошюру, в которой о «зарубежной России» речи больше не было: «Сдвинулась с своих мест мать, Великая Россия... Постепенно вводится в прежние берега Россия: уже наша Украина; уже заключен мир с Эстляндией; давно утихомирилась Финляндия. Могучей волной хлынула наша победная армия на Кавказ, к Черному морю, и докатилась до него, перебросилась через горы. Только Польша кипит и грозит нам, объявив войну» [43: 18]. Из этого пафосного перечисления делался вывод, что «советская власть всеми признаваема за государственную народную и простонародную русскую». Таким образом, русинский вопрос в наследии Филиппова растворился в общем контексте борьбы за собирание имперских земель воедино, независимо от характера власти в центре. Вершиной История 199 этой тенденции в мысли Филиппова стало его письмо Вере Фигнер в 1931 г., когда он утверждал, что В.И. Ленин «достиг ровного того самого... для народных масс», чего он ранее ожидал от Николая II, а именно того, что «вывело нашу страну из положения второразрядного и унизительно-угнетённого, после 1914-15 года состояния духа и что должно вывести уже новые поколения на новый путь. в ширь расцвета народной энергии и духа, которая бы заиграла, точно музыка» [33: 2]. Осенью 1920 г. коллегия ВЧК приняла решение закрыть Исполком-дух, но уже 15 апреля 1921 г. Филиппов нашел себе новую работу в Москве, став членом экономического совета представительства коми-зырян при Наркомате национальностей. Этот факт введён в научный оборот Т.Ю. Красовицкой [13: 328], хотя и оставлен ею без комментария. Между тем удивительно не столько то, что Филиппов стал работать под руководством И.В. Сталина, сколько то, что он позиционировал себя как представителя еще одной окраины - Автономной области Коми, с которой его ранее абсолютно ничего не связывало. Этот факт, упущенный даже в монографии М.В. Медоварова, лишний раз свидетельствует об остром интересе Филиппова к окраинам России. Великодержавная политика на окраинах в глазах Филиппова оказалась одним из наиболее ярких свидетельств той преемственности между Российской империей и советской властью, обеим из которых он служил страстно и в качестве издателя и публициста, и в качестве государственного и общественного деятеля. На протяжении десятков лет в фокусе внимания Филиппова оставались проблемы окраин империи, национальную энергию которых он желал направить в русло укрепления российской государственности. Несомненно, понятие окраин империи имело давнюю традицию бытования в сознании как представителей власти, так и общественных деятелей. Обычным явлением в Российской империи была переброска талантливых администраторов с одной окраины на другую (И.Ф. Паскевич, К.П. Кауфман). Проекты разделения империи на «центр» и обобщенные «окраины» с разным режимом управления в начале XX в. звучали из уст С.Ф. Шарапова, Д.А. Хомякова, В.А. Бобринского, П.Б. Струве. Данный процесс закономерно завершился созданием Окраинного отдела Русского Собрания, с 1908 г. преобразованного в Окраинное общество. Его председатель Н.Д. Сергеевский в 1906-1912 гг. издавал газету «Окраины России», покровительство которой оказывал П.А. Столыпин. Символично, что одним из авторов этой газеты являлся Ф.Д. Самарин - племянник Ю.Ф. Самарина, автора одноименного труда 1868 г. Таким образом, к началу XX в. концепт «окраин России» уже успел внедриться в общественное самосознание, что ярко проявилось на 200 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 примере А.Ф. Филиппова. Данный вопрос практически не поставлен в историографии. Лишь А.И. Миллер говорил о процессе «воображения» образа границ и отдельных регионов России среди общественности второй половины XIX - начала XX в., указав на двусмысленный статус некоторых регионов в таком «национальном воображении» [21: 147-170]. Работы зарубежных исследователей в схожем ключе до сих пор касались только осмысления места Российской империи в мире в целом [6: 274-310] либо ее отдельных регионов, но не их совокупности через призму модели «центр - окраины». Точку зрения А.Ф. Филиппова, выходившую за рамки традиционных правого и левого дискурса, на наш взгляд, можно охарактеризовать как позицию «имперского национализма», чуждого идее этнического превосходства и направленного на успешное развитие как окраин, так и центра России, неразрывно связанных друг с другом. Особое место среди них занимали вопросы развития западных окраин, особенно населенных белорусами, малорусами, русинами. Велик личный вклад Филиппова в утверждение православия и русской идентичности на Холмщине в 1898 г., в попытках продвижения идеи триединства русского народа в неопубликованных учебных пособиях конца 1890-х гг., в подчеркивании проблем русского исторического наследия в Бессарабии в «Русском обозрении» 1903 г., в освещении ситуации в Галиции в «Дыме Отечества» в 1913 г. Возвращение этой забытой страницы из общественной мысли России в сферу научного интереса представляется закономерным и оправданным.
Ключевые слова
окраины Российской империи,
Всероссийский национальный союз,
национал-демократы,
имперский национализм,
Бессарабия,
русины Холмщины,
«Русское обозрение»,
А.Ф. ФилипповАвторы
| Медоваров Максим Викторович | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры информационных технологий в гуманитарных исследованиях | mmedovarov@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Яцимирский А.И. Благотворительность русских государей в Румынии в XVI-XIX вв. // Русское обозрение. 1903. Вып. 1-3. С. 1-19.
Чемакин А.А. Русские национал-демократы в эпоху потрясений: 1914 - начало 1920-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2018. 606 с.
Филиппов А.Ф. Юстиция или вешалка? // Дым Отечества. 1913. № 3. 17 января. С. 3-5.
Чемакин А.А. Империя и национальное государство. Страницы истории // Тетради по консерватизму. 2016. № 2. С. 151-191.
Филиппов А.Ф. Сарафанная культура // Дым Отечества. 1913. № 41. 10 октября. С. 3-5.
Филиппов А.Ф. Святцы и трудовой календарь на 1920 год. Перечень имен и дней, памятных для жизни России. М.: Комитет по делам духовенства всея России, 1920. 32 с.
Филиппов А.Ф. От редакции // Русское обозрение. 1903. Вып. 1-3. С. I-IV.
Филиппов А.Ф. Московское студенчество // Русское обозрение. 1897. № 3. С. 365-393.
Филиппов А.Ф. Ответ редактора // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 260-266.
Филиппов А.Ф. Вместо предисловия // Искусство строительное и декоративное. 1903. № 1-2. С. 6-7.
Слюнин Н.В. [Рец.:] В.П. Врадий. Охотско-Камчатский край // Русское обозрение. 1901. №1. С. 235-240.
Тревор-Бетти О. Во льдах и снегах (Путешествие на остров Колгуев) / пер. с английского А. Филиппова (с 13 рисунками и картой). СПб.: Типография П.П. Сойкина, 1897. 212 с.
Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). Ф. 166. Оп. 3. Д. 1049. Письма А.Ф. Филиппова Л.Н. Майкову 1900 г.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 776. Оп. 8. Д. 1193. Дело об отказе журналисту А.Ф. Филиппову в разрешении издавать в Москве газету «Колокол». 1898-1899 гг.
Розанов Н.П. Дом Иакова // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 281-290.
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 1185. Д. 797. Письмо А.Ф. Филиппова В.Н. Фигнер. 1931 г.
Радецкий А.Ф. Окраины и сердцевина России // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 209-211.
Письмо поляка // Дым Отечества. 1913. № 26. 27 июня. С. 5-6.
[Полонский Я.П.] Письмо Полонского к Фету // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 124-125.
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 102. Письма разных лиц С.А. Рачинскому. Октябрь 1898 г.
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 106. Письма разных лиц С.А. Рачинскому. Апрель 1899 г.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXIII. Могилевская губерния. СПб.: Издание Центрального статистического комитета МВД, 1903. XV + 275 с.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 135. Р. II. К. 35. Д. 35. Письма А.Ф. Филиппова В.Г. Короленко 1900 г.
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 100. Письма разных лиц С.А. Рачинскому. Июль -август 1898 г.
О-К..нъ Н.Ф. Примечание о Финляндии // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 127-136.
Орлов Н.А. Разведка. Очерк (эпизод из войны в Китае) // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 141-154.
Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с.
Медоваров М.В. Национал-монархист, национал-демократ, национал-большевик Алексей Фролович Филиппов. СПб.: Владимир Даль, 2021. 673 с.
Медоваров М.В. «Как с Русью Польша помирится»: генерал Киреев и польский вопрос // Родина. 2013. № 1. С. 118-121.
Медоваров М.В. Исчезнувший учебник Алексея Филиппова по истории России // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2020. Т. 6, № 4. С. 365-373.
Лобанов А. Секретное поручение // Чекисты. Л.: Лениздат, 1977. С. 75-80.
Мазуренко. Не так страшен черт, как его малюют // Дым Отечества. 1913. № 43. 24 октября. С. 3-4.
Лебедев С.К. Алексей Фролович Филиппов: литератор, банкир и чекист // Из глубины времен. СПб., 1998. № 10. С. 153-171.
Кучинский Г Польский вопрос // Дым Отечества. 1912. № 6. 20 декабря. С. 6-7; 1913. № 3. 17 января. С. 6-7; № 4. 24 января. С. 4-5.
Красовицкая Т.Ю. Национальные элиты как социокультурный феномен советской государственности (октябрь 1917 - 1923 гг.): документы и материалы. М.: ИРИ РАН, 2007. 448 с.
Ирбе [Дружинин К.К.] Wo ist der Hund.. // Дым Отечества. 1912. № 1. 15 ноября. С. 3-4.
Кожевников В.А. На сторожевом валу. Поэма // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 155-182.
Иванов А.А. Вызов национализма: Лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. СПб.: Владимир Даль, 2016. 511 с.
Д.А. Патриотизм // Русское обозрение. 1903. Вып. 1-3. С. 78-84.
ГАРФ. Ф. 634. Д. 101. Письма А.А. Киреева Л.А. Тихомирову 1889-1908 гг.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А353. Оп. Д. 232. Переписка с НКВД о деятельности «Исполнительного комитета по делам духовенства России» с приложением материалов. 1919-1921 гг.
Архив Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. П-93201.
Бассин М. Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 274-310.
Антонов В.С., Карпов В.Н. Тайные информаторы Кремля-2. С них начиналась разведка. Т. 2. М.: Олма-Пресс Образование, 2003. 415 с.
Антонов В.С. Сто великих разведчиков России. М.: Вече, 2017. 415 с.
А. Из Монголии // Русское обозрение. 1901. № 1. С. 184.
А.Львов [Гарязин А.Л.] Поляки и балканские союзники // Дым Отечества. 1913. № 24. 13 июня. С. 6-7.
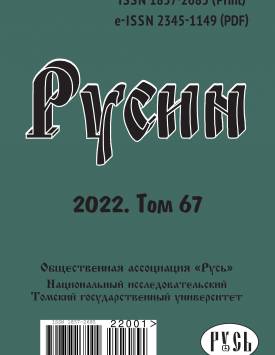

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью