Анализируются параджановские рефлексии о семиотическом переводе на примере быта, нравов, обычаев гуцулов, зафиксированные в статье «Вечное движение» по поводу его фильма «Тени забытых предков». Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков» стал поэтологическим и смысловым инвариантом в процессе порождения последующих фильмов режиссёра. По сути, он стал фильмом-манифестом. Режиссёр нашёл свой тематический язык и творческие константы (обряды, предания, нравы, таинства и т. д.). На креативных инвариантах быта разных народов (гуцулы, армяне, турки, татары и т. д.) он стал эстетически домысливать и показывать их внутренний мир, обычаи и нравы. Фильм «Тени забытых предков» был снят на основе глубокой любви ко всему гуцульскому, а также на основе «метода» И. Савченко, предполагающего непосредственное познание и впитывание объекта-культуры, природы и чувственного мира на разных каналах коммуникации (визуальный, слуховой, обонятельный). На основе глубоко знания гуцульской культуры С. Параджанов работает с их ценностным миром, переводя художественный текст на визуальный образ, а также домысливая визуальные обряды. Через носителя культуры, пожилой женщины, он начал смотреть на мир гуцулов, пропитывать их дух для «правильной» реконструкции материала на транснациональном языке красоты и перекодирования денотативных кодов на коннотативные. Рефлексия режиссёра о фильме показала, как произошёл переход от аморфного киноязыка соцреализма к языку авторского кино: отказ от чёткой передачи сюжета, фотографической передачи быта, нравов и обычаев, «заведомых канонов», «старых привычек и впечатлений». Появление авторского киноязыка сделало конфликт с советской киношной системой и номенклатурным «верхом» ещё нагляднее. Об этом говорит тот факт, что Параджанову пришлось отстоять свою позицию, чтобы фильм не был дублирован, так как в таком случае зритель лишился бы аутентичного аудиального мира гуцулов.
The world of Hutsuls through the eyes of Sergei Parajanov: semiotic translation, film language, existential invariants.pdf Введение Известно, что идентичность и оригинальность собственной культуры совершенно иначе раскрываются глазами «другого», иностранца, поскольку он видит детали, феномены чужой культуры в противопоставлении своей. Для Сергея Параджанова, по национальности армянина, жившего в Грузии (Тбилиси)1 и на Украине (Киев)2, культура гуцулов раскрывается совершенно в другом ракурсе3. Благодаря феноменальному использованию гуцульского материала в фильме «Тени забытых предков» (1964), режиссёр приобрёл мировую славу и получил всесоюзные и международные призы (Киев, Мар-дель-Плата, Рим, Салоники). До 1980 г. у него было уже 16 международных премий [9: 633, 635]. Фильм «Тени забытых предков» не раз осмыслялся в научной литературе. Об этой теме писали Иван Дзюба, Лариса Брюховецкая, Вадим Скуратовский, Владимир Турбин, Лев Аннинский, Януш Газда, Роман Корогодський и др. [8: 59-95; 17: 15-73], но детального анализа параджановских рефлексий о гуцульской культуре, насколько автору известно, не проводилось. Актуальность статьи заключается в том, что параджановские идеи и рефлексии о гуцульской культуре и нравах не устарели. Они могут быть насущными до сих пор для историков кино, сценаристов, (молодых) режиссёров, мечтающих снимать авторское кино, поскольку Параджанов имплицитно представляет, как переводить символы-знаки (художественные тексты) на язык визуальных знаков (кино, киносинтагм) на примере гуцульской культуры. Цель статьи - представить проблему семиотического перевода и параджановскую рефлексию о гуцулах и их культуре. Главный тезис статьи: фильм С. Параджанова «Тени забытых предков» является поэтологическим и смысловым инвариантом в смысле порождения последующих фильмов режиссёра. Проблема семиотического перевода: от текста к образу Знакомство Параджанова с культурой и бытом гуцулов было опосредовано. Фильм он снял по одноимённой повести Михаила Коцюбинского (1911), а посоветовал ему взяться за эту повесть друг, 378 рая Ml vf < ci ii I 2022. № 67 художник Г. Гавриленко [3: 95]. Картина была приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения украинского писателя. Соавтором сценария выступил писатель Павло Загребельный, имевший доступ к первому секретарю КП Украины В. Щербицкому. Именно этот факт стал решающим для продвижения намеченного дела4. Предыдущие фильмы Сергея Параджанова («Андриеш» (1954), «Думка» (1958), «Первый парень» (1959), «Украинская рапсодия» (1961) и т. д.) можно считать дорогой становления режиссёра к своему первому примеру авторского кино - фильму «Тени забытых предков». Параджанов был самокритичен и осознавал, что до «Теней...» он был «творческой единицей» соцреализма. И это его раздражало. По свидетельству его друга, поэта Ивана Драча, как-то С. Параджанов сорвался и зарыдал: «Я ничтожество! Мне сорок лет, а я ничего не сделал! Я бездарь!» [3: 94]. Он ещё сомневался, но работа шла с полной творческой отдачей и любовью5. С. Параджанов своё поэтическое кино создавал на основе пе-реводимости литературного текста на язык живописи. По поводу повести М. Коцюбинского режиссёр отмечал, что: «в своей практике я чаще всего обращаюсь к живописному решению, но не литературному. И мне доступнее всего та литература, которая в сути своей сама - преображённая живопись» [10: 33]. Этот механизм сработал и на последующих кинотекстах и сценариях («Молдавская сказка», «Цвет граната», «Дремлющие дворцы», «Ара Прекрасный» и т. д.). Иными словами, перевод литературных кодов на визуальные и есть его основной метод моделирования кинотекстов. Параджанов прекрасно понимал, как надо снимать фильмы, знал алгоритм их моделирования. Об этом он эксплицитно писал следующее: «Пошлите меня в Африку, и я сниму лучший африканский фильм, я вам напридумываю кучу старинных папуасских ритуалов, не хуже, чем гуцульских в "Тенях забытых предков"»! [12: 4]. Цитата показывает, что для Параджанова ключевым является вопрос «как», а не «что», т. е. приёмы, модусы моделирования кинотекстов. Для режиссёра такого уровня категория достоверности представляемого материала не является ключевой. Он притворяется (играет) при создании своего эстетического текста, «поднимает» гуцульский материал, эстетизирует его. «Тени...»: код названия и его перевод Интересно, что этот фильм был в прокате на Западе под названием «Огненные кони» (Франция). Заметим, что в ГДР фильм был, как и в СССР, под названием оригинала - «Schatten vergessener Ahnen». За Антроплогия 379 рубежом для нового названия или новой брендовой «упаковки» стали прекрасные кадры из фильма. Красные кони, являющиеся метафорой смерти отца Ивана, Петра Палийчука, стали метакодом для нового названия «Теней...». Иными словами, короткая экспрессивная синтагма с лошадьми стала названием киноленты. Но на самом деле следует заметить, что был подменён основной код названия кинотекста. Для этого нужно понять, к чему отсылает означающее слова «тень», какой смысл (означаемое) у этого слова? Исходя из контекста, тени обозначают культурное прошлое гуцулов -нравы, обычаи, ценностный мир, которые были забыты. И по сути, если учитывать все параджановские фильмы, то название первого авторского кино становится метаязыковой метафорой для «описания» всех его фильмов, поскольку во всех последующих картинах «тени» прошлого (обычаи, нравы, обряды и т. д.) всплывают на языке кино («Цвет граната» (1968), «Легенда о Сурамской крепости» (1984), «Ашик-Кериб» (1988) и т. д.). Но, как метко отмечает антрополог Левон Абрамян, он в своих фильмах «не дооформляет ритуал, а просто выдумывает его» [1: 18]. Параджанов в своей статье «Вечное движение» отмечает, что после прочтения произведения М. Коцюбинского ему сразу захотелось поставить «Тени.». Аргументирует он тем, что «влюбился в это кристально чистое ощущение красоты, гармонии, бесконечности. Ощущение грани, где природа переходит в искусство, а искусство в природу» [9: 38]. Указанный перевод становится возможным благодаря категории красоты, а она моделируется через эстетический ракурс, работу кинокамеры. Армянский критик и знаток параджановского искусства Карен Калантар заметил, что именно благодаря камере природа и в тексте М. Коцюбинского, и в фильме представляется как динамичный образ [6: 41-42]. В одной из своих поэтологических исповедей Параджанов заметил, что «если художник умеет и не боится быть самим собой - он создаёт храм» [9]. Параджанов сумел создать собственный «храм»-фильм, и его первым «храмом» стал фильм «Тени забытых предков». Если перевести сказанное на язык психологии или эстетики, то режиссёр приобретает авторскую Самость, уверенность или собственное «Я-эстетическое». Он уже в фильме «Тени забытых предков» начинает жонглировать материалом. Глубокое понимание феноменов дало возможность режиссёру играть, переводить материал с одной семиотической системы на другую. Об этом пишет и сам С. Параджанов: «Я убедился, что совершенное знание оправдывает любой вымысел. Я могу песенный материал превратить в действенный, а действенный - в песенный, чего не мог, когда снимал «Думку». Я могу этнографи- 380 f J Ml 'Ci ii I 2022. № 67 ческий, религиозный материал перевести в самый обыденный, обиходный. Ибо, в конце концов, источник у них один и тот же» [10: 45]. Из вышесказанного можно заключить, что режиссёр приобрёл навыки работы с материалом, с коннотативными кодами. Следует подчеркнуть, что без нового семиотического перевода нет нового коннотативного значения. Именно умение идентифицировать и разграничивать коннотативные коды от денотативных, т. е. «обыденных», «обиходных» и на основе денотативных кодов «надстраивать» коннотативные, дало Параджанову возможность абстрагироваться от гуцульского материала и представить гуцульский мир на транснациональном языке, на (параджановском) языке кино. Сергей Параджанов глубоко понимал язык кино. Словесный и вещный мир он переводил через кинематографические образы, именно поэтому они и стали основой для синтеза литературы, поэзии, истории, этнографии и философии [10: 45], т. е. семиотический перевод он делал через визуальные (кинематографические) образы, знаки и, по сути, конструировал продукт для междисциплинарного анализа (литература, история, этнография, философия), поскольку фильм создается на тематическом стыке. Размышляя о своих кинематографических неудачах на примере фильма «Первый парень», режиссёр отмечает, что его неудача произошла «под ударами сюжета» [10: 34]. Следует понимать под понятием сюжет - фабулу. В фильме «Первый парень» Параджанов не смог свой нарратив скомпоновать на синтагмах образов-метафор, т. е. сюжет стал «врагом» поэтических визуальных рядов и разрушил «здание» фильма как пример поэтического кино. По сути, Параджанову не удалось абстрагироваться от сюжета, чтобы передать на подлинном языке кино украинское село, потрясающую фактуру красоты, его поэзию. Ему «не давался “бытовизм”» [9]. Параджанову не удалось отстраниться от быта, от реальности (Виктор Шкловский), чтобы посмотреть на мир заново, наивно. Сравним идею В. Шкловского с параджановской: «Мы слишком порой полагаемся на силу быта и забываем, что в некоторые места надо входить юными, отрешившись от своего привычного мира» [9]. Из вышесказанного можно заключить, что Параджанов приобрёл свой киноязык благодаря приёму отстранения (В. Шкловский), способности отстранятся от сюжета, от литературного материала. Неспроста он отмечает, что «действительно где-то отступал и от Коцюбинского, и от Лермонтова, и от Саят-Новы»6. Отрешение от сюжета явилось предпосылкой для моделирования собственного, авторского кино. Самодостаточность режиссёра и наличие отточенного киноязыка являются основой успеха. Неудивительно, что фильм «Тени...» стал «визитной карточкой» не только для Параджанова-режиссёра, но и для операторской работы Антроплогия 381 Ю. Ильенко, поскольку С. Параджанов и его команда не были заражены «вирусом студии Довженко»: «Это страшная болезнь, ею который год страдает наш кинематограф. Знаете, как в анекдоте: есть фильмы плохие, есть очень плохие, а хуже очень плохих - студии Довженко» [16]. Очевидно, что речь идёт об эпигонстве, об отсутствии киноязыка и образного кинематографического мышления. Для этого нужно пройти долгий путь. Как метко отмечает С. Параджанов, для входа в мир интеллектуального кино требовалась высокая культура, а также свобода «от заведомых канонов, от старых привычек и впечатлений» [9]. Иными словами, требовался свой автономный мир, видение и, в конце концов, дистанцирование от киноязыка соцреализма. Советский номенклатурный «верх» думал стереотипно. В своё время он душил истинное искусство, что не раз эксплицитно озвучивалось Параджановым: «Наш ум гибнет, мы малокультурные люди, мы не знаем музыки, литературы, в стороне от художников. Зато с нами директор студии, заместитель директора, редактор - малоквалифицированные люди, которые губят искусство директор студии объявляет мне семь выговоров за картину «Тени забытых предков». Я обвинён в сектантстве за то, что ходил изучать к ним (гуцулам. - Т.С.) это сектантство» [9]. Сказанное показывает, что руководство не в состоянии было понять религиозную систему гуцулов, было невежественно в плане вкуса и культуры. Чиновничий мир не мог декодировать мир гуцулов. Режиссёр собрал новую творческую команду (Ю. Ильенко, М. Скорик, Г. Якутович и др.), представители которой были антиподами украинской киностудии. Интересно, что для создания фильма С. Параджанов исходит из принципа любви: «Для художника фильм - это всегда объяснение в любви» [9]. Из сказанного видно, что искусство генерируется в любви, в любовно-интимном контакте режиссёра и материала. Именно на этой основе и был снят фильм «Тени забытых предков». О любви к гуцульской культуре и артефактам читаем в его зарисовке «Гижи марти» (досл. «Сумасшедший март»): «Март 1964 года. Я скорблю о декорациях Гуцульской церкви и за упокой души матери друга моего» [10: 376]. По всей вероятности, Параджанов, будучи на Гуцульщине, обратил внимание на неподлинные артефакты гуцульской церкви, что и стало поводом для его ассоциативных размышлений по этому поводу. «Тени забытых предков» - прочувствованный им изнутри фильм. Как выше было отмечено,любовь С. Параджанова к гуцулам открылась через художественный текст М. Коцюбинского, ставший мотиватором ознакомления с миром гуцулов непосредственно в Карпатах. Параджанов больше года прожил там, чтобы прочувствовать и ощутить быт и 382 f J Ml 'Ci ii I 2022. № 67 дух гуцулов («Задолго до того, как начались съёмки «Теней», я пытался приобщиться к их миру» [10: 35]). Режиссёр неспроста изучал нравы и обычаи гуцулов, поскольку он был «чужим», но ему удалось впитать в себя всё гуцульское. Этому способствовали два важных момента: «случайность» и «метод» И. Савченко, т. е. метод непосредственного познания/впитывания объекта-культуры. Как рассказывает Параджанов, когда он приехал на Карпаты, сначала был разочарован. Он не увидел тот мир и ландшафт, где бились Гутенюки с Палийчуками. Перед его глазами раскрылся синтез «древнего и молодого»: европейская обувь, асфальт, велосипеды, высоковольтные вышки, гудение проводов и тягучая скорбь трембит, золотые часы и домотканая вышивка» [10: 39]. Из сказанного очевидно, что Параджанов выявляет синтагматические «шумы» на уровне одежды аксессуаров, и акустические диссонансы: гудение проводов (современность) vs звуки трембит (архаичность). Проблема его когнитивного «шума» решилась совершенно случайно. Параджанову повезло, и как он сам отмечает, «судьба сжалилась над ним», так как его выселили из гостиницы в обычную хату. Именно с этого момента он начал постигать гуцульский уклад жизни, про которую хотел рассказать [10: 39]. Сказанное Параджановым показывает, что литературный материал и сценарий ничего не значат для начала работы над фильмом «Теней...». Вот здесь раскрывается и второй момент - «метод» И. Савченко, который означал, что режиссёр должен «всасывать материал - впитывать его, как губка, затем отобрать, организовывать самое главное. Правда жизни глубже и нужнее, чем ваш вымысел. Но, изучив предмет, познав его во всех тонкостях, вы можете варьировать тему, как хотите» [10: 38]. Подход И. Савченко предполагает метод наблюдения через «впитывание», а далее - субъективно-творческий процесс, т. е. отбор и организацию материала как структуру, как целостность. Но субъективно-творческий процесс невозможен без когнитивного составляющего, т. е. без изучения предмета со всеми его деталями. Именно после когнитивного познания «метод» И. Савченко предполагает пускать в ход функцию вымысла со всеми возможными вариантами. Отсюда вывод, что для творческого полёта режиссёр, да и писатель в том числе, должен свободно творить на основе знания, а не-незнания - вымысла. Этот подход стал основополагающим для параджановской поэтики и порождения его дальнейших кинотекстов. А по поводу «Теней.» он сам эксплицитно обозначил, что «совершенное знание оправдывает любой вымысел» [10: 38]. Параджанов в своей же статье отмечает, что процесс познания гуцульской культуры, быта и духа произошёл именно тогда, когда он Антроплогия 383 переселился из гостиницы «в обычную хату и с этой минуты... начал по-настоящему постигать уклад той жизни, про которую хотел рассказать» [10: 39]. На современном языке американской историографии гуцульская хата стала не разделяющим фронтиром, а соединяющим7 для встречи «другого», «чужого», не-носителя гуцульской культуры с миром, бытом гуцулов. Гуцульская хата для Параджанова стала линией и пространством соприкосновения всего гуцульского. В этом контексте «метод» И. Савченко активно сработал, и С. Параджанов впитывал интерьер и быт гуцульской жизни, а также «экстерьер» (природу). По этому поводу режиссёр отмечает, что «никакой литературный образ не является чувственным материалом. До тебя не доходят влажность травы, запах лесной плесени. Во рту у меня до сих пор вкус воды, бегущей из-под корней сосны» [10: 39]. По сути, эксплицитно отмечается, что для режиссёра недостаточно знания литературного текста и образов. Для подлинного понимания природного ландшафта ему нужно было познать гуцульский мир ещё и через обонятельный канал (ольфакторика). Но самое ключевое для Параджанова было познание гуцула. Как он сам отмечает, «Гермесом» их культуры стала знаменитая старуха, жившая в хате по соседству. По слухам, ей было больше сотни лет, и она даже не возражала по поводу своего возраста. Она помнила Ивана Франко, с которым собирала грибы [10: 40]. По сути, эта старая женщина стала его «консультантом», связующим звеном между аутентичным миром гуцулов и современности, в котором Параджанов своей гениальностью реконструировал этот мир, находящийся на грани сумбура. Старуха была «камертоном» гуцульской культуры и быта, поскольку цель Параджанова - реконструировать гуцульскую культуру, «природу и людей Гуцульщины» не эпохи Коцюбинского (начало XX в.), а на сто лет раньше. Иными словами, эпоха начала XIX в. была потеряна, и Параджанов пытался через гуцульского «консультанта» воссоздать именно эту эпоху. Параджанов надевает красивого актёра, Ивана Миколайчука, в «национальное» с тетеревиными перьями и заводит в хату. Маты Алёна смотрит внимательно на Ивана и говорит: «Но ты брехун, мой пан! Когда я пришла в это место, тут стояла одна еврейская корчма. Ко мне приходили гайдуки Довбуша. Я знаю, какой он. Довбуш хромой и горбатый, у него добрые глаза.» [10: 40]. То есть у Довбуша была внутренняя красота, а не внешняя. Как отмечает С. Параджанов, Мата Алёна смотрела актёру в глаза, а «не на одежду (та могла бы быть вполне современной)» [10: 40]. Сам факт организованного С. Параджановым «кастинга» (где в роли «председателя» была пожилая женщина) дал возможность режиссёру правильно почувствовать 384 f J Ml 'Ci ii I 2022. № 67 материал. Иными словами, он смог в основанной им «лаборатории» посмотреть на актёров глазами носителя гуцульской культуры. Мир гуцулов настолько поразил С. Параджанова, что «осколки» гуцульской культуры с карпатских гор он забрал с собой в Киев. Режиссёру достались ещё и гуцульские сувениры - домашние иконы, изображения святых, «похожие на карточных дам и валетов...» [10: 44]. Режиссёр отмечает, что эти продукты «религиозного лубка» попали под чей-то «высокий гнев» и «началась маленькая кампания. Иконы разбивали молотками, сжигали, выбрасывали. Сейчас их с трудом находишь даже в сёлах» [10: 44]. По сути, Параджанов говорит о советском антирелигиозном вандализме8. Интересную информацию об этом представляет и польский друг С. Параджанова Януш Газда. Описывая интерьер киевской квартиры режиссёра, автор отмечает, что стена большой комнаты была завешана «чудесными рисунками на стекле - гуцульскими иконами» [2: 68]. Параджанов, будучи человеком «границы»9, точнее грузинским армянином, живущим на Украине, ценил подлинное искусство. По рассказу Я. Газды, он подарил девушке из Варшавы гуцульское оригинальное платье, предложив его вместо украинской блузки с янтарным ожерельем на шею. Дарил Параджанов не только незнакомкам, но и любимым актрисам. Алла Демидова в книге «Бегущая строка памяти» (гл. «Сергей Параджанов») вспоминает, что получала от нарочных «уникальные расшитые украинские платья, иногда бутылку вина, гуцульскую меховую расшитую безрукавку» [4]. Всеизвестно, что Сергей Параджанов любил дарить своим знакомым и даже незнакомым оригинальные подарки. Девушке он подарил гуцульское белое платье «с удивительно красивой вышивкой ручной работы. К нему - вручную вытканная запаска и длинный, цветной, ручной работы пояс. Именно такой наряд был у Палагны в “Тенях.”». Кроме того, Параджанов надевает на гостью «ожерелье из старинных монет и нитку красных кораллов» [2: 68]. Подобный наряд мы видим на Палагне во время свадебного обряда, а нитки красных кораллов до свадьбы (Кадр. 1 (55 мин 40 с), 2 (50 мин 50 с)). Заметим, что познание Палагны Иваном передаётся через два символические действа-метафоры. Иван срывает с её шеи коралловые бусы, а следующий кадр - Иван откусывает яблоко (плод). Язык «Теней» и бытийные инварианты Почему авторское кино, в нашем случае фильм Параджанова, не стареет? Во-первых, бытийные инварианты (обряды, таинства) вкупе с вещным миром, а во-вторых, киноязык, не дают материалу застояться. Антроплогия 385 В фильме «Тени...» Параджанову удалось показать неповторимый «вещный» мир гуцулов: церковная атрибутика, иконы карпатского региона, одежда (безрукавки-кептари, шапки-крисаны, юбки-запаски, поясы-чересы), бижутерия (бусы), музыкальные (трембиты, дрымбы) и обыденные инструменты (топорики-бартоки), мифические образы (черти, мавки и т. д.). Перед зрителем раскрывается пространственно-временное искусство (коломыйка), аутентичный аудиальный мир (речь, звуковой фон карпатской природы и жизни, песни) как «заэ-кранный» шум, а также гуцульский фольклорный и разговорный пласт во всех возможных речевых жанровых проявлениях: причитание, молитвы, заговоры, заплачки, присказки, сплетни и т. д. Ключевое в кинонарративе заключается в том, что гуцульский музыкальный мир представляется зрителю напрямую, а не опосредованно, т. е. через нарратора, закадрового рассказчика. Именно поэтому этот фильм не был дублирован, чтобы не потерять аутентичность повествования. Хотя по докладной записке директора кинотеатра Ф. Брайченко председателю Государственного комитета при Совете министров УССР по кинематографии С. Иванову становится очевидным, что С. Параджанову стоило немалой борьбы с чиновниками от кино, чтобы фильм не был дублирован, поскольку перевод уничтожил бы его национальный колорит [10: 604]. Один из ключевых моментов параджановского кино заключается и в том, что он сопрягает в свое киноповествование инвариантные, константные действа человеческого бытия. В «Тенях.» можно увидеть гуцульские обряды, обычаи, карнавалы, ярмарки, святочные шествия, тризны, а также презентации церковных таинств (крещение, свадьба, похороны) и т. д. в контексте гуцульского убранства, «вещного» мира и интерьера. Следует заметить, что режиссёр константные таинства представляет в гуцульском преломлении, придавая своему аудиовизуальному тексту оригинальность, своеобразие и аутентичность. Один из важных моментов его творчества в том, что Параджанов домысливает материал. Очевидный пример сказанного - обряд «ярма». На свадьбе Ивана и Палагны видим молодожёнов в ярме (Кадр 3, 56:05 мин.). По сути, Параджанов визуализировал словесную метафору из одной гуцульской песни (коломыйка), и поскольку у гуцулов не возникло никаких возражений, они исполнили обряд «ярма» «столь же серьёзно и красиво, как все свои исконные обряды» [10: 39]. Заметим, что модус параджановского киноязыка - говорящая красота. С. Параджанов представляет гуцульский мир (и во всех последующих фильмах) на основе красоты. На вопрос, как ему удалось снять подобный фильм, режиссёр ответил: «А разве для красоты можно установить какие-то границы? Красота есть остаётся только красотой. 386 f J Ml 'Ci ii I 2022. № 67 Нужно лишь уметь её замечать, принимать и превращать в новую красоту. Гуцульская культура несёт в себе нечто завораживающее, нечто потрясающее. Я был влюблён в Гуцульщину ещё перед тем, как стал жить в Украине. Я часто приезжал сюда. Меня всегда привлекал народный эпос в разных его проявлениях - среди прочего увлекали меня украинские песни и обряды, поэзия Шевченко и казацкие легенды» [2: 69]. По сути, красота становится транснациональным языком коммуникации. Ю. Лотман в своей статье «Место киноискусства в механизме культуры» коммуникативный акт рассматривал «не как простое перемещение некоторого сообщения адресата, а как перевод некоторого текста с языка моего “я” на язык “ты”» [7: 653]. Подобный акт коммуникации между двумя субъектами можно расширить. Параджановский перевод гуцульского мира есть перевод, который был воспринят в разных культурах. Неспроста этот фильм получил 16 международных премий. Присуждение премии является следствием принятия оригинальности его перевода на язык искусства - красоты. Красота в фильмах великого режиссёра «убивает» категорию достоверности, тем самым освобождая изображаемый материал от оков документальности. Именно подобный подход делает Параджанова, выражаясь словами Януша Газды, поэтом экрана [2: 73]. Заключение Анализ материала показал, что фильм «Тени забытых предков» стал фильмом-«манифестом». На примере указанного фильма становится очевидным, что режиссёр нашёл свой тематический язык, творческие константы (обряды, предания, нравы, таинства и т. д.). Именно на креативных инвариантах быта разных народов (гуцулы, армяне, турки, татары и т. д.) он стал эстетически домысливать и показывать. Фильм был снят на основе глубокой любви ко всему гуцульскому, на основе метода непосредственного познания и впитывания объекта-культуры, природы и чувственного мира на разных каналах коммуникации (визуальное, слуховое, обонятельное). На культурном материале гуцулов становится очевидным, как он начал работать с их ценностным миром, переводить текст на визуальный образ, домысливать на основе глубокого знания гуцульского мира. Глазами носителя культуры - пожилой женщины он начал смотреть на мир гуцулов, пропитывать их дух для «правильной» реконструкции материала на языке красоты как транснационального языка и перекодирования денотативных кодов на коннотативные. Рефлексия Параджанова о фильме показала, как произошёл переход от аморфного киноязыка соцреализма на язык авторского: отказ от чёткой передачи сюжета, фотографической передачи быта, нравов и Антроплогия 387 обычаев, «заведомых канонов», «старых привычек и впечатлений». Появление авторского метаязыка сделало конфликт с советским киношным номенклатурным «верхом» ещё нагляднее. Система была гнилая и навязывающая. Об этом говорит тот факт, что Параджанову пришлось отстоять свою позицию о недопустимости дублирования фильма, так как в этом случае зритель лишился бы аутентичного аудиального мира гуцулов. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Параджанов о своей идентичности говорит в скандальном выступлении в Минске (1971): «Я армянин грузинского розлива, тифлисского» [10: 608], но скорее всего он был гражданином мира и искусства, говорящим на языке культуры. 2. В этом плане интересно замечание друга С. Параджанова Завена Саргсяна. В предисловии к книге «Сергей Параджанов. Коллаж. Ассамбляж. Предмет» он отмечает, что «у него три родины - Грузия, Украина и Армения» [11: 2]. По свидетельству Романа Корогодського и Светланы Щербатюк, Параджанов настолько полюбил Украину, что «захотел быть похороненным на Украине» [8: 5]. 3. Об экстраординарности Сергея Параджанова см. статью автора [15: 197-215]. 4. См. подробнее о становлении фильма статью Романа Корогодсь-кого [8: 59-96]. 5. 40 лет Параджанов считал самым оптимальным возрастом для творчества: «Я считаю, что если в 40 лет тебе не доверяют как художнику, то и на том свете не будут доверять» [10: 617]. 6. О поэтике фильма «Цвет граната» см. [1: 10-46]. 7. О понимании и функции фронтира см. [13: 199]. 8. Следует заметить, что, по словам Параджанова, эти иконки похожи на «испанские примитивы», но они были «гораздо, гораздо хуже...» гуцульских [9: 44]. Нам кажется, что подобная тема будет интересна для дальнейших исследований гуцульского лубочного искусства в контексте европейского материала. Этот сюжет ждёт своего автора. 9. См. об этом подробно [14: 193-206].
Абрамян Л. Заметки о поэтике Параджанова // Критика и семиотика. 2019. № 2. С. 10-46. DOI: 10.25205/2307-1737-2019-2-10-46
Газда Я. О Параджанове… // Экранный мир Сергея Параджанова: сборник статей. Киев: Дух i Лiтера, 2013. С. 64-73.
Григорян Л. Параджанов. М.: Молодая гвардия, 2011. 318 с.
Демидова А. Два портрета из книги «Бегущая строка памяти» // Континент. 2011. № 150.
Дзюба И. День поиска // Экранный мир Сергея Параджанова: сборник статей. Киев: Дух i Лiтера, 2013. С. 15-24.
Калантар К. Очерки о Параджанове. Ереван: Гитутюн, 1998. 180 с.
Лотман Ю. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПБ, 2005. 704 с.
Параджанов С. Злет, трагедія, вічність: Твори, листи, документи архівів, спогади, ст., фот. / упоряд.: Р.М. Корогодський, С.І. Щербатюк. Київ: Спалах ЛТД, 1994. 280 с.
Параджанов С. Исповедь Сергея Параджанова… собранная и сколлажированная Гарегином Закояном // Киноведческие записки. 1999. Вып. 44.
Параджанов С. Исповедь (сост. Кора Церетели). СПб.: Азбука, 2001. 654 с.
Параджанов С. Колаж. Асамбляж. Предмет / Упорядник Діана Клочко. Киïв: Дух і Літера, 2013. 176 с.
Параджанов С. Гранат любви. М.: Зебра Е, Галактика, 2020. 288 с., ил.
Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства: сборник статей. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 199-222.
Симян Т.С. Ёко Тавада - человек и писатель «границы» // Идеи и идеалы. 2018. № 4, т. 2. С. 193-206. DOI: 10.17212/2075-0862-2018-4.2-193-206
Симян Т.С. Сергей Параджанов как текст: человек, габитус, интерьер (на материале визуальных текстов) // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3. С. 197-215. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-197-215
Соколовская Я. Юрий Ильенко: На изумруды Параджанова я не заработал // Известия. 20.09.2000.
Экранный мир Сергея Параджанова: сборник статей. Киев: Дух i лiтера, 2013. 336 c.
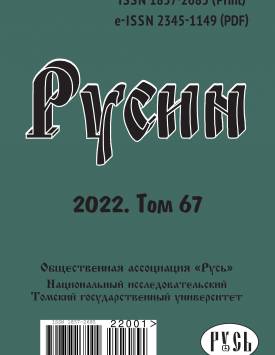

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью