Формирование П.Д. Лодием идей социально-философского исследования в Российской империи первой четверти XIX в.
Применение исторического подхода к изучению творчества П.Д. Лодия позволило переосмыслить вклад, внесённый карпато-русским мыслителем в становление философии как самостоятельной научной дисциплины в Российской империи, а также в формирование в стране традиций университетского философского образования. П.Д. Лодий заложил такие идеи социально-философского исследования, как критический анализ существующих философских концепций сквозь призму собственного опыта практической деятельности, а также ориентация теоретического исследования на решение существующих общественных проблем. Он внёс неоценимый вклад в разработку понятийно-категориального аппарата философии, перенося в русский язык терминологию из классических западноевропейских философских систем. Проведённый сравнительный анализ творчества И. Канта и П.Д. Лодия показывает определённую близость идей мыслителей. Карпато-русский профессор солидарен с категорическим императивом И. Канта, однако, по его мнению, не столько индивидуальное моральное долженствование, сколько общественная атмосфера располагает человека к следованию нравственному категорическому императиву. Целью теоретической философии, по Лодию, является философия практическая, которая, в свою очередь, оказывает влияние на социальные нравы. Отсюда - необходимость государственной заботы о развитии философского образования. С его деятельностью связано появление первых российских докторов и профессоров философии, защитивших учёную степень в стенах Санкт-Петербургского Императорского университета, а также становление собственно российских философских школ. П.Д. Лодий способствовал формированию у его учеников и последователей интереса к социально-политической проблематике, что предопределило особенности дальнейшего развития философии в Российской империи.
Pyotr Lodiy's ideas of socio-philosophical research in the Russian Empire in the first quarter of the 19th century.pdf В исторических исследованиях философского наследия славянских мыслителей первой четверти XlX в. имя П.Д. Лодия упоминается большей частью фрагментарно и преимущественно в контексте становления в России начала XIX в. института высшего образования. Непосредственному исследованию собственного вклада П.Д. Лодия в историю становления славянской философской мысли посвящены лишь несколько фундаментальных работ украинских и российских авторов [5; 12; 24]. Причём в этих исследованиях внимание акцентировано на логическом и гносеологическом наследии карпато-русского мыслителя. Именно этот методологический аспект, освещаемый авторами [25: 25; 32: 147-148], хотя и отражал своеобразие авторской позиции Лодия, но в эпоху триумфа немецкого идеализма просто не мог быть замечен широкой научной общественностью. Между тем вклад П.Д. Лодия в историю славянской философии и по своим практическим результатам, и по идейному наследию существенно превосходит сенсуалистскую методологию, и его ещё только предстоит оценить исследователям. Именно Лодий заложил основы принципов и приоритетов университетского самоуправления в Российской империи, а также возвёл философию в главный органон формирования свободной исследовательской мысли в стране. Творчество П.Д. Лодия неотделимо от его преподавательской и организаторской деятельности, результатом которой стало становление практической, социальной и политической философии, а также социальной антропологии и философии права в Российской империи. Выработанная методология исследования была успешно применена им к анализу актуальной для XIX в. философской проблематики. Именно Лодий заложил традицию преимущественно социально-политического содержания всей последующей российской философской мысли. Следует, однако, отметить, что именно этот аспект творчества мыслителя менее всего отражён в работах историков философии. Целью статьи является исследование социально-философских идей П.Д. Лодия как наиболее значимого теоретического наследия в творчестве мыслителя. Определение в качестве предмета исследования творчества малоизученного автора и отсутствие сложившейся историко-философской традиции интерпретации текстов П.Д. Лодия, рукописный характер большинства материалов предопределили применяемую в исследовании методологию. Изучение творчества карпато-русского мыслителя осуществлялось на основе исторического подхода, предполагающего рассмотрение предмета исследо- 42 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 вания в собственном социокультурном контексте, без привлечения категориального аппарата как современников П.Д. Лодия, относящихся к представителям сложившейся философской традиции, так и историко-философского понятийного инструментария более поздних мыслителей. Приоритетным являлось истолкование текстов карпато-русского профессора в соответствии с его собственной герменевтической установкой - сочетать содержание концепции с намерением автора, проблематикой и языком, характерными для его эпохи и среды. В рамках опубликованных трудов П.Д. Лодия представляется возможным проведение компаративного анализа текстов мыслителя с работами тех современников, на которых непосредственно ссылался автор. При отсутствии такой непосредственной ссылки на автора тезис мыслителя сопоставлялся со всей авторской концепцией и делался вывод об укоренённости или внешнем характере используемой идеи. Значительные вкрапления в текст исследования биографических сведений о П.Д. Лодии связаны с непосредственным отношением профессиональной деятельности выдающегося интеллектуала эпохи к философским обобщениям, полученным карпато-русским профессором на основе этого опыта, и той фундаментальной ролью, которую он сыграл в становлении российской философской мысли. Как известно, начало XIX в. в России было пронизано духом либеральных преобразований. К политическим приоритетам, наконец, были отнесены институты науки, образования и права. Для развития системы подготовки научных кадров предполагалось пригласить опытных преподавателей из Европы. Гоф-хирург Его Императорского Величества, дипломат И.С. Орлай, используя свой заслуженный авторитет при дворе Александра I, рекомендовал поручить эту задачу своим землякам карпато-русинам [31: 48]. Последние были всегда проникнуты интересом к судьбе своей исторической родины и при этом получили хорошее образование, незаменимый опыт, стали профессорами в Австрийской империи [1: 28] и владели русским языком. В число пяти карпато-русинов, рекомендованных И.С. Ор-лаем [26: 12, 101], которым было суждено поступить на российскую государственную службу и сыграть важнейшую роль в формировании элиты российской интеллигенции, вошёл философ, логик, правовед Петр Дмитриевич Лодий. С 1803 г. П.Д. Лодием, а затем и его учеником А.И. Галичем впервые формировалась традиция преподавания философии в Педагогическом институте [29: 34], который с 1816 г. был переименован в Главный Педагогический институт, а с 1819 г. стал Санкт-Петербургским Императорским университетом. С 1819 г. П.Д. Лодий был назначен деканом философско-юридического факультета и одновременно возглавлял История 43 кафедру философии, сменив на этом посту другого карпато-русина М.А. Балугьянского, занявшего пост ректора воссозданного Санкт-Петербургского университета. Именно при непосредственном участии, а затем и руководстве П.Д. Лодия, читавшего курсы теоретической и практической философии, логики, нравственной психологии [28: 22], философия стала рассматриваться как свободное исследовательское предприятие, не имеющее национальных и идеологических границ духа. Однако именно это пробуждение свободной мысли, культивируемое П.Д. Лодием и его коллегами, привело в итоге к преследованиям преподавателей философии («дело профессоров» 1821 г.), попытке идеологического влияния и цензурированию содержания философских курсов [30: 146], а затем и к официальной отмене преподавания философии при Николае I (1850). С деятельностью П.Д. Лодия связано появление в России первых собственных докторов и профессоров философии, защитивших ученую степень в стенах Санкт-Петербургского Императорского университета, возникновение российских школ философии, логики и иных философских дисциплин [10]. Именно благодаря организаторскому таланту П.Д. Лодия философия в начале XIX в. обрела в Российской империи статус самостоятельной научной дисциплины. Следует отметить, что исследованию творческого наследия П.Д. Лодия посвящено крайне мало специальных работ. Помимо скудности сохранившегося наследия мыслителя, неоднозначных оценок слушателей его лекций [1: 61], отсутствия у автора сложившейся непротиворечивой системы, этому отчасти способствовали выводы и оценочные суждения исследователей об опоре П.Д. Лодия на устаревшие основы вольфовской метафизики [2: 149; 5: 22; 24: 127]. Но есть и ещё одна причина некоторой противоречивости взглядов П.Д. Лодия, обусловленная тем, что он формировал основы высшего образования в стране, в которой ещё не сложился не только общепризнанный научный понятийный язык, но и литературный язык как таковой, становление которого во многом связано с творчеством А.С. Пушкина. В русском языке начала ХІХ в. полностью отсутствовала связная понятийно-категориальная система выражения научной мысли. Великий карпато-русин был приглашён работать в Россию в 1803 г., однако даже два десятилетия спустя в заметке 1824 г. А.С. Пушкин отмечал, что «учёность, политика и философия ещё по-русски не изъяснялись - метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так ещё мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных» [27: 14]. В те времена учёные писали на так называемом книжном языке, представлявшем собой конгломерат сі III 2022. № 68 44 древнерусского, церковнославянского, разговорного языков с использованием латинизмов и полонизмов. Таким образом, П.Д. Лодию и его коллегам пришлось решать задачу несравнимо более сложную, чем Боэцию, скрупулёзно переносившему оттенки древнегреческих понятий на почву латинского языка. Сам литературный и понятийный русский язык ещё находился в период творческой деятельности Лодия в стадии активного формирования. Содержательно ситуация была не менее острой. В российском общественном сознании начала XIX в. очевиден глубокий раскол между идеями французского Просвещения и прочным фундаментом православной веры, между новомодной рецепцией идей немецкого идеализма и стремлением к самобытной отечественной мысли. Видеть в мировоззрении П.Д. Лодия в этот период трансляцию устаревших философских идей вольфианской школы можно только в том случае, если рассматривать его позицию вне историко-культурного контекста, что противоречит самой сути современной историко-философской методологии. Сам Лодий всю жизнь отстаивал в качестве основной исследовательской методологии исторический подход, согласно которому изучать концепции предшественников нужно не в соответствии с актуальными в настоящее время проблемами и их современной интерпретацией и понятийным аппаратом, а в соответствии с их языком, намерениями и эпохой [16: 22, 25]. Выводы немногочисленных исследователей творчества П.Д. Лодия сводятся к тому, что он не опирается в своей философии на популярные в то время философские концепции И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и постоянно отталкивается от тезисов представителей традиции Г. Лейбница - Х. Вольфа. Ещё более распространённой является позиция, согласно которой П.Д. Лодий оставил после себя эклектическую философскую концепцию [5: 10; 19: 6]. Следует подчеркнуть, что П.Д. Лодий действительно заимствовал элементы своей концепции из различных историко-философских традиций. Однако это была не простая компиляция, а осознанная методологическая установка карпато-русского профессора, который не хотел становиться последователем никакой отдельно взятой метафизической системы [16: 55]. Его теоретическое наследие - это фиксация опыта своей преподавательской деятельности и критическое переосмысление концепций предшественников и современников. Этот немалый опыт позволил ему увидеть плоды своего труда и убедиться в том, что его философские установки лично им проверены в процессе собственной деятельности по формированию свободной творческой интеллигенции, которая составила гордость России того времени. Именно принципиальная опора не на систему, а на соединение из История 45 существующих систем всего, что подтверждается опытом, определило позицию П.Д. Лодия по привлечению на кафедру философии преподавателей, опирающихся на разные метафизические основания и способных критически воспринимать собственные философские концепции [14: 463-465]. Поэтому не следует противопоставлять творчество П.Д. Лодия и А.И. Галича, хотя философские предпочтения этих профессоров в корне различались. Необходимо подчеркнуть, что философская позиция Лодия не столь оппозиционна по отношению к кантианской, как представляется ряду исследователей [4: 40; 11: 130; 13: 13], особенно если рассматривать его антропологию и социальную философию. Кроме того, взгляды П.Д. Лодия расходятся с лейбнице-вольфианской метафизикой в отношении фундаментальных целей и приоритетов. Сам Лодий писал, что начал «философствовать без системы, и освободив себя от систематического ига Вольфовой философии, последовал эклектическому способу философствования» [16: 54-55]. Важно отметить, что, являясь одним из первых переводчиков наследия И. Канта, П.Д. Лодий фактически полностью солидарен с ним в отношении к смыслу и цели человеческого существования, а также к средствам их достижения. В «Логических наставлениях...» карпато-русский профессор практически дословно воспроизводит три вопроса из «Критики чистого разума» И. Канта [8: 661]: «...сим ограничивается пространное поле философии и всё любопытство размышляющего человека определяется следующими вопросами: 1. Что может человек знать? 2. Что он должен делать? 3. На что смеет надеяться?» [16: 13]. Однако, при кажущейся близости взглядов, П. Лодий в корне изменяет проблематику первого вопроса в духе «догматизма» в кантовском выражении. К кантовскому вопросу «Что я могу знать?» Лодий добавляет «Какие границы тех предметов, о которых можно получить познание?» [16: 13], чем обозначает своё принципиальное гносеологическое отличие от немецкого мыслителя. Для П.Д. Лодия не человеческие познавательные способности, а природа предмета определяет границы познаваемого. Однако философ не ограничивается вопросами «размышляющего человека» из первой «Критики» и добавляет к ним четвёртый вопрос, сформулированный И. Кантом в «Логике» и объединяющий два первых: «Что есть человек?» [9: 280]. Таким образом, как и у И. Канта, венцом творческого пути П.Д. Лодия становится социальная антропология. В качестве «главнейшего предмета философии» [16: 7] он выделяет человека. Так же как И. Кант, карпато-русский мыслитель видит главную отличительную черту и цель человека в его нравственности, как и немецкий мыслитель, он отвергает философию 46 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 эвдемонизма. Однако с этого момента П.Д. Лодий выходит за рамки кантовского практического разума и его «Антропологии с прагматической точки зрения» [6]. Нет никаких свидетельств того, что Лодий был знаком с философией И. Фихте и тем более Г. Гегеля, но именно в духе метафизики свободы И. Фихте и Г. Гегеля П. Лодий в качестве базового элемента нравственности выделяет право. Согласно П.Д. Ло-дию, только когда «родились первые семена естественного права, а с ними и наука нового систематического нравоучения... практические философы начали трудиться в исправлении нравоучительных наук» [16: 58]. Речь, разумеется, у Лодия идёт о естественном праве в том смысле, как его понимали Дж. Локк [23: 263-264] и Т. Гоббс [3: 402, 415]. Право не даётся гражданам государством, наоборот, государство исходит в своей политике и создаёт законы, ориентируясь на всеобщее, естественное право [22: 5]. Роль же самого государства сводится к обеспечению «общей безопасности и благоденствия» [22: 1]. Важно подчеркнуть, что именно П.Д. Лодий, независимо от того энциклопедического интеллектуального багажа, который он приобрёл в европейских университетах [15: 12, 20-22], находится у истоков последующего тотального интереса всей российской философии XIX в. к одной проблематике - социальной философии. Философия права, политическая философия Лодия, а также социальная антропология являются самыми разработанными и самостоятельными в его творчестве. При этом именно социально-политическая проблематика П.Д. Лодия наименее изучена историками философии. Традиционно исследователи объясняют этот факт утратой рукописей работ П.Д. Лодия «Естественное право народов» и «Полный курс философии», в которых концептуально была изложена авторская позиция по проблемам социальной философии. Однако авторская позиция не возникает сразу и не исчезает с потерей одной рукописи, если после неё были и другие работы. Даже те немногие ранние материалы и две опубликованные самим автором работы дают представление о цельности позиции Лодия по проблемам практической философии, философии права, социальной антропологии и философии политики. В «Логических наставлениях» П.Д. Лодий ведёт не отвлечённые рассуждения о природе человека и общества, а подводит итог двенадцатилетнего преподавания философии в России, который, по его мнению, не мог быть настолько осмыслен и концентрирован в рамках никаких других дисциплин, кроме философии [16: 120]. Если историческая наука, по Лодию, показывает, как государство постепенно оказалось в нынешнем состоянии права, нравственности и общественных институтов и отношений [22: 434], то история философии демонстрирует необходимый характер той или иной мысли История 47 в общественном сознании в определённый период [16: 23-24]. Общественные институты, по П.Д. Лодию, в буквальном смысле определяют познавательные способности и нравственность. Согласно автору «Логических наставлений», процветают лишь те государства, в которых поддерживается чувство свободы, развиваются умственные и нравственные способности [16: 116]. «От публичных учреждений зависит то, что народ оказывается больше или меньше талантлив» [16: 117], т. к. общественные институты в ответе за то, проявятся ли дарованные природой душевные силы и таланты людей или их индивидуальные задатки останутся нереализованными. П.Д. Лодий убеждён, что именно право и образование являются главными движущими силами общества и должны быть абсолютными приоритетами политики любого государства. Следует отметить, что П.Д. Лодий был во многом не согласен с гносеологией И. Канта, но вполне солидарен с категорическим императивом немецкого мыслителя. Разница лишь в том, что не столько индивидуальное моральное долженствование, сколько общественная атмосфера располагает человека к следованию нравственному категорическому императиву. Политика одних и тех же государств в зависимости от приоритетов, согласно Лодию, то выводила народы в авангард цивилизационного развития, то на целые века оставляла их на задворках истории. Но обнаруживается эта закономерность, согласно автору, только в философски рассматриваемой истории [16: 119]. Более того, согласно П.Д. Лодию, прогресс в философии оказывает прямое влияние и на прогресс в других науках [16: 17]. Как и для И. Канта, для П.Д. Лодия теоретическая философия познающего разума необходима, но не самоценна. Неокантианцы старательно обходили в своём детальном анализе тот факт, что во всех трех «Критиках» И. Кант постоянно констатирует: «...всякий интерес в конце концов есть практический и даже интерес спекулятивного разума обусловлен и приобретает полный смысл только в практическом применении» [7: 454], более того, критическая философия (гносеология) является только пропедевтикой философии [8: 121] «в том значении, в каком это слово понимали древние: для них она была указанием на понятие, в котором следует усмотреть высшее благо, и на поведение, которым следует достигнуть этого блага» [7: 439]. Как и немецкий мыслитель, карпато-русинский философ настаивал на принципиальной подчинённости чистого разума практическому. Познание для П.Д. Лодия не имеет смысла, если оно не направлено на совершенствование нравственности. Автор «Логических наставлений» не устаёт повторять основную мысль: «Будь заботливым в познании всего того, что ум твой познать может, и используй всё, тобой 48 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 опознанное, для той цели, чтобы стать морально добрым и поэтому достойным счастливого существования» [16: 13]. Именно здесь, переводя проблему соотношения теоретического и практического разума в духе системы трёх «Критик» И. Канта в социально-политический контекст, П.Д. Лодий отдаёт предпочтение формированию стратегии государственной политики в сфере образования. В эволюции общественного сознания критический разум оказывается доминирующим и конституирующим истины нравственной жизни. Это был неожиданный шаг в русле развития кантовской концепции субстанциальности практического разума. Практический разум, а не религиозная традиция формирует социальные нравы. И если на уровне индивидуального сознания практический разум лишь использует чистый разум, то на уровне социальном чистый разум формирует установки практического [16: 13]. Такого поворота в интерпретации кантовской критической философии не знала на тот момент ни западная кантианская традиция, ни российская. Интересно, что эти мысли автора о практической философии как цели теоретической и одновременно как первом этапе становления и теоретического основания социальных нравов можно найти уже в рукописях П.Д. Лодия от 1792 г. под названиями «Наставление Логики» [17] и «Наставления логическая в пользу юношества Российского учащегося в Семинарии...» [18], хранящихся в Львовской национальной научной библиотеке Украины имени В. Стефаника. Однако не только забота государства о философском образовании, но и значимость изучения словесности, согласно П.Д. Лодию, определяет высокий уровень развития граждан страны [20: 2; 21]. Из совершенствования национального языка, как убеждён автор «Логических наставлений» складывается и «совершенство дарований душевных и способа мышления, как каждого человека порознь, так и всего народа вообще» [16: 118]. Отсюда П.Д. Лодий сделал вывод о необходимости разработки отечественного языка, так как «усовершенствование его производит великие умы» [16: 118]. Естественные дарования, согласно автору, сами по себе не развиваются [16: 119]. При этом П.Д. Лодий оппонирует как логике развития индивидуальных способностей Т. Гоббса, так и логике нравственного развития Д. Юма и свободному субстанциальному самоопределению практического разума И. Канта. Таким образом, в результате анализа размышлений П.Д. Лодия о проблемах социально-философского знания представляется возможным в значительной степени переосмыслить выводы предыдущих исследователей его философского наследия. Наибольший вклад в историю философского знания был связан с оригинальными идеями и авторскими интерпретациями, относящимися к практической философии, социальной философии, этике, политической философии, соци- История 49 альной антропологии, философии права. Принципиально отказавшись от построения метафизических систем, опираясь преимущественно на исторический подход, П.Д. Лодий всю систему философского знания подчинил нравственной проблематике как последнему основанию и конечному смыслу всякого философствования.
Ключевые слова
история науки,
история философии,
история образования,
университетское образование,
социальная философия,
социальная антропология,
этика,
славянская философская мысльАвторы
| Богданов Владимир Владимирович | Южный федеральный университет | доктор философских наук, профессор кафедры философии Института управления в экономических, экологических и социальных системах | wbogdanov@gmail.com |
| Лысак Ирина Витальевна | Южный федеральный университет | доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии Института управления в экономических, экологических и социальных системах | ivlysak@sfedu.ru |
Всего: 2
Ссылки
Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине XIX века. Братислава - Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі; Відділ української літератури в Пряшеві, 1971. 229 с.
Возняк М. До характеристики Петра Лодія // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. 1913. Т. СХІІІ. С. 148-155.
Гоббс Т. Основы философии. Часть третья. О гражданине // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 270-506.
Денисенко М.С. Філософські погляди П.Д. Лодiя // Наукові записки Інституту філософії АН УРСР. 1961. Т. VII. С. 39-43.
Зверев В.М. Петр Дмитриевич Лодий в истории русской логико-философской мысли: дис. … канд. филос. наук. Л., 1964. 167 с.
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 350-588.
Кант И. Критика практического разума // Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4, ч. 1. С. 312-501.
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. 799 с.
Кант И. Логика: Пособие к лекциям // Сочинения: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 8. С. 266-398.
Кобзарь В.И. История Института философии СПбГУ. URL: http://philosophy.spbu.ru/899 (дата обращения: 03.06.2019).
Конох М. Філософія освіти як предмет соціально-філософського аналізу // Філософська думка. 2001. № 4. С. 127-146.
Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії: дис. … канд. філос. наук. Київ, 2008. 174 с.
Кримський С.Б. Нова раціональність - утвердження духовності // Вісник НАН України. 2000. № 11. C. 12-22.
Лодий П.Д. Инструкция Галичу. 1808 // Начертание об отправлении студентов Петербургского педагогического института в чужие края. Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. СПб., 1875. Т. 1. С. 463-465.
Лодій П.Д. Короткий вступ до метафізики // Історія філософії України. Хрестоматія: навчальний посібник / упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко. Київ: Либідь, 1993. 560 с.
Лодий П.Д. Логические наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного. СПб.: Типография И. Иоаннесова, 1815. 489 с.
Лодий П.Д. Наставление Логики: Рукопись. Львов, 1792 // Львовская национальная научная библиотека Украины имени В. Стефаника. НД - 348/I. 50 л.
Лодий П.Д. Наставления логическая в пользу юношества Российского учащегося в Семинарии…: Рукопись. Львов, 1792 // Львовская национальная научная библиотека Украины имени В. Стефаника. НД - 348/II. 50 л.
Лодій П.Д. Ономастикон превелебнiшому господину Миколаю Скородинському // Рудловчак О. Хрестоматія закарпатської української літератури XIX століття. Кошице, 1976. С. 4-6.
Лодий П.Д. Ответы на публичном конкурсе во Львовском университете. Львов, 1787. С. 1-3.
Лодий П. Рассуждение о происхождении 4-х факультетов, составляющие университеты, о науках в них преподаваемых и цели оных. Наброски статьи в защиту философии, три варианта (автограф) // Пушкинский дом - Институт русской литературы (ИРЛИ) РАН. Архив А.В. Никитенко. 19.034. СХХVII б.
Лодий П.Д. Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем государственном праве. СПб.: Типография Департамента внешней торговли, 1828. 462 с.
Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 135-406.
Мірчук І. Петро Лодій та його переклад «Elementa Philosophiae» Баумайстера // Філософська і соціологічна думка. 1993. № 4. С. 106-125.
Мозгова Н. Призначення логіки в теорії пізнання Петра Лодiя // Versus. 2014. № 2(4). С. 24-27. DOI: 10.7905/vers.v0i4.1015
Орлай И.С. 3 наукової спадщини. Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. 144 с.
Пушкин А.С. О причинах, замедливших ход нашей словесности // Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 7: Критика и публицистика. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. С. 14-15.
Рождественский С.В. Первоначальное образование С.-Петербургского университета и его ближайшая судьба // С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819-1919: материалы по истории С.-Петерб. ун-та / собр. и изд. И.Л. Маяковский и А.С. Николаев; под ред. проф. С.В. Рождественского. Пг.: 2-я Гос. тип., 1919. 760 с.
Философия в Санкт-Петербурге (1703-2003): Справ.-энцикл. изд. / отв. ред. А.Ф. Замалеев, Ю.Н. Солонин. СПб.: С.-Петербург. филос. о-во, 2003. 399 с.
Чернышева Е.Н. П.Д. Лодий и его вклад в становление философского университетского образования в России // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2014. № 7-8. С. 143-150.
Чума А., Бондар А. Українська школа на Закарпатті та Східній Словаччині (Історичний нарис). Ч. І. Пряшів: Видання ЦК Культурного Союзу Українських трудящих в ЧССР, 1967. 167 с.
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 9-342.
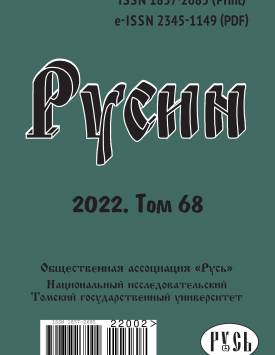

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью