Русинский «Робин Гуд» - Андрей Савка
Данная публикация посвящена личности знаменитого русинского (лемковского) гарнаса - предводителя разбойничьего отряда бескидников (опришков), одного из известных лидеров повстанческого и народно-освободительного движения на юге Польши и героя восточно-европейского народного фольклора из Дукли (Польша) Андрея Савки. В ней приведены собранные и обобщенные автором ценные и малоизвестные биографические сведения об этой знаковой для истории русинов фигуре. Освещены причины и предпосылки, ввиду которых Андрей Савка стал разбойником, организовал в Бескидах собственную ватагу (бурсу) и впоследствии примкнул со своей прославленной дружиной к Подгальскому крестьянскому восстанию 1651 г. под руководством польского офицера Александра Леона Костки-Наперского. Главной причиной назван сильный феодальный гнет со стороны местной польской шляхты, который понуждал русинских крестьян с оружием в руках отстаивать свои интересы, права и свободы, бороться против национальной и религиозной дискриминации, против крепостнических порядков, угнетения и притеснений. Автором подчеркивается, что Андрей Савка действовал не в своих личных и корыстных интересах, а из желания помочь простому народу, он раздавал изъятое у магнатов, помещиков и ксендзов имущество бедным русинским крестьянам, за что в литературе он получил прозвище «Робин Гуд лемков» и пользовался большой народной любовью и уважением. В статье подробно рассмотрены значение и роль, которые сыграли Андрей Савка и другие знаменитые предводители лемковских повстанцев - Василь Баюс и Василь Чепец - в народно-освободительной борьбе, развернувшейся в Малой Польше, Галиции и Прикарпатье, которую поддерживал гетман Богдан Хмельницкий и его сподвижники. Выделены обстоятельства, из-за которых Подгальское крестьянское восстание 1651 г. потерпело неудачу, а его лидеры были схвачены и преданы смертной казни. Сделан вывод о прогрессивной роли Андрея Савки в истории русинов, в которой он предстает одним из символов смелости и решительности в борьбе за свободу и справедливость.
The Rusin “Robin Hood” - Andrij Savka.pdf Личность жившего в XVII в. русинского разбойника из Дукли (Подкарпатское воеводство Польши) и героя восточноевропейского народного фольклора Андрея Савки привлекала внимание многих видных представителей науки русинистики: в частности Василя-Стефана Курилло (1861-1940), видного лемковского общественнополитического деятеля, узника Талергофа, греко-католического священнослужителя, изучавшего разбойничье движение (розбійницький рух) на Лемковщине, известного польского краеведа, публициста и историка Петра Трохановского (Петро Муранки), украинского этнографа, историка, крупнейшего «лемкознавца», общественного деятеля и автора свыше 1000 работ, посвященных лемкам, И.Д. Красовского (1927-2014), который написал так, к сожалению, и не экранизированную российской и украинской киноиндустрией, большую историческую киноповесть «Андрей Савка», и др. Его образ прочно закрепился в русинских преданиях, былинах, песнях и сказаниях, однако научных работ, которые в полной мере раскрывали бы причины, цели и суть его повстанческой (разбойничьей) деятельности, по-прежнему не хватает. В польской научной и публицистической литературе, посвященной событиям середины XVII в. на юго-востоке Речи Посполитой, историческую фигуру Андрея Савки неизменно «заслоняет» более известная и гораздо лучше изученная исследователями личность Александра Леона Костки-Наперского (Войцеха Станислава Бзовского), в бунте (в польских источниках Подгальское крестьянское восстание под предводительством А. Костки-Наперского 1651 г., как правило, именуется «бунтом» [24; 32]) которого приняли участие многие прославленные русинские гарнасы (разбойничьи вожаки): Андрей Савка, Василь Баюс, Василь Чепец и ведомые ими бескидники (или опришки, гультяи, списаки, левенцы, бетьяры, толхаи, «черные парни»). Трудности «реконструкции» исторического портрета Андрея Савки связаны не только с дефицитом точной, достоверной и систематизированной информации о нем, но и с тем, что этот народный заступник, как верно подметил П. Трохановский [20; 52], выступал под разными именами и псевдонимами, что нашло свое отражение и в русинском, польском и украинском фольклоре, в котором Андрей Савка предстает как «Савка Янко», «Иванко», «Янчик», «Янчик-разбойничек», «Овчар», «Сухай», «Ганчовский», «Вроник» [14: 51]. Некоторые современные польские и украинские историки предлагают идентифицировать легендарного вожака разбойников, часто скрывавшегося от карателей История 57 и преследователей в лесных чащах рядом с селом Высова-Здруй в Малопольском воеводстве Польши, - Сыпко, о котором не имеется никаких письменных источников, а сохранилась лишь народная память, как Андрея Савку. Об этом Сыпко, наводившем страх на польских магнатов, арендаторов (откупщиков) и ксендзов в Подгалье и Закарпатье, сохранилось передаваемое из уст в уста предание, которое записал украинский ученый Василь Хомык. Согласно этому преданию, Сыпко среди бела дня верхом на лошади въехал в костел и одним ударом сабли отрубил голову польскому католическому священнику [26: 104]. Гордостью, любовью и сочувствием проникнуты строки народных былин и преданий о разбойниках Лемковщины, которых в XVII в. в том крае, попавшем под власть Габсбургов, Речи Посполитой и греко-католической унии, появилось немало. В то же время в них содержится печаль, боль и искреннее сожаление о том, что честные, трудолюбивые и набожные люди христианского вероисповедания вынуждены под тяжестью обстоятельств заниматься грабежом и разбоем [3; 8; 15], и часто встречаются присказки и слова, до сих пор используемые в повседневности в украинских селах и вынесенные подольским писателем М.А. Стельмахом в название его известного романа о раскаявшемся петлюровце с Винничины: «Кровь людская -не водица». О размахе разбойничьего промысла среди руснаков-лемков той поры говорит не только устное народное творчество, но и возникший в те времена в Галиции и Прикарпатье танец, названный «Разбой-ницким» и ставший таким же популярным среди лемков, как аркан среди гуцулов, кшесаны среди подгальских гуралей и жок среди молдаван [22: 94-96]. Об этом старинном мужском русинском танце, символизирующим мужество, ловкость и отвагу и исполняющимся с оружием в руках (как правило, с топориком на длинной рукояти - барткой (валашкой, цюпагой)), упоминал Мирча Элиаде во многих своих исследовательских работах, посвященных румынским и молдавским русалиям (калушарам) - членам тайных и мистических обществ и братств, практиковавшим ритуальные акробатические танцы [25: 151]. По свидетельствам современников, Андрей Савка обладал незаурядной внешностью: он был очень высокого роста, крепок и широкоплеч, обладал неимоверной силой (Иван Филипчак в книге «Стра-дальці i месники. Лемківська історична повість з XVII ст.» называет его «Лемковским Ильей Муромцем» [15: 69]), громким раскатистым голосом, носил красивую, вышитую национальными узорами и традиционную для русинов (лемков), живущих в Низких Бескидах, одежду: щегольски накинутый на плечи нарядно расшитый и украшенный 58 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 нитями безрукавный «лемковский плащ» из шерстяного сукна - чугу (чуханию, чучу, гуньку), черес - широкий кожаный пояс, длинную белую рубашку-сорочку и белые, узорчатые, также характерные для лемков, брюки, широкополую шляпу с павлиньими перьями и кутасами. Волосы Андрей Савка отпустил на горский, «гуцульский», манер: они были длинными, до плеч и не заплетенными (распущенными) [27: 18]. В этом плане А. Савка был схож с таким своим собратом по оружию, как вождь опришков Олекса Довбуш (который также носил не заплетенные длинные волосы [4; 5]), однако отличался от ближайших соседей - словацких бескидников Томаша Угорчика и Юрая Яношика, которые заплетали свои волосы в косы (считается, что обычай заплетать волосы в косы укоренился в XVII-XVIII вв. у словацких и сотац-ких мужчин вследствие длительного насильственного рекрутского набора в ряды армии Габсбургов среди многих офицеров и солдат (как кавалеристских (гусаров и др.), так и пехотных (пандуров и др.)), в которой весьма долгое время сохранялась пришедшая с Балкан мода заплетать волосы в косы). Андрей Савка появился на свет в холодную зиму 13 декабря 1619 г. в маленьком русинском селении Стебник к западу от села Зборов в населенном руснаками-лемками Прешовском крае (район Бардеёв в Словакии в исторической области Орава), который входил в ту пору в состав владений Габсбургской монархии (в наши дни -территория Республики Словакия), в семье православного дьяка. Как и его отец, он был хорошо обучен грамоте и свободно говорил на трех языках: карпаторусинском, словацком и польском, что было характерно для многих предводителей опришков (гарнасов), чьи ватаги (бурсы) довольно часто были многонациональными и состояли из весьма близких в ту пору по хозяйственной культуре и повседневному быту русинских, гуральских, словацких, валашских и мадьярских простолюдинов [26: 448]. Андрей Савка довольно рано осиротел: сначала скончалась от болезни его мать, а после умер отец. Будучи подростком, он, как и тысячи его соплеменников-русинов, был вынужден постоянно, тяжело и изнурительно работать (трудился преимущественно овчаром на полонинах), отбывая панщину (барщину), отмененную в Галиции и Закарпатье лишь в 1848 г. [2: 83], всевозможные крестьянские повинности (в частности, тележную - предоставление по две телеги со двора для панских перевозок) и перенося разные притеснения со стороны местных панов и арендаторов. В 1638 г., когда Андрею Савке исполнилось 19 лет, он решил прекратить терпеть унижения и за дарма «гнуть спину» на польских помещиков: со своими молодыми товарищами он поджег помещичью усадьбу (мызу, фольварк) История 59 и ушел «за Тису» [27: 332-333] в прославившийся к тому времени разбойничий отряд Василя Баюса (Лещинского) - русина, беглого крестьянина из села Лещины (Малопольское воеводство Польши), прозванного среди руснаков «Жовтовусием» за желтый цвет его пышных и длинных усов (согласно народным преданиям, свои длинные усы он закладывал за уши и вплетал в них золотые дукаты [14: 56]). В начале XVII в. в Галиции и на Лемковщине - ввиду существенного усиления феодального гнета - со стороны местного крестьянского населения заметно усилилось национально-освободительное движение и участились случаи разбоев, грабежей, поджогов и нападений на дворянские поместья. В 1641 г. русинские выступления, погромы и беспорядки произошли во многих селениях Перемышльской земли (Витушинцы, Грушев, Лашки, Хотинец и др.). В І643 г. русины г. Калуша и окрестных сел напали на Подгородецкое имение. В 1645 г. в г. Галиче состоялось крупное выступление карпаторусов против местного польского старосты Яна Потоцкого. Притеснения и грубые нарушения закона со стороны другого польского магната - Петра Потоцкого, привели в 1646 г. к волнениям русинов из г. Снятын (Покутье). При этом многие русины покинули дома и разбили большой полевой лагерь прямо у молдавско-польской границы. После призывов польских властей вернуться они пришли в свои дома, однако наотрез отказались исполнять панщину. К бунтовщикам-ру-синам активно присоединялись молдаване, словаки, поляки, валахи [1; 12; 18]. Их объединенные вооруженные дружины в 1642 г. захватили родовое поместье магнатов Гротковских. При этом повстанцы сожгли все найденные ими документы о феодальных повинностях местных крестьян и о правах проживавших там феодалов на земли. Весной 1648 г. опришки напали на Новотанецкий замок, захватили шляхетский двор в Борыне (селении рядом с г. Турка-над-Стрыем) и взяли приступом хорошо укрепленный замок в г. Санок, освободив заключенных в нем русинских крестьян [15: 38]. Угроза дальнейшего усиления и разрастания повстанческого движения в Карпатах и Бескидах привела к тому, что император Священной Римской империи Фердинанд III в 1643 г. издал в адрес дворян и руководителей округов (жупанов) декрет, в котором призвал их без промедления выступить против восставших, а шляхта Русского воеводства на собрании в г. Судовая Вишня близ Яворова в 1647 г. постановила мобилизовать панских гайдуков (вооруженных прислужников), жолнеров и смоляков и организовать военные карательные экспедиции против отрядов мятежников [6: 272-273]. В 1652 г. польские магнаты и шляхтичи Галицкой земли отправили в Сейм Речи Посполитой послание о тревожащей их неспокойной 60 g J Ml 'Cl III 2022. № 68 ситуации в Русском воеводстве, Черновицкой и Хотинской волостях Молдавского княжества. Их тревоги и опасения не были напрасными: в 1654 г. на этих территориях началось вооруженное выступление во главе с русином Дитинкой [7]. Все это наглядно свидетельствовало о том, что в те времена русинская народно-освободительная борьба в Карпатском регионе приобрела очень большой размах. Ватага Василя Баюса, продолжительное время успешно действовавшая в районе Горличины (село в Подкарпатском воеводстве Польши), была тогда одной из самых известных среди местного лемковского населения. В ту пору многие русинские юноши сбегали из родных сел и присоединялись к этому отряду; Василь Баюс никому не отказывал в приеме и всячески опекал молодых русинских повстанцев, смело и решительно поднявшихся на борьбу за освобождение от ненавистной им панщины [4; 19]. Другими не менее известными разбойничьими ватагами, состоявшими преимущественно из русинов, были отряд (за-гін) Степана Солинки и дружина карпатских горцев, базировавшаяся в пещерах Маковицкой горы в Горганах (Прикарпатье) и руководимая гарнасом Сенько (Санько) Маковицким, которая также нередко проникала на территорию Бойковщины и Лемковщины [2; 14; 30]. До того как возглавить разбойничий отряд, Василь Баюс был сол-тысом (шультгейсом) - человеком, назначенным местным помещиком (паном) для взимания податей и осуществления судебных функций в селе. Однако такая работа была ему не по нраву, и когда его попытались призвать на очередную войну в качестве рекрута, он собрал все свои пожитки и сбежал в Бескиды. Там он организовал свою дружину (бурсу) и начал нападать на дворянские поместья, хутора и корчмы, а также на проезжих купцов и местных войтов (старост). От действий Василя Баюса и его бесстрашных сподвижников - опришков - пострадали многие помещичьи имения и усадьбы в районах Крыницы, Лещин, Центковиц, Янушковиц и др. Баюсовцы успешно противостояли крупным воинским подразделениям польских ротмистров, охранявших дворянское и церковное имущество. Примечательно, что под влиянием идей Александра Костки-Наперского Василь Баюс даже хотел сформировать из русинов Польши и Словакии постоянное (регулярное) войско в целях поддержания порядка и охраны русинского населения Лемковщины [31]. Наряду с победами были у баюсовцев и неудачи: зимой 1648 г. староста Бича отправил против них большой польский карательный отряд, которому ценой немногих усилий удалось вытеснить лем-ковских разбойников на территорию Венгрии [10: 18]. Повстанцы оказались в затруднительном положении, лишившись опоры и поддержки со стороны населения родных им мест. Однако в январе История 61 1648 г. на Украине началось крупномасштабное народное восстание под руководством Богдана Хмельницкого, известие о котором быстро дошло до самых западных русинских селений, придало сил и подняло моральный дух лемковских разбойников, в ряды которых стало стекаться все больше людей. К тому времени Андрей Савка уже отделился от ватаги Василя Ба-юса и во главе собственного многочисленного и закаленного в боях и стычках отряда нападал на панские владения, фольварки, костелы, мельницы и корчмы, грабя и разоряя их. Его отряд располагался и действовал в районе г. Дукли и Дуклинского перевала (Подкарпатское воеводство Польши), в связи с чем за Андреем Савкой закрепилось прозвище «Савка из Дукли» (также ведомые А. Савкой разбойники часто появлялись в окрестностях польских городов Горлице, Грыбув, Санок и Ясло). Не будучи по природе стяжателем и алчным, корыстным человеком, он раздавал награбленное малоимущим и нуждающимся, отчего заслужил народную любовь и получил прозвище «Робин Гуд лемков». Бескидники из бурсы Андрея Савки были неплохо вооружены; их вооружение составляли копья - списы (поэтому их также нередко назвали списаками), рогатины, ружья (крисы), пистолеты, длинные ножи и традиционные для карпатских руснаков топорики-бартки (балты, валашки, фокоши). В отрядах лемковских разбойников существовал обычай добивать своих тяжелораненых товарищей, чтобы они не попали в руки карателей и не подверглись пыткам и наказаниям, которые были крайне жестокими (толхаев (опришков) и людей, помогавших им, четвертовали, сжигали на медленном огне, растягивали на дыбе и т. д.) [33: 81-82; 34; 37]. Слава руснака Андрея Савки быстро разрасталась, а его имя еще при жизни этого народного заступника начало окутываться ореолом легенд, былин и фольклорных сказаний. Любовь русинского простого люда и успехи действовавшего уже более десяти лет повстанческого отряда Андрея Савки привели к тому, что весной 1649 г. в селе Барвинок недалеко от г. Кросно в Перемышльской земле на общем сходе разбойничьих предводителей и вожаков (этим собранием руководил Сенько Маковицкий) все действовавшие тогда отряды были объединены в один под началом Андрея Савки, авторитет которого был тогда очень высок. К этому сводному отряду присоединился вернувшийся из Венгрии Василь Баюс и другой знаменитый гарнас (главарь) лемковских разбойников - Василь Чепец из Грыбува (который также, как и Андрей Савка, был сыном русинского священника) со своими людьми [33: 103; 38]. Повстанческий отряд Андрея Савки, насчитывавший несколько сотен бойцов, постоянно пополнялся: «Від Сяну до карпатського 62 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 Підбескиддя, в околицях Дуклі і Кросна, руський народ горнувся до збійницьких дружин», - так писал об этом польский историк Людвиг Кубаля [10: 20]. Разрастанию народно-освободительного движения в Надсанье и Бескидах во многом способствовали блистательные победы войск Богдана Хмельницкого и его полковников (Ивана Богуна, Максима Кривоноса, Данилы Нечая, Кондрата Бурлея, Станислава Морозенко и др.) над поляками под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами, Зборовом, Батогом, Винницей и пр. В 1651 г. полковник Данила Нечай планировал выдвинуться со своими подольскими казаками с Винничины (Брацлавщины) и пройти через Санок и Загуж до Кракова, однако его гибель под Тывровом в Подолье не позволила осуществиться этим планам. Другим немаловажным обстоятельством являлось и то, что деятели Хмельнитчины отправляли в Карпатский регион своих эмиссаров, агентов и агитаторов. Таким эмиссаром, в частности, был казак Ярема Копчевский, который посетил многие карпатские города и села, где его очень тепло и радужно встречало местное русинское население, и был схвачен поляками в окрестностях Надворной. В 1649 г. группа из нескольких десятков агитаторов и пропагандистов под началом казака В. Колаковского была отправлена руководителями Освободительной войны украинского народа в Бескиды с заданием поднять местных горцев на борьбу. Во время пребывания Богдана Хмельницкого под Львовом он проводил переговоры с посланниками поддерживающего его трансильванского князя Дьердя II Ракоци, которых эскорт украинских казаков сопровождал до г. Мукачево. Встречая их на пути следования, местные закарпатские крестьяне брались за оружие и спешили присоединиться к казакам [2; 9]. В 1657 г. в Закарпатье прибыло объединенное трансильванскоказацкое войско во главе с князем Дьердем ІІ Ракоци и наказным гетманом, киевским полковником Антоном Ждановичем. Оно взяло г. Перемышль и двинулось в Малую Польшу, где победоносно вступило в г. Краков. Затем это войско заняло города Люблин, Брест и в 1657 г. взяло г. Варшаву, подвергнув польскую столицу пожарам и сильному разграблению. Гетман Богдан Хмельницкий хорошо знал о масштабах повстанческого движения в Карпатах и всячески его поддерживал; в своих универсалах он обращался к русинскому крестьянству: «Виб'ю з лядськоі неволі народ увесь. Допоможе мені в тому селянство по Люблин та Краків, бо то права рука наша...» [10: 20]. Эти универсалы использовал Андрей Савка, обращаясь к руснакам с воззваниями и призывая их на борьбу против социального, религиозного и национального угнетения. Также он располагал и другими универсалами - состав- История 63 ленными на основе манифестов, грамот и посланий Б. Хмельницкого универсалами (письмами) находившегося в контактах с Богданом Хмельницким шляхтича, офицера польской армии Александра Леона Костки-Наперского, который весной 1651 г. объявился в Подгалье и быстро завоевывал к себе доверие и симпатии со стороны крестьян. А. Костка-Наперский поднимал русинских, гуральских и польских крестьян Подгалья на восстание, зная об их крайнем недовольстве засильем жестоких феодальных порядков и обещая им свободу от панского гнета. По поводу последнего в письме от 20 июня 1651 г. сподвижник А. Костки-Наперского Мартин Радоцкий писал ему: «Однако изволь со своей стороны как можно скорее разослать среди населения тех краев письма, которым бы они верили и охотнее собирались. Прежде ведь многие из них говорили: “Когда б разрешение или голос услышали, тогда б вправе были пойти на шляхетские дворы и разорить их, чтобы никогда больше не властвовали на земле их высокомерие, гордость и жестокость”» [29: 25-26]. Дружины Андрея Савки и Василя Чепца поддержали восставших и приняли активное участие в Подгальском крестьянском восстании 1651 г. С их помощью повстанцы во главе с А. Косткой-Наперским в ночь с 14 на 15 июня 1651 г. захватили горный замок Чорштын в Краковском воеводстве недалеко от границы с Венгрией, дав тем самым сигнал к общему восстанию крестьян, которое за считанные дни охватило все Подгалье и вышло за его пределы. После этого события краковский епископ Петр Гембицкий срочно созвал совет, на котором было постановлено немедленно отправить отряд на освобождение замка от мятежников. Во время осады Чорштынского замка поляками на помощь осажденным пришли русины Андрея Савки и Василя Чепца, которые в самый решающий момент напали на польские войска и наголову разбили их. Из-за нехватки продовольствия и фуража А. Костка-Наперский велел крестьянам-лемкам, приведенным Андреем Савкой, отойти и при появлении сигнала тревоги немедленно вернуться обратно, а также отправил гонцов к Василю Баюсу с просьбой также незамедлительно прийти на помощь. Вскоре к замку Чорштын подошел еще один более многочисленный польский отряд и взял его в плотную осаду. У осажденных быстро закончился порох и другие боеприпасы, и они с башен и стен замка бросали на поляков камни и лили горячую смолу. Они ждали помощи от крестьян и мещан из разных районов юга Польши, которые получили от А. Костки-Наперского универсалы и были готовы к общему походу на г. Краков, а потом и на всю Польшу. Поддержать подгальских инсургентов должны были чешские, словацкие и венгерские крестьянские отряды [11; 13; 16; 28]. 64 g J Ml 'Сі III 2022. № 68 Ввиду того что осада замка затянулась, краковский епископ стянул к нему еще больше войск и отправил своих посланников в военный лагерь Яна Казимира под Берестечком с просьбами о подкреплении. Поражение армии Богдана Хмельницкого в битве под Берестечком дало польскому королю возможность отправить для подавления мятежа отряд под командованием конюшего Александра Любомирского и мечника Михаила Зебжидовского. Однако краковский епископ Петр Гембицкий успел подавить Подгальское восстание собственными силами: 24 июня 1651 г. группа предателей сдала Чорштынский замок, так и не получивший обещанной помощи со стороны восставших крестьян, полковнику Вильгельму Яроцкому. Помощь от Василя Баюса и других русинских вожаков не пришла вовремя, так как лемковские крестьяне по пути увлеклись разграблением помещичьих усадеб: «Баюсівці зробили ту саму помилку, яку звичайно руснаки роблять: спізнилися. Не спішилися, бо по дорозі нападали на корчми і двори» [22: 156]. А. Костка-Наперский и его ближайшие сподвижники Станислав Лентовский и Мартин Радоцкий были схвачены и отправлены в Краков. Там все трое предстали перед судом и были приговорены к смертной казни. А. Костка-Наперский был подвергнут наиболее мучительной казни - сожжению на медленном огне и посажению на кол: вначале ему сожгли один бок, затем второй, а потом он, еще живой, был посажен на кол. Через несколько дней тела всех казненных были захоронены в неизвестном месте [23: 243-244; 35]. Существует мнение, что Александр Костка-Наперский был шведским агентом и действовал в интересах шведов, основанное на том, что во время Тридцатилетней войны он в звании капитана в течение нескольких лет служил в шведской армии, а его подрывная и повстанческая деятельность предшествовала шведскому вторжению в Речь Посполитую. Прямых и убедительных доказательств этому нет, однако в то же время имеются факты, свидетельствующие о том, что А. Коста-Наперский никогда открыто не проявлял шведских симпатий и не призывал лидеров подгальских крестьян поддерживать шведов - наоборот, тот же Андрей Савка со своим отрядом во времена Шведского потопа (Кровавого потопа) 1655-1660 гг. доблестно сражался против шведских войск на стороне польского короля. Думается, что Александр Коста-Наперский, будучи человеком амбициозным и обладая авантюристической натурой, действовал в собственных интересах, опираясь при этом на поддержку Богдана Хмельницкого и предводителей бескидников (опришков) и желая «в пожарище, в золу и прах обратить старую Польшу и создать новую, из польского дуба и польской пшеницы» [17: 388]. История 65 После подавления Подгальского восстания 1651 г. Андрей Савка и его люди избежали какого-либо наказания с условием, что они больше никогда не будут воевать против войск Речи Посполитой. А. Савка вернулся в район Низких Бескид, где продолжил свой разбойничий промысел, сохраняя среди народа репутацию благородного разбойника («Робин Гуд лемков») и по-прежнему раздавая отобранное у магнатов, ксендзов и панов имущество бедным крестьянам. Спустя десять лет, после подписания перемирия в Оливе, когда шведская экспансия была остановлена, польские власти решили покончить с разбойничьим движением в Карпатах. После нескольких месяцев поиска им удалось окружить и схватить Андрея Савку. Согласно материалам сохранившихся мушинских судебных актов, Андрей Савка был подвергнут пытке, предстал перед судом присяжных, был приговорен к смертной казни и 24 мая 1661 г. повешен в польском городе Мушина [21; 22; 36]. Так закончился славный, мужественный и самоотверженный жизненный путь русинского «Робина Гуда», который посвятил его самому, по словам Н.А. Островского, прекрасному в мире - борьбе за освобождение людей. Повстанческая борьба, осуществлявшаяся под руководством Андрея Савки, и его многочисленные личные подвиги сыграли большую роль в истории руснаков-лемков, не случайно личность этого народного героя стала нерушимым символом борьбы за свободу и справедливость, за историческое самосохранение русинов, которые волею судьбы оказались под польским и австрийским владычеством и испытали на себе все тяжести феодального гнета. Память об Андрее Савке уже сотни лет передается из поколения в поколение, его имя не забыто до сих пор во многом благодаря отображению в русинском народном фольклоре - в этом богатом, красивом, зародившемся еще в глубокой древности и содержащим в себе уникальный культурный код источнике выражения национального самосознания русинов.
Ключевые слова
Андрей Савка,
лемки,
повстанческое движение на Лемковщине,
русины в Польше и Словакии,
крестьянские бунты,
Подгальское крестьянское восстание 1651 гАвторы
| Корсаков Константин Викторович | Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук | кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела права | korsakovekb@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Антонович В.Б. Монографии по истории западной и юго-западной России. Киев: Тип. Е.Я. Федорова, 1885. Т. 1. 351 с.
Безьев Д.А. Украина и Речь Посполитая в первой половине XVII в. М.: Прометей, 2012. 214 с.
Берг Л.Н., Корсаков К.В. Якуб Шеля: неизвестные страницы истории // Русин. 2021. № 64. С. 71-88.
Богатырев П.Г. Фольклорные сказания об опришках Западной Украины // Советская этнография. 1941. Т. 5. С. 59-80.
Висіцька Т. Опришки. Легенди і дійсність. Ужгород: Ліра, 2007. 312 с.
Гнатюк В. Записки товариства імені Шевченка. Т. 201: Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження: 1871-1981. Нью-Йорк, 1981. 288 c.
Гончарук М., Грицюта М. Великi iдеї не вмирають // Вiтчизна. 1964. № 1. С. 210-212.
Грабовецький В.В. Олекса Довбуш. Львів: Світ, 1994. 272 с.
История Украинской ССР: в 10 т. Т. 2: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина XIII - первая половина XVII в.). Киев: Наукова думка, 1982. 591 с.
Казанский П.Е. Присоединение Галичины, Буковины и Угорской Руси. Одесса: Тип. Епархиального Дома, 1914. 14 с.
Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1938. 645 с.
Красовський I. Лемківський народний календар. Бібліотека Лемківщини. Кн. 10. Львів: Край, 1994. 96 с.
Красовський I., Солинко Д. Хто ми, лемки… Популярний нарис. Львів: Редакцiйно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1991. 48 с.
Миллер И.С. Крестьянское восстание в Подгалье в 1651 году // Ученые записки Института славяноведения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. C. 155-215.
Миллер И.С. Освободительная война 1648-1654 гг. и польский народ // Вопросы истории. 1954. № 1. С. 96-116.
Оркан В. Костка Наперский. М., Л.: Московский рабочий, 1927. 208 с.
Погодин А.Л. Зарубежная Русь. Петроград: Изд. П.П. Сойкина, 1915. 32 с.
Полянский И.В. История Лемковины: в 5 ч. Нью-Йорк: Юнкерс, 1969. 384 с.
Тетмайер К. Легенда Татр. М.: Гослитиздат, 1960. 392 с.
Трохановский П. Андрий Савка в пантеонi лемкiвскых збiйникiв // Лемкiвскiй календар. Стоваришыня лемкiв. 1999. С. 50-60.
Украинские Карпаты: история / Ю.Ю. Сливка, Я.Д. Исаевич, В.И. Масловский и др. Киев: Наукова думка, 1989. 262 с.
Филипчак I. Страдальцi i месники. Лемкiвська iсторична повiсть з XVII ст. Клiфтон, Ню Джерзi: Компютопринт, 2005. 172 с.
Bebynek W. Starostwo muszynskie - wlasnosc biskupstwe krakowskiego. Lwow: Nakl. aut. 1914. 75 s.
Bendza M. Sytuacja wyznaniowa na terenie klucza Muszynskiego w XVII w. // Rocznik Teologiczny. 1980. T. 22, № 1. S. 137-148.
Eliade M. Some Observations on European Witchcraft // History of Religions. 1975. Vol. 14, № 3. P. 149-172.
Janicka-Krzywda U. Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbojnictwie. Warszawa-Krakow: PTTK «Kraj», 1986. 88 s.
Janicka-Krzywda U. Poczet harnasi karpackich. Warszawa-Krakow: PTTK «Kraj», 1988. 62 s.
Kersten A. Na tropach Napierskiego. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1970. 249 s.
Kolberg O. Dziela wszystkie. T. 50: Sanockie-Krosnienskie. Wroclaw, Poznan: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1973. 445 s.
Lysiak L. Ksiega sadowa kresu klimkowskiego 1600-1762. Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1965. 440 s.
Magocsi P.R., Pop I. Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2002. 520 p.
Ochmanski W. Zbojnictwo goralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej. Warsawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1950. 251 s.
Orlowski S. Tolhaje czyli zboje w Bieszczadach. Rzeszow: Carpathia, 2009. 152 s.
Piekosinski W. Akta sadu kryminalnego Kresu muszynskiego 1647-1765 // Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Krakow, 1889. T. IX. S. 321-395.
Przybos A. Materialy do powstania Kostki Napierskiego 1651 r. Wroclaw: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich, 1951. 150 s.
Slownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia / red. K. Lepszy, S. Arnold. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968. 490 s.
Slownik historii Polski / red. T. Lepkowski. Warszawa: Wiedza powszechna, 1973. 941 s.
Zyga A. Grybow i okolice w zwier-ciadle pismiennictwa // Grybow: Studia z dziejow miasta i regionu: praca zbiorowa. Krakow: Universitas, 1995. T. 3. S. 102-108.
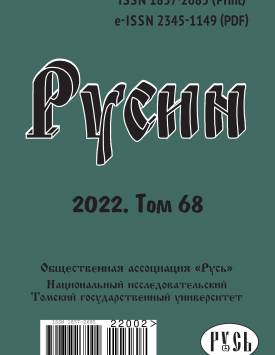

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью