Предлагается лингвокультурологический и аксиологический анализ русинских пословиц и поговорок компонентом-орнитониомом куриця, курка. Общее число таких языковых единиц - 25. Источниками материала послужили русинские словари Д. Попа и И. Керча, а также многочисленные паремиологические сборники украинского, белорусского, русского и инославянского малого фольклора. В необходимых случаях привлекались и неславянские источники, расширяющие ареальную зону бытования русинской орнитологической паремиологии. орнитологические паремии - одна из активных групп паремиологических анимализмов. Как показывают предыдущие исследования, некоторые из таких русинских лексем (например, потя) уходят в праславянскую эпоху, демонстрируя ценность русинского языкового материала для общеславянских реконструкций. Анализируемый материал характеризуется структурно-семантическим и образным разнообразием: 1. Поговорки (resp. фразеологизмы): Збыв бы пилахижікури пытати;здохла тэта курочка, што двіяйця несла; куряча памнять; курьом на сміх; курячой око. 2. Устойчивые сравнения: голоден, ги мелникова курка; куріцматься ги квочка на яйцьох; розсілася ги квочка; писати ги куриця лаббв; такий ги мокра куриця; трафилося ги сліпув курици зирня; упало му ги сліпув курици зирня. 3. Пословицы: Из курьми лігай. а з когутами вставай; Лігай спати из курьми. а вставай з когутом; И сліпув курици зирня ся трафить; Кому свальба. а курици смирть; Кому што. а курици зирня; Котра куриця много кодкодаче. тота ся мало несче; Кури на сідало. баба на лежало; Куриця гребе. обы дашто угребла; Куриця думала та й здохла; Куря квочці не розказуе; Яйце курицю учить. 4. Разное: Присядьте дамало. обы ся у нас кури несли; Ходи на пальцьох. кідьхочеш имити куріцю на яйцьох. Ср. также образное русинское название Плеяд, Семизвездия - 'Куричкы. Русинские паремии с компонентами-орнитонимами отражают органическое единство душевной, психической и телесной характеристики человека и различных ситуаций, в которые он попадает. Находят в этих паремиях и такие стороны, как эмоционально-психические особенности, физическая и речевая деятельность, интеллектуальные свойства, физиологическое состояние и т. п. Представленные факты убедительно доказывают значимость такой характеристики языковыми средствами. Отражая концептуальную универсальность орнитонимов, они в то же время демонстрируют как конкретные межъязыковые и культурные связи с паремиологией других народов, так и собственную национальную специфику, сформировавшуюся на конкретной территории в конкретный исторический период. Русинская специфика, как показало ее сопоставление с аналогичной украинской, белорусской и русской, а также польской, словацкой и чешской на широком общеевропейском фоне, проявляется в основном в форме паремий, а не в их содержании. Дидактический смысл славянской (в том числе и русинской) паремиологии остается в основном интернациональным. Тем самым русинский язык и его культура, в том числе и паремиологическая, демонстрируют древнее и неразрывное единство славянской и неславянской Европы, постоянно обогащавших друг друга своим взаимопроникновением.
From paremiological heritage of the Rusin language (ornithonyms ‘kuritsya’, kurka).pdf Введение Русинская фразеология и паремиология в последнее время стала объектом пристального изучения, поскольку именно она объективно отражает как национальную специфику, так и многоаспектное взаимодействие русинского народа с другими славянскими этнокультурами. Системный сопоставительный анализ показывает целесообразность и эффективность рассмотрения компактных тематических блоков пословиц и поговорок, образуемых на основе конкретной образной доминанты. Особой фразеологической активностью отличаются так называемые натуральные (термин Ст. Скорупки [31]) фразеологизмы и паремии, т. е. пословицы и поговорки, образованные соматическими и анималистическими компонентами. Орнитологические пословицы и поговорки - одна из таких активных групп паремиологических анимализмов. Как показывают предыдущие исследования, некоторые из таких русинских лексем (например, потя) уходят в праславянскую эпоху, демонстрируя ценность русинского языкового материала для общеславянских реконструкций [12]. В статье значимость такого лингвистического выбора иллюстрируется на материале одной из численно представленных подгрупп орнитонимов, образованных на основе лексемы куриця, курка. По данным общих и специальных фразеологических словарей русинского языка [5; 16; 17], число таких пословиц и поговорок - 25 единиц. При этом они относительно равномерно распределяются по традиционным жанрам малого русинского фольклора, т. е. поговоркам, устойчивым народным сравнениям и пословицам. Материал исследования Учитывая структурно-сематическую специфику каждого из названных типов паремий, выделим их из собранного материала: 1. Поговорки (resp. фразеологизмы): Збыв бы пилахижі кури пыта-ти; здохла тота курочка, што двіяйця несла; куряча памнять; курьом на сміх; курячой око. 2. Устойчивые сравнения: голоден, ги мелникова курка; куріцмать-ся ги квочка на яйцьох; розсілася ги квочка; писати ги куриця лабов; такий ги мокра куриця; трафилося ги сліпув курици зирня; упало му ги сліпув курици зирня. 3. Пословицы: Из курьми лігай, а з когутами вставай; Лігай спати из курьми, а вставай з когутом; И сліпув курици зирня ся трафить; Кому свальба, а курици смирть; Кому што, а курици зирня; Котра куриця много кодкодаче, тота ся мало несче; Кури на сідало, баба на 2022. № 68 188 лежало; Куриця гребе, обы дашто угребла; Куриця думала та й здохла; Куря квдчці не розказуе; Яйце курицю учить. 4. Разное. В такую группу паремий можно отнести и словосочетания, которые, строго говоря, не относятся к выделенным трем разрядам. Таковы, например, пожелания, основанные на поверьях, которые якобы могут повысить яйценоскость кур: Присядьте дамало, обы ся у нас кури несли; Ходи на пальцьох, кідь хдчеш имити куріцю на яйцьох. Ср. также образное русинское название Плеяд, Семизвездия - 'Куричкы. Представим лингвистическую характеристику каждой из выделенных групп русинских пословиц и поговорок, предложив их анализ в сопоставлении с другими славянскими и неславянскими паремиями. При этом будет очерчен их ареал, определена их семантика и структура и предложена историко-этимологическая и лингвокультурологическая характеристика каждой такой языковой единицы. 1. Поговорки (resp. фразеологизмы). В словаре Д. Попа [17] они последовательно сопровождаются украинскими и русскими эквивалентами, что облегчает их семантическую характеристику и частично проясняет их внутреннюю форму: Збыв бы пилахижі кури пытати - наче опдало городне - как чучело гороховое (букв. остался бы возле хаты, чулана, хлева кур щупать). Здохла тота курочка, што дві яйця несла - здохла курочка, що золоті яйця несла - подохла курочка, что золотые яйца несла. Курьом на сміх - курам на сміх - курам на смех. Куряча памнять - ледача пам'ять - куриная пам'ять. В русинско-русском общем словаре И. Керча зафиксировано лишь одно устойчивое словосочетание с производным от корня кур-: Курячой око - твердая мозоль [5: 458]. Рассмотрим названные русинские паремии на общеславянском, а некоторые - на общеевропейском фоне. Поговорка збыв бы пила хижі кури пытати [17: 130], судя по украинскому и русскому эквивалентам (укр. наче опдало городне -рус. как чучело гороховое), имеет пейоративное значение ‘о нелепо, безвкусно одетом человеке; о человеке, служащем посмешищем'. Но если последние восходят к обычаю ставить в горох, чтобы отпугивать птиц, пугало или чучело [1: 761], то образ русинского оборота оригинален - букв. остался бы возле хаты (чулана, хлева) кур щупать. И не случайно поэтому на славянском языковом пространстве он не находит параллелей и остается национально маркированным. Иное дело - словосочетание куряча памнять, соответствующее рус. куриная память [17: 157]. Хотя Д. Поп сопровождает его описательным украинским эквивалентом ледача пам’ять, оно имеется и Лингвистика и язык 189 в украинской фразеологии - куряча пам’ять [14: 96], а в народной речи фиксируется и в варианте куряча голова [4: 264; 18]. Известно оно и белорусскому языку: бел. курыная памяць [2: 605]. В соседнем польском подобные выражения зафиксированы довольно поздно (с 1888 г.): kurcza pamie&; ma kurzq pame&; ma pamie& jak kura [28, 2: 779], что, возможно, свидетельствует о заимствовании из восточнославянского (в том числе и русинского) ареала. Неслучайно их не отмечают чешские и словацкие словари, зато в русских народных говорах записано и выражение куриная память1 (СПП 2001, 59; ПОС 25, 73), в воронежских, курских и сибирских - орнитологический вариант воробьиная память (СРНГ 5, 106; 25, 189), а русских говорах Карелии - кукушкина память (СРГК 4, 388). Такие факты свидетельствуют об исконности сочетания куриная память в восточнославянской фразеологии. В словаре И. Керча зафиксировано полуфразеологическое-по-лутерминологическое словосочетание курячой око ‘твердая мозоль (обычно на ноге)' [5: 458]. Это - след словацкого и чешского влияния на русинскую фразеологию - ср. чеш. kurf oko, которое, в свою очередь, является калькой с нем. Huhnerauge. Ср. также словен. kurje oko [29: 206]. O том, что это калька именно с немецкого языка, свидетельствуют и пословицы и поговорки, в которые этот оборот входит в различных диалектах Германии: Besser mit Huhneraugen auf dem Stein, als hinken mit holzernem Bein; Wer Huhneraugen an den Fussen hat, ist leicht einzuholen; Einem auf seine (bosen) Huhneraugen treten; Einem die Huhneraugen operiren; Er hat Huhneraugen am Hintern [33, 2: 810]; Die Huhneraugen sind ihm zu Kopfe gestiegen [33, 5: 1452]. Выражение курьом на сміх Д. Поп [17: 156] сопровождает эквивалентными тождествами - укр. курам на сміх и рус. курам на смех. Действительно, оно давно известно в восточнославянских языках, неодобрительно характеризуя нечто несуразное, крайне абсурдное, смехотворное до нелепости. Укр. курам на сміх употребляется и в варианте курям на сміх, курці на сміх [18, 4: 263]. Бел. курам на смех возникло, по мнению И.Я. Лепешева, по модели людзям на смех, отраженной, в частности, в поговорке Паспех людзям на смех [8: 206]. И рус. курам на смех, и его восточнославянские параллели объясняются каламбурным характером фразеологизма: даже курам с их «куриными мозгами», не умеющим смеяться, будет смешно, настолько что-либо нелепо [1: 366-367]. Об исконности оборота свидетельствуют данные народной речи: Наспех - курам на смех (Сок., 70); твер. Не строй наспех - построишь курам на смех (ТПП 1993, 23); горьк. куры будут смеяться ‘о чем-л. крайне нелепом, бессмысленном' (СРНГ 39, 15). По той же 2022. № 68 190 модели образованы перм. утки захохочут ‘о чем-л. очень смешном' (СРНГ 48, 172) и пск. воробьи будут смеяться ‘о чьем-л. глупом поступке' (СПП 2001, 23). В русском литературном языке выражение известно с XVIII в.: «Едакой женитьбh и куры смhяться станутъ» (А.П. Сумароков, пьеса «Опекун», 1765 - ср. [І5: 152]). Глагольная форма первых фиксаций оборота и полное тождество образа и семантики не исключает предположения, что оно - калька с нем. da lachen ja die Huhner. Однако немецкие справочники подчеркивают, что фразеологизмы Da (daruber) lachen ja alle Huhner (die altesten Huhner, Suppenhuhner) возникли лишь «в новейшее время» [30, 3: 752]. Показательно, что и пол. kura bysiqz tego smiala; kurom nasmiechprawo wydane впервые фиксируется лишь 1928 г. [28, 2: 254]. Такие факты подтверждают исконное происхождение восточнославянских фразеологизмов, в том числе и русинского. Поговорку Здохла тота курочка, што дві яйця несла Д. Поп [17: 131] сопровождает эквивалентами, имеющими в своем составе вместо нумератива два прил. золотой: укр. здохла курочка, що золоті яйця несла и рус. подохла курочка, что золотые яйца несла. Поговорка давно известна лишь в украинских говорах Закарпатья: Здохла тота куриця, що по два яйця несла; Вже нема тоі курочки, що двіяечка несла на день; Нема тоі курки, щоб по два яечка несла [18, 1: 178]. Второй же, более широкий по ареалу вариант также зафиксирован разными источниками: Вмерла та курочка, що несла татарам золоті яйця; Нема тіеі курочки, щоб несла золоті яечка; Не стало тіеі курочки, що несла золоті яечка [18, 1: 181]. Этот второй вариант давно уже включен и в русские паремиологические собрания: Умерла та курица, коя несла золотые яйца (Богд. 1741, 90; ДП 1, 237); Умерла та курица, которая похоронила золотые яйца (Сок., 531). Не случайно как рус. Умерла та курица, которая несла золотые яйца переводит буквально на чешский язык Фр.Лад. Челаковский: Umrela ta slepicka, co nesla zlata vajicka [24: 64]. Этот вариант поговорки известен уже давно (с 1580 г.) и в польском языке; Zdechla kurka, co zlote jajka niosla [28, 2: 39]; Juz ta kurka zdechla, co zlote jajka niosla. Umarla juz kokosz, ktora zlote jajca niosla [28, 1: 818-819]. По мнению Ю. Кржижановского, он представляет собой «uprzystowiony zwrot bajkowy», т. е. басенный сюжет, обретший статус поговорки [28, 1: 819]. Этот сюжет издревле бытовал в фольклорных источниках и получил известность благодаря короткой басне Эзопа [27, 1: 299-300]. Мотив курицы, несущей золотые яйца, давно известен в европейской паремиологии - ср. нем. Das Huhn, das goldene Eier legt, schlachten. [30, 3: 753]; Huhner, die goldene Eier legen, muss man wohl bewahren Лингвистика и язык 191 [33, 2: 802]; Nicht alle Huhner legen goldene Eier [33, 5: 1451]. Однако, как видим, такие пословицы не совпадают с представленными выше славянскими вариантами. Можно найти и европейские «сюжеты» об умерщвляемой курице с целью добычи яиц: нем. Die Henne toten, um ein Eizu gewinnen; фр. (устар.) tuer la poule pour avoir lteuf [30, 2: 699] и под. Но легко увидеть, что они не полностью адекватны ни русинской поговорке Здохла тота курочка, што дві яйця несла, ни её русским, украинским и польским эквивалентам, где мертвой оказывается курица, несущая золотые яйца. Оригинальную же поговорку о курице, несущей по два яйца, можно считать собственно русинской. 2. Устойчивые сравнения. Ареальная картина русинских компаративных фразеологизмов во многом сходна с региональными проекциями описанных выше поговорок. Сравнение журиться ги куріця можно считать национально специфическим, ибо за пределы русинского ареала оно не выходит. Эквиваленты укр. непокоіться наче куриця, коли сокориться и рус. беспокоится, как курица, когда кокочет, которые приводит Д. Поп [17: 124], ни в одном из восточнославянских источниках нами не обнаружены. Скорее, это описательные сочетания, сконструированные самим автором русинского словаря. Сравнение голоден, ги мелникова курка Д. Поп [17: 108] эквива-лентирует укр. голодний, мов Мельникова куриця и рус. голоден, как мельника курица. Однако в русском языке оно отсутствует: скорее всего, это, как нередко бывает, - буквальный перевод с русинского в словаре Д. Попа. Представление о ненасытности кур, конечно, встречается и в русском малом фольклоре, но без аллюзии к мельнику. Ср. народн. ирон. Как беззобая курица: всё голоден; как беззобая курица: сколько ни жрёт, а всегда голодна ‘о постоянно голодном, ненасытном человеке', где беззобый - «без зоба», т. е. характерной для зерноядных птиц части пищевого горла, в которой пища разбухает до поступления в желудок. Беззобые птицы отличаются ненасытностью (ДП, 675). Ср. пить как беззобая утка. В украинском же языке сравнение с курицей мельника активно представлено. М.М. Пазяк помещает оборот голодний, як Мельникова курка и его варианты в раздел «Голодний» наряду с другими сравнениями, характеризующими очень голодного человека: голодний, як млинська курка; такий голодний, як Мельникова курка; такий ти голодний, як млинарьова куриця; голоден, як Мельникова курка на копій; голодний, як мельникова курка; голодний, як курка в млині [18, 4: 53]. Однако, как показывает сопоставление с другими языками и 2022. № 68 192 анализ исходного образа (см. ниже), семантика этого компаративного оборота иронична - ad adversum, т. е. ‘абсолютно не голоденОб этом свидетельствует и диалектное (Подольск.) сравнение жити, як Мельникова курка ‘жить богато, зажиточно' [6: 182]. Правда, возможно и диалектическое толкование, снимающее это кажущееся противоречие. Известно, что куры ненасытны и готовы постоянно склевывать попадающуюся им пищу - ср. русский оборот куры не клюют, характеризующий неисчислимое количество денег, и его украинские соответствия грошей кури не клюють; і кури не клюють; кури не клюють; там грошей і кури не клюють; у нас грошей і кури не клюють и под. [4: 236; 18, 3: 109, 113]. В этом смысле русинское сравнение и его славянские параллели можно понимать и как «ненасытен, как курица». Отсутствуя в русском языке, сравнение о мельничной курице уже давно (с I570 г.) зафиксировано в чешском языке: та hlad, co mlynarova slepice; mre hlady jako mlynarova slepice; lacen co mlynarova slepice. Известно оно в словацком: та bfdu jak mynarova slfpka; mlynarovn sliepku neponukajzrnom [25, 2: 258-259]. Описывая эти паремии, В. Флайшганс предполагает, что чешское выражение заимствовано из нем. Von Mullers Henn’und Witwers Magd wird selten Hungersnoth geklagt (букв.: И курица мельника, и горничная вдовца редко жалуются на голод). К.Ф.В. Вандер так комментирует эту поговорку: «И у той и у другой достаточно возможностей, чтобы позаботиться о себе: курица мельника находит зерно повсюду, а горничная вдовца свободна от строгого надзора домохозяйки» [33, 3: 762]. Калькой с немецкого является и словацк. lacny ako mlynarova sliepka, которое О.Е. Ермачкова считает национально маркированным и оригинальным по образу [4: 327]. Отсутствие этого сравнения в русском, белорусском и польском языках позволяет предположить, что оно - чешский и словацкий языковой след в русинской паремиологии, оправданный историкокультурологическими обстоятельствами. Сравнение писати ги куриця лабов Д. Поп [17: 191] объективно сопоставляет с укр. писати наче курка лапою и рус. писать как курица лапой. И действительно, этот оборот, иронически характеризующий чей-либо неразборчивый почерк, неаккуратное письмо, известен во всех восточнославянских языках в разных вариантах, что свидетельствует о его исконности: бел. награзмоліць як курыца лапаю, укр. написав, мов курка лапою [6: 182; 13: 286]; написати як курка (сорока)лапою (лапкою). Особо интенсивно он варьируется в русской диалектной речи: воронеж. писать как кура (СРНГ 16, 107); курск. дряпать/надряпать как курица лапой (где дряпать ‘писать небрежно, пачкать’ (СРНГ 18, 250); у кого почерк как у курицы; разг., волгогр., орл. писать как курица лапой; морд. накарябать как курица по кирпичам Лингвистика и язык 193 исходила (СРГМ 4, 85); как сорока бродила (набродила) и под. Образ сравнения понятен: когда курица топчется на одном месте в поисках корма или у кормушки с кормом, то разобрать её отдельные следы практически невозможно. Типологически этот образ запечатлен и в некоторых языках - например, лат. gallina scripsit (букв. курица написала) встречается в комедии Плавта [20: 65]. В других языках это ироническое значение выражается иными образами - например, болг. пиша с краката си (букв. пишет ногой; чеш. drapat (skrabat) jako kocour (букв. царапать как кот); фр. pattes de mouche ‘каракули' (букв. лапки мухи); болг. пиша с краката си; нем. die schrecklohe Pfote (букв. ужасная лапка); eine furchterliche Klaue haben (букв. иметь ужасный коготь); eine Sauklaue haben (иметь свиной коготь) и т. п. Такие параллели показывают, что русинское сравнение является частью восточнославянского фразеологического ареала. Триада такий ги мокра куриця - укр. тютя з полив’яним носом - рус. мокрая куриця, выстроенная Д. Попом [17: 213], не совсем полна. Ведь как в украинском, так и в русском языках есть аналогичные сравнения и их варианты: укр. виглядае, як мокра курка [18, 4: 90]; вертиться, як мокра курка [І8, 4: 155]; ходить,як мокра курка [18, 4: 196]; мокра курка [18, 4: 254]; мокрий, як курка [6: 182]; рус. как мокрая курица; как курица мокрая ‘о жалком, дрожащем, подавленном, удручённом и грустном человеке', ‘о вялом, пассивном, инертном и беспомощном человеке (ДП, 252); волгоград., орл. ‘о неумелом, неловком, нерасторопном человеке'; перм. ‘о неопрятной, некрасивой женщине'; морд. ‘о небрежно, неряшливо одетой женщине' (СРГМ 3, 105); брян. намочиться как курица мокрая; ирк. промокнуть как курица ‘о промокшем, сильно вымокшем человеке'; смол. раскапуститься как мокрая курица ‘о расплакавшемся человеке' (ССГ 9, 101); новг. схухриться как курица мокра ‘о сьёжившемся, нахохлившемся (от мороза, недовольства и т. п.) человеке' (где схухриться ‘съёжиться, нахохлиться' (НОС 11, 13; СРНГ 43, 79) и др. В словарях можно найти и такие славянские параллели, как бел. мокрая курыца, як (што) мокрая курыца, слвцк. ako zmoknuta kura, чеш. jako zmokla slepice (slfpka); jako zmokle kure; болг. мокра кокошка (мишка); х/с kao pokisla kokos и др. Однако они, вероятно, позднейшего происхождения. Это подчеркивает автор древнечешского паремиологического тезауруса В. Флайшганс, замечая по поводу чеш. (sedi, chodi) jako zmokla slepice, что это новочешское выражение («za to obycejne novoceske» [25, 1: 481]. Исконно чешским он называет сравнение sedi (nadrchany), co umokla kani; chodi jako mokra kani, зафиксированное с 1503 г. [25, 1: 481], где промокшей птицей является сарыч-канюк. 2022. № 68 194 Прямое значение нашего сравнительного оборота прозрачно: вид курицы, попавшей под дождь, жалок и непригляден. Презрительное уподобление вида мокрой курицы внешности, а затем и способностям, качествам человека и создает экспрессию выражения. Она сохранена и в русинском сравнении. В двух русинских сравнениях подчёркивается такая физическая особенность курицы, как слепота. Отсюда и шутливо-ироническая ситуация «везения», когда, несмотря на слепоту, ей попадается зерно: Трафилося ги сліпув курици зирня - укр. бувае, що й сліпа куриця зернину знайде - рус. бывает, и слепая курица просо найдет; Упало му ги сліпув курици зирня - укр. йому перепало, як сліпій курці просо - рус. досталось ему, как слепой курице зернышко [17: 220, 223]. Слепота курицы запечатлена и в известном шутливо-ироническом фразеологизме слепая курица, характеризующем плохо видящего, подслеповатого человека. Не случайно и болезнь слепнущего от малокровия после захода солнца человека называют куриной слепотой: курица после захода солнца слепнет и становится беспомощной (Зимин, Спирин 1996, 320). Ср. укр. Ахти, куряча сліпото! [13: 164; 18, 3: 327]. Подобные обороты известны во многих языках, например: пол. kurza slepota; kurzej slepoty dostal‘не видит явных фактов, вещей' [28, 2: 255]; нем. ein blindes Huhn и др. В диалектной речи можно найти немало сравнений, характеризующих близорукого, плохо видящего человека - ср. рус. разг. (подслеповатый) как слепая курица; иркут. слепой как курица. При этом в некоторых славянских языках можно встретиться с парадоксом, так, чешское название курицы - slepice, буквально расшифровывается как ‘слепая птица', но сравнение с ней отсутствует: рус. слепая курица передается эквивалентами slepyjako patrona (букв. как патрон), slepy jako krtek(букв. как крот), slepy jako Шё (букв. как котенок) [32: 355]. Вместе с тем говорить о чёткой ареальной очерченности сравнения «слепой как курица» нельзя, поскольку сюжет о слепой курице, как увидим далее при анализе пословицы И сліпув курици зирня ся трафить, имеет широкое общеевропейское распространение. 3. Пословицы. Две русинские пословицы, а точнее вариант одной, выражают народную мудрость о необходимости пробуждения с восходом солнца и своевременного ночного отдыха с его заходом: Из курьмилігай, а з когутами вставай - Лягай разом з курми, а вставай з когутами -С курами ложись, а вставай с петухами [17: 135-136]; Лігай спати из курьми, а вставай з когутом - Спати лягай з курами, а вставай з когутами - Спать ложись с курами, а вставай с петухами [17: 159]. Лингвистика и язык 195 Курица и петух издревле были главными естественными темпоральными ориентирами деревенской жизни [11: 21-26]. И поэтому параллели к русинским пословицам нетрудно найти как в родственных славянских, так и в неродственных языках. Вот некоторые из них: укр. З курми спати лягай і з курми вставай [18, 1: 179]; бел. З курамі лажысь,з петухаміуставай [3, 2: 456]; чеш. choditspatseslepicemi [32: 220], с/х. liegati js kokosima; словен. hodil je s kokosmi spat [29: 498]; нем. Wer mit den Hйhnern zu Bette geht, kann mit dem Hahn aufstehen; Mit den Hйhnem zu Bett gehen; фр. aller se coucher comme les poules [30, 3: 752] и др. К разряду пословиц относится и паремия о слепой курице, которая, как мы видели, имеет форму компаративных оборотов Трафилося ги сліпув курици зирня и Упало му ги сліпув курици зирня, описанных выше. Любопытно и, как увидим, неоправданно, что эта пословица, в отличие от соответствующих сравнений, Д. Попом считается безэквивалентной, ибо приводимая им и украинская, и русская паралель имеют совершенно иную образность и структуру: И сліпув курици зирня ся трафить [17: 138] - укр. чого на світі не бувае - рус. нёкошный пошутит - чего не нашутит. Однако в восточнославянском языковом пространстве она активно зафиксирована и обогащена многочисленными вариантами. B украинских говорах вариантность этой пословицы особенно разнообразна: І сліпа курка на зерно трафить; І сліпа курка деколи найде зерна; І сліпа курка знайде іноді зерно; І сліпа куриця зерно знайде [18, 1: 179]; Сліпій курці добре й зеренце; Сліпій курці усе пшениця [18, 1: 181]; Лучилося сліпій курці зерно, та й то порожне; Раз трапилося сліпій курці зерно, та й то порожне; Раз трапилося сліпій курці зерно, та й тим удавилася; Случилося сліпій курці зерно, та й те порожне; Трапилося сліпій курці зерно, та й те порожне; Трафилося сліпій курці пшеничне зерно; Трафилося сліпій курці бобове зерно і тим ся удавила; Трапилося раз на віку бобове зерно курці і тим удавилася; Трапилося, як сліпій курці бобове зерно і тим ся удавила [18, 1: 180]. Белорусские источники фиксируют значительно меньшее число вариантов этой пословицы: Трапіцца і сляпой курцызернятка знайці; Давядзецца сляпой курцы зярнятка найці [3, 1: 195]; Здарылася сляпой курыцы зярня знайсці, і то усе ведаюць [3, 2: 392]. В русском языке известен лишь один вариант этой пословицы, аналогичный укр. Сліпій курці усе пшениця - Слепой курице всё пшеница (Богд. 1741, 111; ДП 1, 334; СПП 2001, 133). В польском языке пословица зафиксирована уже с 1618 г. и представлена активной вариантностью: Trafilo siq jakslepej kurzeziarno; I slepej kokoszy ziarno siq nadarzy; Zdarzylo mu siq, jak slepej kurze ziarnko; 2022. № 68 196 Zdarzylo siq slepej kurze ziamko; Slepej kwoczce ziarnko siq czasem udarzy; Podarzilo sie mu, jak slepej kurce zorko; Wydarzyto sie, jako slepej kurze zorko; Udalo mu siq, jak slepy kurze ziorko и др. [28, 2: 256-257]. Известна пословица и в других славянских языках - например: чеш. I slepa slepice nikdy na zrnko treff [24: 265]; с./х. I corava koka zrno nade; словен. Tudi slepa kokos zrno najde [29: 478] и др. Показательно при этом, что чешскую пословицу Фр.Лад. Челаков-ский прямо сопоставляет не только с «галицкой» I слепа курка найде даколи зернья, но и (в подстрочном примечании) с дат. Ein blin Hone finder ogfaa et Korn и нем. Eine blinde Henne kann auch en Korn finden [24: 265]. Тем самым славянские паремии квалифицируются как кальки с германских языков. И действительно, нем. blindt Hun findt auch wol ein Korn (ein Erbeis) К.В. Вандер фиксирует с XVI в. в разных регионах Германии с его вариантами: нем. Auch ein blindes Huhn findet wohl ein Kornlein; Da hat auch ein blind Huhn eine Erbse gefunden; Ein blindes Huhn findet bisweilen ein gutes Kornlein in einem grossen Haufen Sandes и др. [55, 2: 801, 802, 807]. По-видимому, пословицу можно отнести к общеевропейскому паре-миологическому наследию, ибо она представлена во многих языках: ит. Talvolta anche una gallina cieca trova un Granello; лат. Invenit interdum caeca columba pisum; фр. Une poule aveugle peut quelquefois trouver son grain; англ. A blind man may perchance hit the mark; греч. Попер цеѵ каі Мүетаі, аѵnoAAafiaAArig, aAAof aAAoTovfiaAeig. Причем последняя освящена авторитетом Аристотеля [22: 286-287]. Пословица Кому свальба, а курици смирть Д. Поп [17: 151] имеет точный украинский аналог Кому всілля, а курці смерть и русскую паремиологическую безобразную параллель Кому счастье, а кому ненастье. В украинском языке, действтельно, эта пословица издавна зафиксирована повсеместно и в большом количестве вариантов: Кому весілля, а курці смерть; Кому свадьба, а курці смерть; Весілля - курям смерть; Кури на весілля не хочуть, та силою несуть; Кури на весілля не хочуть, а іх силою несуть; Не рада курка на весілля, та силують; Не хоче курка на вечорниці, та несуть; Не хочуть кури на весілля, та іх несуть; Не хоче курка на весілля, такпонесуть [18, 1: 180]. И. Франко, показавший несколько таких вариантов из Галиции, предлагает и лингвокультурологический комментарий: «Бо на весілля переважно ріжуть курей, мб. відгомін давнього поганьского культу, де курка була ритуальною жертвою при шлюбі» [21, 1: 218]. Действительно, в свадебной обрядности славян актуализируется брачно-эротическая символика курицы, и именно с курицы начинается и завершается свадьба [19, 5: 62]. Лингвистика и язык 197 В белорусском малом фольклоре отразился один из таких вариантов пословицы: Не рада каза торгу, а куры - вяселлю [3, 2: 34]. Русские же пословицы отличаются вариантным многообразием: Рада бы курочка на свадьбу не шла, да за крыло волокут (Паус нач. XVIII в., 46); Рада б курочка в пир не идти, да за хохол тащат (Ан. 1988, 270); Рада бы курочка в пир не идти, да повар тащит (Сок., 244); Рада бы курочка в пир не шла, да за хохол тащат; И курочку на пир зовут (тащат) (ДП 2, 236); И не рада б курочка на пир, да за хохол (за хохолок, за крылышко) тащат (ДП 2, 236); И курицу зовут на пир - для закуски (Сок., 237); Курице и на поминках, и на свадьбе горе (Спир. 1985, 48; ПпЗК 2000, 46); Курице и на свадьбе и на поминках - горе (Сок., 238). Польские пословицы со «свадебным» сюжетом зафиксированы уже с 1618 г.: Nierady kury na wesele, ale muszq; Nie chciaio sie kurze na wesele, ale musiaia; Komu wesеlе, a kurze smier&. При этом и составители польского паремиологического тезауруса подчёркивают, что «Kury byty zwyczajowym jadtem weselnym na wsi» [28, 2: 256]. Фр.Лад. Челаковский сопоставляет пол. Nie rada koza na targ, ale musf с укр. Не хоче коза на торг, та ведуть и приводит чеш. Nerady slepice na svatbu, ale musf; Nerada by koza kozka na trh, ale musf, сопоставляя их с рус. Рада бы курочка в пир не шла, да за хохол тащат, укр. (малорос.) Не хочуть куры на веслле, та іх несуть и отдельно выделяя галицьк. (соответственно, русинское) Не рада коза торгу а куры весилю, та мусять [24: 341]. К русинской пословице Кому што, а курицизирня Д. Поп [17: 152] приводит близкие по образности украинские и русские паремии Голодній курці все просо на думці и Голодной курице просо снится. Украинские пословицы, тем не менее, известны как в варианте со словом просо,так и со словом зерно: Голодній курці просо сниться; Голодній курці все зерно сниться; Голодній курці зерно на думці; Голодній курці просо на думці; Голодній курці все просо на думці [18, 1: 179]. В белорусском языке находим точное структурное соответствие русинской пословицы, но с компонентом просо: Каму што, а курыцы проса [3, 1: 195]. В то же время здесь встречаются и варианты не только с компонентом зернятка, но и пшеница: Галоднай курцы зярнятка на думцы; Сляпой курыцы усё пшаніца [3, 1: 220]. Русская паремиология здесь также представлена обоими «зерновыми» компонентами: вологод., твер. Кому что, а курица - про просо (Сок., 192; ТПП 1993, 29); кубан., с.-рус. Голодной курице [всё] просо снится (ДП 1, 183; Рыбн. 1961, 136; ППЗК 2000, 52; Сок., 148); волог. Голодной курице просо мнится (Яцкевич 2017, 33); Голодной курице всегда зёрна снятся (Раз. 1957, 174); Голодной курице зерно снится (Сок., 148). Характерно, что в кубанских говорах пословица 2022. № 68 198 зафиксирована в украинизированной форме: Голодний курци просо снытся (ППЗК 2000, 52). Относительно поздно (1850 г.) зафиксирована эта пословица в польском языке: Sni sie kurze proso; Sni sie slepiej kurze proso (ziarnko) [28, 2: 256]. Пословица Котра куриця много кодкодаче, тота ся мало несче признается имплицитно безэквивалентной, ибо Д. Поп [17: 154] предлагает к ней паремиологические аналоги с иной образностью: укр. Язиком сяк і так, а ділом ніяк - рус. Много звону - мало толку. Близкие по смыслу и образности пословицы известны из белорусского и польского малого фольклора: бел.: He кажна курка нясецца, што сакоча [3, 1: 195]; Курачка сакочыць, яечка хочыць [3, 1: 346]; Украинские же и русские пословицы со сходной образностью имеют несколько иное смысловое наполнение: рус. (пск., ленингр.) Курица ещё не снеслась, а уже кудахчет (Соловьева 2001, 81); Не там курица кудахчет, где яйцо снесла (Спир. 1985, 75); Не там курица яйцо снесла, где кудахчет (ДП 2, 138); Не всегда там курочка кудахчет, где яйцо снесла (Жиг. 1969, 57); Не там курочка яйцо снесла, где кудахчет (Раз. 1957, 85). Пожалуй, здесь русинская пословица обнаруживает приверженность к западнославянскому ареалу. Так, польская паремия, зафиксированная с 1614 г. в разных вариантах, точно соответствует русинской: Kokosz, co mniej pozytku daje, taka najbardziej, a Bog wie, gdziejaje; Kura, co duzo gdacze,zwykle malo nisiejajec [28, 2: 255]. Столь же тождественно ее соответствие чешской пословице Ktera slfpka mnoho kdace, ta malo vajec nese, которую помещает в свое паремио-логическое собрание Фр.Лад. Челаковский, сопоставляя его с серб. Коя кокошь много какоһе, мало яя носи [24: 102]. В современном словаре чешских пословиц приводится и вариант Kvokajfcf slepice vejce nesnasf [23: 93]. Ср. Ktera slepice ne nese a kdace a ktera zena na sveho muze kvace [25, 2: 887]. В подстрочной ссылке к указанной выше чешской пословице Фр.Лад. Челаковский приводит и ряд неславянских европейских параллелей: лат. Multum clamoris, parum lanae; итал. Gran gridore e poca lana; англ. Great cry and little wool и нем. Viel Geschrei und wenig Wolle [25, 2: 887]. К ним можно присовокупить и итал. Assai rumore e poca lana; исп. Mas es el ruido que las nueces; фр. Grand bruit, petite toison и др. [22: 603]. Легко увидеть, однако, что образность этих эквивалентов иная, чем в русинском, польском и чешском языках. Более того, даже немецкая пословица Viel Geschrei, wenig Ei, Viel Geschrei und doch kein Ei [33, 1: 1601; 5: 1338], которая, на первый взгляд, адекватна славянским (букв. Много крика, но мало Лингвистика и язык 199 яиц), связана с ней все-таки скорее типологически, чем генетически. Русинскую пословицу Кури на сідало, баба на лежало, видимо, можно назвать собственно русинской. Во-первых, ее украинский аналог Кури на сідало, баба на лежало в словаре Д. Попа [17: 156] не отражен украинскими паремиологическими источниками, а известен в варианте укр.: Кури на сідало, а він налігало, зафиксированном именно в Закарпатье [18, 2: 455]. Ср. Ауш кури на сідало, бо завтра Великдень! -Щоб не було з вами клопоту [21, 2: 437]. Во-вторых, русская паремия Куры на насест, баба на лежанку, приведенная Д. Попом, в русском малом фольклоре отсутствует. Близкие же по образности паремии здесь имеют иную структуру и компонентный состав - ср. помор. Кура -на седало, я - на беседу (Мерк. 1997, 45), где беседа (бесёда) ‘дневное собрание молодежи в доме для увеселения или для работы', а седало ‘насест'. Ср. также урал. Солнышко на место, курочки на седало (седло), добра жёнка - за пряслицу (Ан. 1988, 291). Аналогична ситуация и с другими славянскими параллелями, которые не обнаруживают полного совпадения с русинской пословицей при близости орнитологического образа - например, чеш. Dadie kureti sedadlo, ano se samo domysli и пол. Dano kurowigrzede a on jeszcze wieze chce [25, 2: 706]. Ср. также пол. Daj kurze grzede, ona powie: wyzej siedi [28, 2: 253-253]. Русинская пословица Курицягребе,обыдаштоугребла сопрягается Д. Попом [17: 156] с украинским и русским эквивалентами Курка гребе, щоб зернятко знайти и Курица гребет, чтоб зернышко найти. Хотя ни в украинском, ни в русском малом фольклоре нам не удалось найти таких вариантов с компонентном зернятко и зернышко, но близкие к русинской паремии там зафиксированы. Таковы украинские пословицы Кожна курка собі гребе; Курка, що гребе, то все на себе; Курочка гребе сама на себе; Всяка курка не дурна: не од себе, а все до себе гребе [18, 1: 179]. Любопытно при этом, что тот же образ в составе паремиологии может реализоваться и в противоположном «философском» смысле: Курка тільки від себе гребе; Толиш курка від себе гребе [18, 1: 179]. Аналогичным образом строятся и русские пословицы об эгоистичном инстинкте нашей домашней птицы: Курица и та к себе гребёт (Спир. 1985, 69); перм. Одна курица под себя гребёт (Прок. 1988, 178) с одной стороны, и Одна лишь курица от себя гребет (Сок., 195); Только одна курица гребёт от себя (Сок., 319). В белорусской паремиологии реализуется лишь второй образ -курицы, гребущей не к себе, а от себя: Курыца толькі ад сябе грабе [3, 1: 189]. Ср., тем не менее: Адзінокаму мужыку як курыцы: ідзе ні капануу, дак іуклюнуу [3, 2: 39]. 2022. № 68 200 Русинская пословица и здесь становится неким паремиологиче-ским «мостиком» от восточнославянского ареала к западнославянскому. В польском языке представлены варианты Na to kura grzebie,zeby ziarnko znalazla; Kazda kura sobie grzebie; Kazda kurka pod swe skrzydlo garnie; Kazda kokoszka pod siebie korszka; kokoska do siebie koska. [28, 2: 254-255]. Они, правда, представлены в относительно поздних (1894 г.) фиксациях, что не исключает влияния восточнославянских паремий этого типа. Близкая по образности орнитологическая модель в западнославянских языках ареально смыкается уже с германоязычным пространством. Так, чеш. Ani (ano) kure darmo nehrabe, т. е. «nerado darmo kutf» зафиксировано уже в 1570 г. в разных вариантах, в том числе и диалектных (например: Ani slepe kure nehrabe nadarmo; Ani kura darmo nikuce и под.), слвцк. Ani kura (kurca) darmo nehrebie (nepapre); Na to kura hrebie, aby vyhrebla (aby zrnko nasla) и пол. Zadna kura nie grzebie darmo; Na to kur a grzebie, zeby cos miala В. Флайшганс связывает с нем. Kein Huhn scharrt umsonst [25, 1: 706]. К русинской пословице Куриця думала та й издохла Д. Поп [17: 156] приводит украинское и русское соответствие: Курка думала і в суп отрапила и Курица думала и в суп попала. Видимо, это реконструкция автора словаря. Возможно, прототипом ему служили обороты, действительно зафиксированные в обоих языках: Укр. Попався, як курка в борщ; Попав, як ворона в юшку; Попався, як ворона в суп [18, 4: 198]; Гаразд сі діе: курка здохла, когут піе [18, 3: 200]. Рус. Индюк думал, думал, да и сдох (Раз. 1957, 78); Индюк думал, думал, да в суп попал (Запись 1976 г., Ленинград); попасть (попасться, угодить) куда как кур во щи (в ощип) (Зимин, Спирин 1996, 104, 118). Известно выражение (хотя и относительно поздно - с 1860 г.) и в польском языке: Indyk myslal i zdechl; Indyk myslal i glowe mu uciili [28, 1: 797]. Как видим, ареальная проекция русинской пословицы Куриця думала та й издохла амбивалента: в варианте с компонентом курица она является собственно русинской, но структурно-семантическая модель с другими орнитонимами (особенно индюк) делает ее восточнославянско-польской. Русинскую пословицу Куря квочці не розказуе Д. Поп [17: 156] сопровождает двумя близкими, но отличающимися по глагольному компоненту известными украинскими и русскими паремиями: Яйця курки не вчать - Яйца курицу не учат. Легко увидеть, что при общности смысла они отличаются по компонентному составу. Ареальную очерченность русинской пословицы подтверждает и тезаурус укра- Лингвистика и язык 201 инской паремиологии, где Куря квочці не розкаже извлечена именно из закарпатского сборника пословиц и поговорок [18, 1: 180]. Русинская же пословица Яйцекурицюучить, к которой Д. Поп [17: 234] предлагает украинский и русский эквиваленты Діти батька вчать - Яйца курицу учат, как и рус. Яйца курицу не учат, имеет весьма широкий славянский ареал и вариантное разнообразие: укр. Яйця курки не вчать; Куркуяйця не вчать; бел. Яйцо курыцу [не] вучыць; Яйка мудрзйшае за курыцу; пол. Jajko kurq uczy; Jajko [chce bye] mqdrzejsze od kury; Jeszcze przykladu nie bylo, zebyjajo kurq uczylo; слвцк. Kurca ucf staru sliepku; Vajce mudrejsie ako sliepka; Vajce chce byt mudrejsie od sliepky; чеш. Uz vejce moudrejsf nez slepice; серб. Jaje кокошку учи [7: 181]. Ср. также такие варианты, как укр. Мудрішеяйце від курки; Мудрішіі тепер яйця, ніж кури; Яйце хоче бути мудрішим від курки; Мудріші тепер яйця, ніж кури [18, 1: 181]; бел. Яйца курыцу вучаць; Яйцы курэй не вучаць; Бывае, што і яйца курыцу вучаць; Разумнейшыя яйца за куры [3, 2: 124]; рус. Курицу яйца не учат (ДП, 633, 684; Соб. 1961, 72, 136); Яйца кур не учат (Раз. 1957, 42); Яйца курицу не учат (Соб. 1956, 52; Спир. 1985, 63); Яйца курицу учат (Лексикон 1731, 184); Яйца курицы не учат (ДП, 156); Яйца хотят курицу учить (Тан. 1986, 169). Ср. переделку этой пословицы уже в XVIII в.: «И тако ныне яйце хощет быти мудрее кокоши». «Обличение на соловецкую челобитную, сочинённое убо на сербском языке Юрием Сербиянином... 1704» (СлРЯ XVIII в. 10, 86). В западнославянском ареале они столь же активны, как и в восточнославянском: - пол. (1558) Jaje chce bye mqdrsze niz kokosz; Juzci dzis nie tylko kury mqdre, ale tez i same jajca; Mqdrsze dzisia jajca anizli kokoszy; Mqdrsze jajca niz kokoszy. Jajca kury uczye pocznq; Niechaj jaja kur rozumu nie uczq; Jaja kur nie uczq; Jaje kury uczq; Jeszcze przykladu nie bylo, zeby jaje kurq uczylo [28, 1: 816-817]; (1639) Mqdrzejsze kurczqta od kury; Teraz nastajq mqdrsze kurczqta nizeli kokosz; Wiqcej teraz u kurczqt rozumu, niz przedtem u samych kurow bylo; Od kokoszy chcq czqsto bye mqdrsze kurczqta; Kurczqta mqdrzejsze niz stare kury; Mqdrsze kurczqta niz kokosz и др. [28, 2: 258]; - чеш. Kuratko chce jiz mudrejsie byti nezli slepice; Kure chce byti moudrejsf nez slepice; Moudrejsi kure nez slepice; Kure chce byti moudrejsf nez kvocna; kure uci slepici; Kdyz kure ucf slepici, tut mistruji ucedlnici; Kure ucf slepici hrabat [25, 1: 706-707]. В. Флайшганс в своем сборнике старочешских пословиц приводит не только славянские (например, словацкие у польские) соответствия этой паремии, но и романские и германские: фр. Les poucins menent les gelines; нем. Das Kuchlein 2022. № 68 202 lehatdie Glucke scharren [25, 1: 706-707]. На европейскиев параллели этой пословицы давно уже обратил внимание Фр.Лад. Челаковский в своем «Mudroslovf», приводит к чеш. Uz vejce moudrejsf nezkure; Kure chce uz moudrejsf byti nez slepice; Kure ucf slepici, кроме в.-луж. Jajo je mudrise jak kokos; рус. Яйца курицу учат; хорв. Jajce hoxe vex znati neg kokos и др., также и датские, эстонские и немецкие параллели, например Das Ei will kluger sein als die Henne [24: 266]. Заключение Фразеологизмы с компонентами-орнитонимами, как мы видели, отражают органическое единство ду
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / под ред. проф. В.М. Мокиенко. 4-е изд., стереотипн. М.: Астрель; АСТ; Люкс, 2007. 926. [2] с.
Беларуска-рускі слоунік. Т. 1-2. 2-е выд. Мінск, 1988-1089.
Грынблат М.Я. Прыказкі: Прыказкі і прымаукі. Кн. 1-2 / склад. М.Я. Грынблат. Мінск, 1976. Кн. 1. 559 с.; Кн. 2. 616 с.
Ермачкова О.Е. Некоторые орнитонимы в русской и словацкой фразеологии // Фразеология в языковой картине мира: когнитивно-прагматические регистры: сб. науч. тр. по итогам 4-й Междунар. науч. конф. по когнитивной фразеологии (г. Белгород, 26-27 марта 2019 г.) / Н.Ф. Алефиренко, Е.Г. Озерова, К.К. Стебунова и др. Белгород: Эпицентр, 2019. С. 324-327.
Керча Iгор. Русиньско-росiйський словник: у 2 т. Понад 58 000 слiв. Русинско-русский словарь: в двух томах. Свыше 58 000 слов. Т. 1: (А-Н). 608 с.; Т. 2: (О-Я). 608 с. Ужгород: ПолиПринт, 2007.
Коваленко Н.Д. Фразеологiчний словник подiльских i сумiжних говiрок. Кам‘янець-Подiльский: Рута, 2019. 412 с.
Котова М.Ю. Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями / под ред. П.А. Дмитриева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 360 с.
Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2004. 448 с.
Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Познавательный потенциал русинских паремий на фоне русского и украинского языков // Русин. 2016. № 3 (45). С. 119-129. DOI: 10.17223/18572685/45/9
Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Карпаторусинские соматические паремии на славянском фоне // Славянская микрофилология / под ред. А.Д. Дуличенко, Мотоки Номати. - Slavic-Eurasian research center. - Hokkaido University, Sapporo. Vene ja slaavi filologia osakond (=Slavica Tartuensia XI / Slavic Eurasian Studies No. 34). Tartu, 2018. С. 103-128.
Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М.: Высшая школа, 1990. 160 с.
Мокиенко В.М. Праславянский след в русинской лексике и паремиологии: потя // Русин. 2021. № 66. C. 119-148.
Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Зб. О. В. Марковича і других / спорудив М. Номис. СПб., 1864. 3-е вид. Київ: Либідь, 1993. 766 с.
Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. Вид. 2-е. Київ, 1978. 447 с.
Палевская М.Ф. Материалы для фразеологического словаря русского языка ХVII века. Кишинев: Штиница, 1980. 367 с.
Поп Д. Русинсько-украйинсько-руський и русско-украинско-русинський словари. Ужгород: Повч Р.М., 2011. 312 с.
Поп Д. Русинско-украинско-русский и русско-русинско-украинский фразеологические словари. Ужгород, 2011. 241 с.
Прислів’я та приказки. Упорядник М.М. Пазяк. К.: «Наукова думка». Т. 1: Природа. Господарська діяльність людини. 1989. 479 с.; Т. 2: Людина. Родинне життя. Риси характеру. 1990. 524 с.; Т. 3: Взаємини між людьми. 1991. 440 с; Т. 4: Українськi прислiв’я, приказки та порiвняння з лiтературних пам’яток / упорядник М.М. Пазяк. К.: Наукова думка, 2001. 392 с.
Славянские древности. Этнолингвистический словарь / под ред. Н.И. Толстого. Т. 1: А-Г. М.: Международные отношения, 1995. 584 с.; Т. 2: Д-К (Крошки). М.: Международные отношения, 1999. 697 с.; Т. 3: К (Круг) - П (Перепелка). М.: Международные отношения, 2004. 704 с.; Т. 4: П (Переправа через воду) - С (Сито). М.: Международные отношения, 2009. 656 с.; Т. 5. М.: Международные отношения, 2013.
Тимошенко И.Е. Литературные первоисточники и прототипы трёхсот русских пословиц и поговорок. Киев, 1897. 172 с.
Франко Іван. Галицько-руські приповідки: в 3 т., 6 вип. / зібрав, упорядкував і пояснив д-р. Іван Франко // Етнографічний збірник. Львів, 1901. Т. 10; 1905. Т. 16; 1907. Т. 23; 1908. Т. 24; 1909. Т. 27; 1910. Т. 28.
Arthaber A. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali in sette lingue (italiana; latina; francese; spagnola; tedesca; inglese; greca antica). Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1989. 822 s.
Bachmannová J., Suksov V. Jak se to řekne jinde. česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Praha: EUROMEDIA - Knižní klub, 2008. 1. vyd. 384 s.
Čelakovský F.L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. Uspořádal a vydal František Lad. Čelakovský. Praha: nakl. Vyšehrad, 1949. 922 s.
Flajšhans V. Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A-N), díl II (O-Ru). Praha: Českáá akademie cíísaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a uměěni, 1911-1913; 2-é, rozšířené vydání. Předmluva V. Mokienko, komentáře V. Mokienko, L. Stěpanova / Editors V. Mokienko, L. Stěpanova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
Komenský J.A. Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavěna potomkům. Z rukopisu Lesenského // Spisy Jana Amosa Komenského. Vydal Jan Novák. Číslo 2. Praha, 1901. 113 s.
Krzyżanowski J. Mądrej głowie dość dwie słowie. Warszawa, 1975. T. 1-3. 3-ie wyd. Warszawa, 1975. T. 1. 346 s.; T. 2. 342 s.; T. 3. 360 s.
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / pod red. akad. Ju. Krzyżanowskiego. T. 1-4. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 1969-1978.
Pavlica, J. Frazeološki slovar v peti jezikih. Ljubljana: Postojna, 1960. 688 s.
Röhrich L. Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 1-IV. Freiburg; Basel; Wien, 1991-1993.
Skorupka St. Idiomatyzmy frazeologiczne w języku polskim i ich geneza // Славянская филология. М., 1958. Т. 3. С. 124-155.
Stěpanova Ludmila. Rusko-český frazeologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 878 s.
Wander K.F.W. Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk. 5 Bde. Leipzig, 1867-1889. Ndr. Darmstadt, 1964; Ndr. Kettwig, 1987.
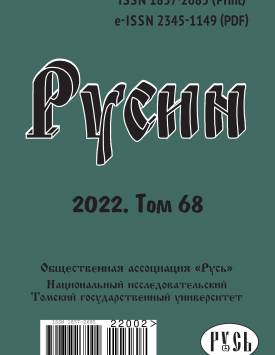

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью