Попытки некоторых исследователей представить упоминаемую Константином Багрянородным «Печенегию» кочевой империей представляются чисто умозрительными. Раздробленность печенегов на отдельные племена сохранялась весь период времени их проживания в европейских степях. У них не было верховного вождя, отсутствовали развитое этническое самосознание и элементы имперского мышления. Они не организовали ни одного разорительного нашествия объединёнными военными силами всех племён. Вместо этого соседние государи использовали ополчение какой-то их части в качестве вспомогательного войска для борьбы со своими противниками.
Was there the “Pecheneg Empire” between Transylvania and the Lower Don?.pdf В отличие от хазар и половцев печенегам в исторических исследованиях традиционно уделяется значительно меньше внимания. Это связано, прежде всего, со скудостью сохранившихся о них достоверных сведений источников. Долгое время печенегов рассматривали вместе с другими кочевыми этносами Восточной Европы, в рамках изучения истории степной полосы от Нижнего Поволжья до Нижнего Дуная, не стараясь собрать воедино все касающиеся их сведения источников1. Монографий или больших статей, специально посвящённых политической истории печенегов во время их пребывания в степях Восточной Европы, мне пока обнаружить не удалось. На рубеже XX-XXI вв. печенеги привлекли внимание сторонников теории существования т. н. вождеств (chiefdoms), простого и сложного, которые предшествовали появлению ранних государств у дошедших до такой ступени политического развития народов. Об этом, в частности, писал П.Б. Голден [24], которого в его оценках уровня политического развития печенежского общества поддержал А.В. Марей [10]. При этом в высказываниях названных исследователей присутствует явное противоречие: признавая печенегов Х-XI вв. находившимися на уровне сложного вождества, т. е. догосударственном, П.Б. Голден и А.В. Марей пишут о существовании «империи печенегов» в степях Восточной Европы. Основанием для такого утверждения является информация известного персидского географического сочинения «Пределы мира...» («Худуд ал-'алам...»), написанного ок. 982 г., где содержатся сведения, в том числе, о народах Восточной Европы, причём не только современной его автору эпохи, но местами и взятые из источников более ранних времён. В «Пределах мира» сведения о печенегах крайне скудны, однако там, в отличие от других мусульманских географических сочинений раннего Средневековья, содержится известие о том, что у печенегов История 13 есть единый лидер с титулом михтар (§ 20). В.Ф. Минорский переводит это слово как «предводитель» [25: 313]2. П.Б. Голден считает, что это слово было хорошо известно в мусульманском мире и обозначало правителя каганата, т. е. «кочевой империи» [24: 273]. Это утверждение, поддержанное А.В. Мареем [10: 341-342], представляется явным преувеличением. Не вдаваясь в подробности дискуссии исследователей о значении титула «михтар» (который был всё же намного скромнее «кагана»), ставлю главной целью настоящей работы выяснение на основании известных нам фактов внешнеполитической истории степного пояса Восточной Европы середины IX - середины XI в., создали ли печенеги единое государство, воспринимавшееся соседями как «кочевая империя». Всякая древняя или средневековая «империя» в эпоху своего расцвета отличалась от обычных государств прежде всего размерами своей территории. Площадь пространства, подконтрольного печенегам с начала Х в., достигла почти полумиллиона квадратных километров - от низовьев Дона до Нижнего Подунавья, включая всю южную часть современной Румынии. На севере ареал кочевания печенегов ограничивался лесостепной полосой, за контроль над которой боролись с восточнославянскими земледельцами не только печенеги, но и их предшественники венгры, а также вытеснившие печенегов из Северного Причерноморья во второй половине XI в. половцы. На востоке владения печенегов сначала ограничивались территорией, подвластной Хазарскому каганату. После краха Хазарии в конце 960х гг. сильнейшим восточным соседом печенегов до середины XI в. были аланы, которых затем сменили половцы. На юге печенежская территория ограничивалась побережьями Азовского и Чёрного морей, за исключением южного побережья Крыма, принадлежавшего Византии. Что же касается западных пределов распространения печенегов, то их кочевья достигали восточных границ современной Воеводины, занимая пространство между южными отрогами Карпат и Нижним Дунаем. Столь значительная территория вполне соответствовала размерам «кочевой империи», что непременно было бы отмечено книжниками, жившими в соседних государствах, или учёными-географами. Но для этого правящая верхушка печенежских племён должна была проявить стремление к консолидации всех печенегов в единый «народ», сопровождавшееся складыванием хотя бы архаичных органов центральной власти. По этому пути пошли во второй половине IX в. венгры, что позволило им, в отличие от печенегов, не только сохранить себя как этнос, но и создать одно из сильнейших средневековых европейских государств. Сравнение отдельных черт 14 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 эволюции венгерского и печенежского общества в рассматриваемое время ярко показывает, что печенеги, с точки зрения внутриполитического развития, пошли путём прямо противоположным тому, который избрали венгры. Одним из непременных атрибутов империи в любую эпоху человеческой истории, но особенно в древности и Средневековье, является наличие у неё огромного войска, способного внушать страх у соседних народов и государственных образований. Как известно, установление реальной численности средневековых армий является одной из серьёзных проблем для историков, поскольку книжникам было свойственно преувеличивать число врагов и преуменьшать количество «своих» воинов. Относительно печенегов до нас дошли сведения ал-Мас'уди о набеге на Византию коалиции двух печенежских «племён» (баджнак и баджна), новгородцев и венгров. Названный автор сообщает о том, что правитель румов Арманус (византийским император Роман I Лакапин, 920-945) послал против войска коалиции названных «народов» 12 тыс. профессиональных воинов, к которым присоединилось ещё 30 тыс. ополченцев, а у вторгшихся в северо-западные провинции Византии «варваров» было вдвое меньше вооружённых людей [7: 5]. Хотя достоверность приводимых ал-Мас'уди данных не может быть проверена, они представляются вполне правдоподобными: напавших на Византию в 934 г. было ок. 20 тыс. воинов, из которых печенеги составляли примерно половину или немного больше, т. е. ок. 1012 тыс. Трудно поверить в то, что в данном случае в успешном походе антивизантийской коалиции на Балканы участвовало ополчение всех печенежских племён, которое должно было быть, по крайней мере, в два раза больше. Как свидетельствуют мусульманские авторы (Ибн Русте и его последователи), численность венгерского войска в рассматриваемое время составляла 20 тыс. конных воинов [3: 48-50], а в эпоху Константина Багрянородного венгры (по его утверждению) панически боялись печенегов и признавали их более многочисленным народом, чем они сами [8: 44-45]. Отсюда следует вывод о том, что упоминаемые ал-Мас'уди этнонимы «баджнак» и «баджна» не распространялись на все печенежские племена, часть которых не направила свои ополчения для участия в рассматриваемом походе. В 969-970 г. печенеги сражаются против Византии в составе войска, собранного Святославом Игоревичем (начало 960-х - 972). Разгром василевсом Иоанном Цимисхием (969-976) русско-болгарско-венгерско-печенежского войска в битве под Аркадиополем (970) заставляет сделать аналогичный вывод: и на этот раз на Балканы отправились отряды далеко не из всех, а, скорее всего, лишь ближай- История 15 ших к театру боевых действий печенежских племён, кочевавших к западу от нижнего течения Днепра. Ещё одной характерной чертой раннесредневековой империи было её стремление к расширению своих пределов. При этом неважно, кем был правитель такой державы - христианином, мусульманином или язычником. Империя того времени должна была вызывать уважение и страх не попавших под её власть соседей. Это в свою очередь требовало от императоров, каганов и других, равных им по престижу лидеров государственных образований, проявления стратегической инициативы. Применительно к печенегам это означает организацию широкомасштабных нашествий, результатами которых было бы если не присоединение всех или части разорённых земель, то хотя бы обложение их населения данью. Таких целей печенеги, судя по всему, с начала Х в. перед собой не ставили, ограничиваясь набегами отдельных племён на соседние области. Разгромленные же и вытесненные печенегами из степей Восточной Европы венгры в 899-955 гг. оспаривали у норманнов репутацию самой большой внешней опасности для цивилизованных государств, образовавшихся после распада империи Карла Великого (768-814, император с 800). Печенеги, заняв места венгров в Северном Причерноморье, достаточно быстро распылили свои военные силы на степных просторах протяжённостью более 1 000 км, угрожая соседям набегами, но не опустошительными нашествиями. Помимо распространения контроля отдельных племён на огромную территорию, для создания раннего государства, которое соседи признали бы «империей», необходимо ещё наличие сформировавшегося этнического самосознания, включающего в себя не только представление о том, что каждое племя является частью единого этноса, но и элементы имперского мышления - при сравнении себя с соседями. У венгров это проявилось уже в 870-880-е гг., о чём свидетельствует Ибн Руста [15: І06]3. Объединившиеся вокруг сильнейшего племени медьер (мадьяр), венгры уже во второй половине IX в. считали себя равными хазарам и византийцам [15: 111; 16]. У печенегов, судя по сведениям дошедших до нас источников, «имперские устремления» так и не проявились. Главной причиной невозможности создания «кочевой империи» печенегов было сохранение ими раздробленности на отдельные племена с момента миграции из-за Волги на земли «Внешней Хазарии». Уже само их появление в Восточной Европе заложило основу будущей «хронической» разобщённости печенегов. Константин Багрянородный свидетельствует о том, что печенеги пришли в страну, которую они занимали во время написания трактата «Об управлении империей» 16 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 двумя «волнами»: сначала там обосновались «кангары», а позднее из-за Волги пришла основная масса «пачинакитов». Исследователи спорят о том, сколько времени прошло между приходом этих «волн»4. Автор этих строк придерживается точки зрения, согласно которой, первая «волна» печенегов пришла из-за Волги в первой половине 850-х гг., а вторая - в первой половине 90-х гг. того же столетия [18]. «Кангары» разгромили первый племенной союз венгров (для обозначения которого Константин использует этноним «саварты-асфалы») - прежних хозяев причерноморского степного «коридора» и ограничили ареал их кочевания землями к западу от Днепра. Примерно три-четыре десятилетия между венгерскими племенами и «кангарами» сохранялось военное равновесие, но приход второй «волны» печенегов нарушил этот баланс сил и в конечном счёте новый союз семи венгерских племён (Хетумогер) вынужден был переселиться в Среднее Подунавье. Поскольку вытеснение венгров досталось печенегам относительно легко (они воспользовались участием ополчения венгерских племён одновременно в конфликтах на Балканах и в Моравии) [17], вместо консолидации с целью создания кочевой «империи» они рассредоточились на пространстве от Нижнего Дона до земель к югу от Трансильвании. Источники, возникшие в рассматриваемую эпоху, свидетельствуют о сохранении печенегами раздробленности на отдельные племена, в лучшем случае - на «крылья». Как указывалось выше, арабский путешественник и писатель ал-Мас'уди (ум. в 956) в своём сочинении «Промывальни золота и рудники самоцветов» в описании совместного набега на «ар-Рум» (Византию), совершённого ок. 934 г. четырьмя «тюркскими народами», упоминает среди них две этнических общности печенегов под этнонимами баджна и баджнак [7: 5-7]. Большинство исследователей связывает описанный ал-Мас'уди набег «четырёх тюркских народов» с набегом венгров и печенегов на Византию, состоявшийся в апреле 934 г., о котором повествует Продолжатель Георгия Амартола [6: 566]. Сам ал-Мас'уди в рассматриваемом отрывке из его сочинения сообщает о том, что пишет об этом в 332/943-944 гг. [7: 5]. Различение ал-Мас'уди «народов» баджна и баджнак можно расценить, в том числе, и как свидетельство того, что и в середине Х в. кангары и пачинакиты не стали единым этносом. Константин Багрянородный, называя современных ему «пачинакитов» народом («этносом»), подчёркивает их разделение на восемь «фем» (племён), которые, в свою очередь, состоят из сорока частей [8: 154-155]. Побывавший в 1008 г. у печенегов с миссионерскими целями Бруно Кверфуртский (ум. в 1009), описывая в письме германскому королю Генриху II (1002-1024) ареал обитания печенегов, История 17 говорит о том, что этот народ разделён на четыре части, три из которых Бруно и его соратникам удалось обойти в течение пяти месяцев [2: 60; 23: 46]. Названные выше сторонники концепции о широком распространении «вождеств» видят в письме Бруно доказательство существования «кочевой империи печенегов». А.В. Марей выделяет в тексте Бруно сведения, позволяющие предположить существование политического центра всех проживавших в Северном Причерноморье печенежских племён - «главного стана», поскольку «факт сбора народа свидетельствует о том, что люди знали, куда ехать». При этом исследователь опирается на приведённое выше мнение П.Б. Голдена, согласно которому употреблённый в «Худул ал-‘алам» титул верховного правителя печенегов mihtar означает 'князь; господин', но при этом А.В. Марей признаёт, что археологических свидетельств существования у печенегов «главного стана» до сих пор не обнаружено [10: 341-342]. Последнее подтверждает тезис об отсутствии у печенегов в рассматриваемое время мощного политического объединения, которое можно было бы назвать «кочевой империей». Представители отдельных печенежских племён, безусловно, помнили об этнической общности всех печенегов, но отсутствие серьёзной внешней опасности не способствовало их политической консолидации. В данном случае не так важно, на сколько племён или временных племенных объединений делились печенеги - кангаров и пачинакитов, баджнак и баджна, четыре части, восемь «фем» или тринадцать «родов», о чём свидетельствует византийский хронист второй половины XI в. Иоанн Скилица [26: 455]. Важнее то, что они оставались при этом на догосударственном уровне своего политического развития. Геополитическая ситуация в эпоху преобладания печенегов в степной полосе к западу от нижнего течения Дона была намного сложнее, чем в Центральной Азии, где они проживали в более ранние эпохи своей истории. Распространение печенегов на территории в виде полосы большой протяжённости, поделённой между отдельными их племенами, способствовало сохранению их политической разобщённости. Правители соседних государств не были заинтересованы в появлении на своих границах мощной кочевой империи, поэтому они призывали (в случае необходимости) на помощь ополчение лишь ближайших печенежских племён. Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империи» (гл. 4) так наставляет своего сына относительно печенегов: «...пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки (= венгры) не могут нападать на державу ромеев по закону войны. Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые сі III 2022. № 69 18 его грамотами и дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жён и детей и разорять их землю» [8: 38-39]. Несмотря на явные преувеличения в цитированном отрывке (до нас не дошли сведения о регулярных разорениях печенегами Руси и Венгрии в первой половине Х в.), в целом южные группы восточного славянства и осваивавшие трансильванские земли венгры жили в условиях существования опасности внезапных нападений со стороны печенегов. Часть печенегов, кочевавшая на территории «Внешней Хазарии», в первые десятилетия после переселения из-за Волги должна была противостоять стремлениям Хазарского каганата вернуть контроль над этими землями. Упадок Хазарии в середине Х в. происходил на фоне усиления Руси и постепенного распространения части узов (торков) по территории «Печенегии» [8: 332]. Уничтожение киевским князем Святославом Игоревичем Хазарского каганата во второй половине 960-х гг. заметно улучшило геополитическую ситуацию для печенегов, хотя крах Хазарии способствовал усилению Алании, поэтому ополчения восточных племён печенегов не могли оставить надолго свои кочевья ради участия в походах в Юго-Восточную Европу. Под 985 г. Повесть временных лет (ПВЛ) упоминает торков в качестве союзников Владимира Святославича (978-1015) во время его похода на (волжских) булгар [5: 71; 9: 84]. Это свидетельствует о том, что, несмотря на мирные отношения между торками и печенегами, последние не были гарантированы от оказания торками военной помощи врагам печенегов. Самыми беспокойным соседом печенегов была Русь, противостояние с которой ярко демонстрирует отсутствие «империи» у печенегов, поскольку объединёнными силами всех племён они могли бы, подобно хазарам, обложить данью южнорусские земли. До нас не дошло сведений источников о войнах объединителя Руси «вещего» Олега с печенегами. ПВЛ содержит сведения о том, что в 882-885 гг. Олег подчинил своей власти полян, древлян, северян и радимичей, но война с уличами и тиверцами успеха ему не принесла [5: 16-17; 9: 23-24]. Возможно, именно печенеги помогли уличам избежать в то время подчинения Киеву, а венгры - тиверцам, с которыми, по мнению молдавских исследователей, венгры в последние десятилетия своего проживания в Северном Причерноморье составляли военнополитическую общность [14: 263, 275-276]. Укрепление власти киевских князей при Игоре «Старом» (912/922-944/945) сопровождалось его стремлением к расширению владений Руси в южном направлении, особенно в Нижнем Поднепровье, где проходил наиболее опасный для русских торгов- История 19 цев участок пути «из варяг в греки». Константин Багрянородный свидетельствует о том, что в районе днепровских порогов, где русы вынуждены были выходить на берег и перетаскивать свои монок-силы на руках, на них нападали печенеги. Это побуждало «росов» к борьбе за обладание всем течением Днепра. Как известно, Киев был центром «славинии» полян, ниже которых по течению Днепра располагались уличи. Во время написания императором Константином трактата «Об управлении империей» (между 948-952) уличи («ультины») уже были данниками киевского князя [8: 156-157]. Наличие в русско-византийском договоре 944 г. специальной статьи «О Корсуньстей стране» [5: 39; 9: 51] позволяет предположить распространение власти (или влияния) киевского князя на Нижнее Поднепровье и Тавриду, что также свидетельствует о временной потере печенегами к началу 940-х гг. контроля над частью «степного коридора». О том, что до подчинения Игорем уличей граница Руси с печенегами проходила в одном дне пути от Киева, свидетельствует Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей», явно приводя более ранние данные [8: 156-157]. Возможно, уличи перестали подчиняться власти Киева во время междоусобицы сыновей погибшего в битве с печенегами Святослава Игоревича. Однако к концу правления Владимира Святославича (978-1015), по свидетельству Бруно Квер-фуртского, от Киева до южной границы Руси было уже два дня [2: 58; 23: 45]. Хотя на этом Русь остановила своё продвижение в Нижнее Поднепровье, поскольку не было людских ресурсов для освоения более южных территорий, сам этот факт говорит о неспособности степняков помешать процессу возвращения под власть Киева земель, где обитали уличи. Несмотря на то что земли южной Руси более всего страдали от печенежских набегов, характер этих походов за добычей и полоном также не подтверждает тезиса о существовании «кочевой империи» печенегов. Хотя междоусобицы Святославичей создавали благоприятную ситуацию для печенежских разорений, ранние русские летописи сообщают об этом только начиная с 988 г. Под этим же годом в ПВЛ сообщается об укреплении Владимиром границы со Степью путём возведения городов, в которых поселялись «лучшие мужи» из ильменских словен, кривичей, чуди и вятичей [5: 10б; 9: 121]. Последнее сообщение явно имеет обобщающий характер и относится к последующим десятилетиям правления Владимира, поскольку печенеги совершали набеги на Русь в 992, 996 и 997 гг., а их описание в ПВЛ дано в виде пересказа связываемых с ними народных преданий [5: 106-109, 112-114; 9: 122-125, 127-129]. 20 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 После 997 г. печенеги появляются на страницах ПВЛ в следующий раз лишь под 1015 г. в описании событий, предшествовавших смерти Владимира Святославича. Поскольку трудно поверить в то, что эти степняки после 997 г. в течение почти двух десятилетий до их привлечения в качестве союзников Святополком «Окаянным» во время борьбы за власть между наследниками Владимира Святого (І015 - 1019) не предпринимали никаких набегов на русские земли, приходится допускать (хотя и самую минимальную) возможность того, что уникальные свидетельства Никоновской летописи отражают какие-то реальные события. Имеющие ещё более легендарный (чем «Сказание о белгородском киселе») характер известия этого летописного свода, созданного XVI в., о печенежских набегах помещены под 1000, 1001 и 1004 г. [11: 68]. Несмотря на всю свою мифологич-ность5, они вполне соотносятся со свидетельством, безусловно, вполне достоверного источника, каковым является уже рассматривавшееся выше послание Бруно Кверфуртского германскому королю Генриху II 1008 г., где будущий святой католической церкви сообщает о том, что ему удалось добиться заключения мира между Русью и печенегами [2: 61; 23: 46]. При этом следует подчеркнуть, что учитываемые исследователями при воссоздании истории княжения Владимира Святославича предания, содержащиеся в ПВЛ, и признаваемые недостоверными уникальные сказания Никоновской летописи только подтверждают мнение о нежелании печенегов объединять свои военные силы для нашествий на Русь. Судя по всему, это были набеги ополчения отдельных племён. Отсутствие у печенегов стремления к консолидации было одной из причин недостаточного внимания, а порой и презрительного отношения к ним правителей соседних с ними государств. Наиболее показательным, с точки зрения темы настоящей работы, является привлечение печенежского племенного ополчения в качестве вспомогательного войска во время международных конфликтов и внутренних междоусобиц. То, что печенеги начиная с Х в. никогда не оказывали военную помощь тем, кто просил их об этом, объединёнными силами всех своих племён, ярко показывают приводимые далее свидетельства источников. Во время войны болгарского правителя Симеона (893-927) с Византией 917 г., после поражения византийского войска на р. Ахелой (25 августа), «Друнгарию Роману было приказано переправить печенегов (через Дунай. - М.Ю.) на помощь Льву Фоке против болгар, однако между Романом и Иоанном (Вогой, стратигом Херсона. - М.Ю.) начались распри, и печенеги, видя, как они враждуют и ссорятся между собой, вернулись домой» [12: 162]. Трудно представить себе, что так повело бы себя объединённое войско всех печенежских История 21 племён. Скорее всего, это было ополчение кочевавшего на левом берегу нижнего Дуная печенежского племени (по Константину, «фема Гиазихопон») [8: 156-157]. В 943 г. киевский князь Игорь «Старый» отправился в поход на Византию, намереваясь отомстить за поражение, понесённое им под стенами Константинополя двумя годами ранее6. Византия предприняла меры для недопущения киевского князя на Балканы, сначала выплатив ему дань, а в следующем году заключив с ним новый русско-византийский договор. Поскольку вместе с Игорем на Нижний Дунай в 943 г. пришли, в том числе, и печенеги, князь, по-видимому, обещавший им долю от будущей добычи, отправил их в набег на Болгарию [5: 34-35; 9: 45-46]. Второй пример так же, как и первый, явно свидетельствует об участии в рассматриваемом походе ополчения какой-то части печенегов, а не всех восьми «фем» (племён), названия которых приводит Константин Багрянородный, иначе они самостоятельно приняли бы решение совершить набег на Болгарию. Поскольку, судя по всему, печенегов, расселившихся по степной полосе протяжённостью более 1 000 км, вполне устраивало такое разобщённое существование, привлекавшие их на помощь правители соседних государств относились к не представлявшим грозной опасности степнякам как к союзникам «второго сорта». Это ярко проявилось во взаимоотношениях одного из их племён с польским князем Болеславом I Храбрым (ок. 992-1025). В 1013 г. он пришёл на Русь с вспомогательным печенежским войском. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский (ум. в 1018) свидетельствует о том, что после разорения Руси между воинами Болеслава и печенегами вспыхнули раздоры, узнав о которых, польский князь приказал истребить помогавших ему степняков [2: 68; 22: 382]. Можно с большой долей уверенности утверждать, что в данном случае союзниками поляков было воинство одного из печенежских племён, скорее всего Явдертим [2: 68, примеч. 31], малочисленность которого позволила Болеславу так поступить с ним. Несмотря на презрительное отношение к печенегам Болеслав Храбрый продолжал использовать их отряды в качестве вспомогательного войска в конфликтах с соседними государями. Между 1014 и 1017 гг. печенеги совершили набег на Трансильванию, сведения о котором содержатся в гл. 13 «Большого жития Иштвана Святого» [27: 389], написанного во время подготовки к его канонизации, состоявшейся в 1083 г. [20: 268]. По мнению историков, этот набег был одной из военных операций длившегося с 1003 по 1017 г. польсковенгерского конфликта. Скорее всего, инициатива в организации этого набега принадлежала печенегам. Поскольку источники не содержат 22 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 сведений о мести печенегов за убийство их воинов поляками в 1013 г., скорее всего, Болеслав Храбрый на этот раз нанял другое печенежское племя. Версия о том, что он выплатил компенсацию за истреблённых его воинами печенегов, представляется менее вероятной. Военное и политическое могущество Болеслава Храброго, активно поддерживавшего своего зятя Святополка «Окаянного» в борьбе за Киев в 1018 г., побуждало печенегов оставаться его союзниками, тем более что во время княжения Владимира Святославича (978-1015), как указывалось выше, Руси удалось отодвинуть от своей столицы границу с печенегами на один день пути, а также создать линию пограничных укреплений на новых рубежах. Всё это делало печенегов естественными союзниками могущественного польского князя. Нападение на Русь в 1015 г. перед смертью Владимира, представленное в ПВЛ как предпринятое по инициативе печенегов [5: 115; 9: 130], вполне могло быть совершено по договорённости с Болеславом. И вновь напрашивается вывод о том, что и в данном случае силы остановленных на р. Альте степняков были невелики, поскольку для их сдерживания Владимир отправил лишь свою дружину во главе с сыном Борисом. Участие ополчения отдельных печенежских племён в военных конфликтах в Восточной и Юго-Восточной Европе в Х-ХІ вв. также подтверждается тем, что печенеги чаще всего воевали в составе коалиций, численность объединённого войска которых была достаточной для успешных набегов, но не для нашествий, в ходе которых разорялись целые государства или значительные их части. Выше уже приводились примеры участия печенегов в качестве союзников Византии в 917 г., их нахождения в составе войска Игоря «Старого» в 943 г. и в созданной Святославом Игоревичем в 969 г. антивизантийской коалиции, куда ему удалось также привлечь покорённую им Болгарию и венгров. Что касается также рассматривавшихся выше сведений ал-Мас'уди о походе 934 г. четырёх «тюркских племён» на Нижний Дунай, то в них фигурируют две этнические общности печенегов (баджна и баджнак), а также баджгирд (венгры) и нукарда, в которой И.Г. Коновалова видит отряд, пришедший из Новгорода [7: 11 - 13]. Неоднократно привлекавший печенегов в качестве вспомогательного войска Болеслав Храбрый в 1018 г. для изгнания Ярослава Мудрого из Киева создал коалицию, в которую кроме поляков вошли дружина Святополка «Окаянного», печенеги и венгры, о чём свидетельствует Титмар Мерзебургский [2: 82; 22: 530]. В связи с тем, что набеги на соседей совершали отряды отдельных печенежских племён, одним из их излюбленных тактических приёмов было внезапное нападение на тех соседей, военные силы История 23 которых находились на отдалённых театрах боевых действий, когда на местах их проживания оставались лишь незначительные отряды самообороны. Так печенеги использовали в 895 г. участие венгров в византийско-болгарском конфликте и привлечение их в качестве вспомогательного войска великоморавским князем Сватоплуком I (870-894), умершим до прихода своих степных союзников. Смерть призвавшего их государя побудила венгров подвергнуть Моравию разорению, чем воспользовались печенеги, напав в то время на венгерские кочевья. Так же печенеги поступили и в 968 г., когда Святослав Игоревич воевал на Балканах, оставив Киев (где находились его мать Ольга и сыновья) без надёжной защиты, что едва не закончилось взятием столицы Руси печенегами [5: 53-55; 9: 65-67]. Совершая такие внезапные нападения, печенеги, несомненно, понимали, что так же могут поступить и те, на кого они нападали. В ПВЛ под 915 г. можно прочитать о том, что перед тем как оправиться (в 917 г.) по призыву греков на войну с болгарским правителем Симеоном, печенеги заключили соглашение с киевским князем Игорем [5: 32; 9: 43]. Это было сделано явно для того, чтобы обеспечить безопасность тех, кто остался в местах их кочевания. Создатель Венгерского королевства Иштван I Святой (997-1038, король с 1000/1) умело использовал процесс христианизации своей страны для укрепления центральной власти и ликвидации очагов сепаратизма, созданных местными вождями. Окружённые государствами, раньше или позже ставшими частями христианского мира и исповедовавшей иудаизм Хазарией (переставшей существовать в конце 960-х гг.), печенеги также должны были столкнуться с проблемой «выбора веры». Выше уже говорилось о миссионерской деятельности Бруно Кверфуртского среди печенегов в 1008 г. Будущий святой западной христианской церкви, объехав со своими соратниками три четверти страны печенегов и пообщавшись с представителями знати, прибывших к нему из четвёртой четверти, честно признаётся в том, что христианами из печенегов стали всего лишь «тридцать душ» [2: 60-61; 23: 46]. Через год Бруно принял мученическую смерть во время миссионерской деятельности среди язычников-пруссов. О судьбе основанного им печенежского епископства ничего неизвестно. Не оставили печенегов без внимания и исламские миссионеры. По свидетельству арабского учёного-энциклопедиста Абу Убайда Абдаллаха ал-Куртуби ал-Бакри (ум. в 1094), «После четырёхсотого года хиджры (1009/10 г.) случилось быть у них (печенегов. - М.Ю.) пленнику-мусульманину, учёному богослову, он начал проповедь ислама среди некоторых из них, те приняли ислам самым искрен- 24 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 ним образом; проповедь ислама стала распространяться среди них, за это порицали их те другие, кто не принял ислам, дошло у них до сражения, помог бог мусульманам, а их было приблизительно двенадцать тысяч, а неверных - вдвойне, они поубивали их, остальные же приняли ислам» [3: 75-76]. Попытки ал-Бакри представить всех или большую часть печенегов после 1010 г. мусульманами не находят подтверждения в европейских и византийских источниках. Не стали печенеги в то время и христианами. Сама же борьба между сторонниками «веры предков» и одной из двух мировых религий не могла не разделить печенежский этнический массив по конфессиональному признаку на три враждующих «лагеря». Укрепление южных и юго-восточных границ Руси после окончательного изгнания из Киева Святополка «Окаянного» в 1019 г. и успешного похода Мстислава Владимировича на ясов и касогов в 1022 г. сузило возможности печенегов для разорения соседних территорий, но не побудило их к консолидации в единое раннегосударственное образование. Согласно приведённому выше свидетельству Иоанна Скилицы, в рассматриваемое время печенеги делились уже на 13 «родов». Часть их после смерти Василия II Болгаробойцы (1025) возобновила нападения на Византию, отмечаемые в 1026, 1032 и 1035 гг. [13: 7]. О враждебности печенегов, проживавших на землях вдоль южных границ Руси, к венграм свидетельствуют венгерские средневековые хроники в рассказе о бегстве на Русь двоюродных племянников Иштвана I Святого Эндре и Левенте ок. 1034 г. Во время их вынужденного пребывания среди печенегов некий пленный венгр предупредил братьев о намерении степняков убить их, что заставило принцев покинуть печенежские становища [21: 336; 28: 177]. Однако тот же Эндре, ставший в 1046 г. венгерским королём (Эндре/ Андраш I), призвал печенегов на помощь во время похода в Германию в 1051 г. [21: 346]. Разгром печенегов под стенами Киева в 1036 г. вызвал дальнейшее падение роли печенегов в степном мире Восточной Европы и их постепенное перемещение на запад, поскольку с востока их всё больше теснили торки, а с середины XI в. более сильные противники - половцы, быстро ставшие хозяевами Поволжья и Подонья, а потом и всего Северного Причерноморья. Вынужденные откочевать на земли к северу от Нижнего Дуная, где сходились пределы Венгерского королевства и Византийской империи, печенеги так и не объединились ради сохранения своего этноса. Вместо этого у них разразилась война между верховными вождями двух печенежских племён - Кегеном и Тирахом [1: 9-22]. Возможно, в сложившихся История 25 условиях печенеги попытались объединяться под властью наиболее сильных племенных вождей, но, как часто бывает в подобных случаях, между претендентами на роль главного лидера всех племён развернулась жестокая непримиримая борьба, результатом которой стала полная потеря печенегами статуса равноправного субъекта международных отношений в глазах правителей соседних государств. На основании приведённых выше данных можно сделать однозначный вывод о том, что печенеги во время проживания в степном поясе Восточной и Юго-Восточной Европы не только не создали «кочевой империи», но и не предприняли никаких усилий для этого. Географические особенности «Печенегии», протянувшейся с востока на запад на 1 000 км и разделённой на отдельные сектора крупными реками, естественным образом способствовали обособлению печенежских племён, знать которых не желала подчиняться власти верховного вождя всех печенегов, поэтому таковой потестарный институт у них так и не сложился. Консервация племенной раздробленности печенегов также стимулировалась внешними факторами - попытками включения их в христианский или исламский мир, использованием правителями соседних государств в своих политических целях воинства отдельных печенежских племён, тех, которые обитали поблизости. Ни киевские князья, ни венгерские короли, ни правители Польши и Византии не были заинтересованы в объединении печенегов в сильное раннегосударственное образование. Всё это свидетельствует о крайней недальновидности правящей верхушки печенежских племён, так и не осознавшей необходимость консолидации всех разрозненных этнических групп в единый «народ». Пример соседних венгров, некогда разгромленных печенегами и вытесненных ими из степей Восточной Европы, но благодаря объединению отдельных племён создавших в начале XI в. сильное государство, не вдохновил печенежских вождей и их окружение пойти таким же путём. В результате этого печенеги в эпоху классического Средневековья постепенно исчезли со страниц истории. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Важнейшую библиографию см.: [4]. 2. Мной использован помещённый в Интернете перевод с английского издания «Худуд ал-‘алам» В.Ф. Минорского, выполненный И. Стариковым. См.: URL: http:/voslit.narod.ru>rus4>Hudud>text20_22. 3. Хотя В.П. Шушарин не был востоковедом, в его цитате из Ибн Русте учтены не только русскоязычные переводы отечественных сі III 2022. № 69 26 специалистов, но и интерпретация этого текста венгерским востоковедом К. Цегледи. 4. См. об этом: [18]. 5. Упоминание легендарных персонажей в летописных статьях не является исчерпывающим доказательством недостоверности всей информации такого рода. Первый набег руси на Константинополь 860 г. летописцы также приписывают полулегендарному князю Аскольду, сопровождая своё повествование легендарными подробностями, но у исследователей в данном случае есть множество свидетельств зарубежных источников об этом походе. Можно также подвергать сомнению датировки Никоновской летописью событий рассматриваемого периода, но признаваемые достоверными сведения Бруно Кверфуртского о заключении при его посредничестве мира между Русью и печенегами в 1008 г. позволяют допустить возможность отражения Никоновской летописью сведений о событиях той войны, которую остановил Бруно. 6. О датировке второго похода Игоря на греков см.: [19]. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ПСРЛ - Полное собрание русских летописей. SRH - Scriptores rerum Hungaricarun tempore ducum regumque Arpadianae gestarum / Edendo operi praefuit E. Szentpetery. Vol. I-II. Typographiae REg. Universitatis Litter. Hung. sumptibus, 1937-1938.
Simonis de Keza - Simonis de Keza Gesta Hungarorum / ed. by A. Domanovszky // SRH. I. P 129-194.
Legendae S. Stephani regis maior et minor, atque legenda ab Hatrvico episcopo conscripta / ed. E. Bartoniek // SRH. II. P 363-440.
Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum / Fec. I. Thurn. Berolini; Novi Eboraci: De Gruyter, 1973.
Hudud al-Alam. The Regions of the World. A Persian Geography 371 A.H. - 982 A.D. / transl. by V. Minorsky. London: Cambridge University Press, 1937.
Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Uberarbeitung / ed. by R. Holtzmann. Berlin, 1935 (MGH SS rer. Germ. NS. T. 9).
DHA - Diplomata Hungariae antiquissima. Vol. I. 1000-1131 / Edendo opera praefuit G. Gyorffy. Budapestini: Akademiai kiado, 1992.
Golden P.B.The Peoples of the South Russian Steppes // The Cambridge History of Early Inner Asia / ed. by D. Sinor. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P 256-285.
Юрасов М.К. Русы и венгры на Нижнем Дунае в 943 г. // Русин. 2022. № 67. С. 30-46. DOI: 10.17223/18572685/67/3
Az allamalapftas koranak Rott forrasai // Az eloszot nta, a szovegeket valogatta. A kotetet szerkesztette Kristo Gy. Szeged: Szegedi Kozepkorasz Muhely, 1999.
Chronici Hungarici compositio - Chronici Hungarici composition saeculi XIV / ed. by A. Domanovszky // SRH. I. P 217-505.
Юрасов М.К. K вопросу о времени появления первой волны печенегов в степях Восточной Европы // Историческая русистика в XXI веке: материалы Х Международной научной конференции будапештского Центра Русистики от 18-19 мая 2015 г. Budapest: Russica Pannonicana, 2017. C. 73-83.
Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров в Центральной Европе во второй половине IX в. // Славяне и их соседи. Средние века - раннее новое время. Вып. 9: Славяне и немцы. 1 000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М.: Наука, 1999. С. 47-54.
Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического самосознания. М.: РОССПЭН, 1997.
Юрасов М.К. Элементы имперского мышления у венгров в IX веке // Славяне и их соседи. Вып. 8: Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 1998. С. 12-18.
Рябцева С.С., Рабинович Р.А. О возможности выделения венгерских древностей в Карпато-Днестровском регионе в IX-X вв. // Русь в IX-XII веках: Общество, государство, культура. Москва; Вологда: Древности Севера, 2014. С. 263-279.
Расовский Д.А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. VI. Praha, 1933. C. 1-64.
Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / изд. подг. Я.Н. Любарский. СПб.: Наука, 1992.
Марей А.В. Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути и цивилизации. М.: Логос, 2000. С. 337-343.
Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. IX [репр.]. М.: Языки славянской культуры, 2000.
Коновалова И.Г. К вопросу об этнониме нўкарда у ал-Мас'уди // Средневековая Русь. Ч. 2. М.: Едиториал УРСС, 1999. С. 4-20.
Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., комм. / под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. 2-е изд. М.: Наука, 1991.
Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. 2-е изд. [репр.]. М.: Языки славянской культуры, 1997.
Ипатьевская летопись / ПСРЛ. Т. II. 2-е изд. [репр.]. М.: Языки славянской культуры, 1998.
Истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. 1. Пг.: Российская государственная академическая типография, 1920.
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. М.: Изд-во восточной литературы, 1967.
Иванов В.А., Котляр Н.Ф., Плетнёва С.А. Печенеги // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия / под общ. ред. Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2014. С. 610.
Васильевский В.Г. Византия и печенеги // Васильевский В.Г Труды. Т. I. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, 1908. С. 1-118.
Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия / под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г Коноваловой и А.В. Подосинова. Т IV: Западноевропейские источники / сост., пер. и комм. А.В. Назаренко. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.
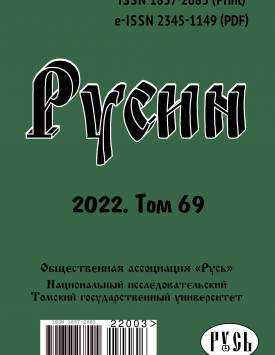

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью