Русский контингент студенчества Томского университета в свете национальной политики императорской России в конце XIX - начале XX в.
Исследование процесса интеллектуальной колонизации в русскую Сибирь конца XIX - начала XX в. позволяет нюансировано подойти к репертуару национальной политики позднеимперской России и проследить, как схожие политические действия вызывали различные эффекты на западных и восточных окраинах империи. В 1880-е гг. было решено сконструировать русское большинство студенчества Императорского Томского университета (ИТУ) путём допуска в него воспитанников православных духовных семинарий. Приблизительно в тот же период этот опыт использовался и для русификации Варшавского и Юрьевского (Дерптского) университетов. Данное решение, инициированное в отношении ИТУ В.М. Флоринским, не встретило, однако, единодушия в правящих кругах. Популярность среди студентов-поповичей леворадикальных политических идей и возникшие тенденции к развитию автономного малороссийского самосознания в ИТУ действительно обнаружили уязвимость проектируемых целей. Допуск семинаристов в университеты западных окраин империи, которым, в отличие от Сибири, так и не суждено было стать русскими имел схожие последствия. Однако стратегические эффекты этих манипуляций отличались. Предполагается, что масштабы радикализма студентов ИТУ часто намеренно преувеличивались. Конспирологические трактовки их активности в исторических источниках объясняются атмосферой недоверия и противоборства в пространстве взаимодействия профессуры ИТУ, попечителей Западно-Сибирского учебного округа и Министерства народного просвещения. Вместе с тем последствия реализации проекта Флоринского проявились на длительной исторической дистанции, когда образованный класс русских стал рассеиваться по Сибири. Этот эффект был вполне релевантен замыслу Флоринского, для которого будущее Сибири как «цветущей провинции Российского государства» обеспечивалось не столько механическим движением русских на восток, сколько расширением культурной гегемонии русской нации.
Russian students in Tomsk University and the national policy of late Imperial Russia.pdf В историографии разнятся оценки национальной политики позднеимперской России. Так, если М. Раев характеризует её как дискриминационную, отмечая её «исключительный шовинизм и культурно-религиозную русификацию» [23: 260], то Б.Н. Миронов, напротив, делает акцент на толерантном и «ненасильственном» её образе, используя, впрочем, то же понятие русификации [14: 181]. Однако, несмотря на тенденцию к унификации и отход от доминирующего ранее принципа имперского регионализма, и во второй половине XIX - начале XX в. национальная политика Российской империи оставалась гибкой, варьируясь в зависимости от региона и с течением времени [6: 108-109]. Разнообразием отличались и её инструменты. Полярность в оценках, отражённая на примере Раева и Миронова, является следствием и неопределенности понятия «русификация», используемого нередко для описания разных процессов [13: 58]. Империя Романовых, в которой присущие всякой империи гетерогенность и асимметричность дополнялись эфемерностью титульной нации, хронически уклонялась от монолитных и стабильных моделей самоопределения. Совокупность сценариев регулирования национального разнообразия империи, отличающихся нередко скорее оттенками, чем типологически, отражает это состояние. С одной стороны, национальное измерение политики в отношении императорских российских университетов не позволяет дифференцировать её по региональному критерию. Профессорско-преподавательский корпус университетов и в целом высшей школы Российской 56 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 империи в абсолютном большинстве состоял из православных и, как принято считать, русских учёных. Это было результатом сознательной селекции, которая находила продолжение в формировании студенческого контингента: в 1913/14 учебном году православные составляли 74,5 % от общего числа учащихся в 10 университетах империи [8: 285]. Вместе с тем манера государственного регулирования университетов в Царстве Польском (Привислинском крае) и Западном крае была если не исключительной, то по крайней мере наиболее брутальной. В то время как в конце 1880-х - 1890-е гг. Дерптский (с 1893 г. Юрьевский) университет (ИЮУ) был «русифицирован» быстро и эффективно [10: 200], национальная история Императорского Варшавского университета (ИВУ) оказалась циклична, обнаруживая пределы возможностей русификаторской политики. Изначально польская молодёжь бойкотировала деятельность Варшавского университета, открытого в 1869 г. на базе преобразованной польской Главной школы. Это сказалось на общей численности студентов ИВУ. Однако вплоть до 1908 г. доля поляков в его контингенте всё же превалировала. Этому способствовало не только то, что русская молодёжь не стремилась в университет чужого края, но и декларированные государственные цели, сводившиеся к воспитанию из числа в первую очередь польской молодёжи лояльных империи чиновников, пригодных для управления Привислинским краем [9: 24]. Всё же радикальные русификаторские тенденции заявили о себе полным вытеснением польского языка из преподавания, сокращением к 1913 г. преподавателей католического вероисповедания до 24 % от общего числа профессорско-преподавательского состава, сосредоточением учебных программ гуманитарных дисциплин на темах, связанных с историей и культурой России. Многие русские профессора ИВУ организовывали свои исследования в славянофильском и панславистском духе. Эта же черта была свойственна их публицистике. Было бы, однако, заблуждением ограничивать эту картину агрессивными мерами самодержавия. Напротив, и в среде учёных, и в правительственных кругах судьба ИВУ была противоречивым предметом. Известно о выдвинутых в период Первой русской революции 1905-1907 гг. министром народного просвещения И.И. Толстым планах полонизации Варшавского университета и придания национального характера всей образовательной системе Варшавского учебного округа. Реализация этого проекта была заблокирована варшавским генерал-губернатором Г.А. Скалоном и попечителем Варшавского учебного округа В.И. Беляевым, что нашло сочувствие у преемника Толстого на посту министра П.М. Кауфмана, который предлагал даже перенести ИВУ во внутреннюю Россию. Хотя М. Рольф утверждает, История 57 что уменьшение польского элемента в составе студенчества ИВУ после возобновления в 1908 г. прервавшейся на время революции его деятельности связано с «новыми альтернативами на варшавском рынке образования» [25: 395], всё же эта реконфигурация была спровоцирована решениями Петербурга. Новый оттенок в палитру «русификаций» привнёс возглавивший в январе 1908 г. Министерство народного просвещения (МНП) А.Н. Шварц, ранее занимавший должность попечителя Рижского, а затем Варшавского учебного округа. Уже к 1909 г. доля русского и православного студенчества ИВУ составила 82 %, а доктрина «идеологической и культурной русификации» поляков уступила место экспансии русского элемента [9: 30]. К тому времени МНП уже могло руководствоваться опытом организации студенческого контингента в самом отдалённом университете империи в Томске. Ситуация в Сибири позднеимперского периода отлична от происходившего на западных окраинах. В то время, когда в Польше и в меньшей степени в Малороссии сложились предпосылки к созданию модерных окраинных национализмов, слабозаселённая Сибирь, где оседлые,кочевые и бродячие инородцы жили рядом с русскими переселенцами, едва ли могла быть приоритетом национальной политики. Вместе с тем организация во второй половине XIX - начале XX в. массового крестьянского переселения из Европейской России в Сибирь, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, топонимические и архитектурные аспекты национально-символического присвоения пространства Азиатской России во многом говорят об обратном. Дело «Общества независимости Сибири» 1865 г. способствовало интенсификации направленных на включение Сибири в русскую сферу инициатив. Одна из них была связана с учреждением первого сибирского университета. С одной стороны, согласно записке «Об учреждении Императорского Томского университета», составленной в 1875 г. генерал-губернатором Западной Сибири Н.Г. Казнаковым, подготовка чиновничьих и врачебных кадров для сибирского региона являлась основной целью проектируемого университета [26: 3-4]. Позднее, в 1884 г., устроитель Томского университета и первый попечитель Западно-Сибирского учебного округа (ЗСУО) В.М. Флоринский подтвердил эту цель в своём докладе министру народного просвещения И.Д. Делянову: «Идея открытия Сибирского университета главным образом была основана на том, чтобы даровать этой до сих пор тёмной стране свет науки, заменив существующих ныне крайне неудовлетворительных деятелей людьми более просвещёнными и более способными, обновить действительно строй гражданского управле-'Сі III 2022. № 69 58 ния, государственной школы и частной промышленности в этой стране (Сибири. - А.С., С.Н.)» [27: 5 об.]. Это в известной мере сближает план учреждения сибирского университета с ранними административнорусификаторскими проектами ИВУ и иЮу И в записке Казнакова, и в состоявшихся во второй половине 1870-х - 1880-е гг. обсуждениях перспектив сибирского университета отсутствует явно выраженный национальный акцент. Действительно, прагматические доводы были решающими в вопросах об учреждении (1878 г.) и открытии (1888 г.) Императорского Томского университета (ИТУ) [17: 32-72]. С другой стороны, национальный фактор всё же возник в связи с перспективами комплектования студенческого корпуса нового университета. На первый взгляд, допуск семинаристов для поступления в число студентов Томского университета выглядел безальтернативным. В 1870-1880-е гг. число выпускников сибирских гимназий не превышало 65-70 человек в год, а рассчитывать на гимназистов Европейской России в силу отдалённости Томска не приходилось. Главным протагонистом истории с открытием воспитанникам духовных семинарий доступа в ИТУ был В.М. Флоринский. Сам выходец из духовенства и выпускник Пермской духовной семинарии, Флоринский высоко ценил «неизбалованных удобствами жизни и вместе с тем привычных к труду и к умственной деятельности» семинаристов [15: 54]. В 1887 г. эта идея встретила влиятельную оппозицию в лице членов Государственного совета обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева и министра финансов И.А. Вышнеградского. В представлении Победоносцева открытие Томского университета только способствовало бы отдалению Сибири от Европейской России. В личном разговоре с Флоринским, состоявшемся в январе 1887 г., он выразил уверенность, что университет в Сибири станет точкой притяжения ссыльнополитической среды и центром социалистической мысли [15: 16-18]. Из дневниковых записей Флоринского следует, что о привлечении семинаристов в Сибирь Победоносцев «не хотел и слышать» [15: 55-56]. Схожей позиции относительно семинаристов в составе Томского университета придерживался Вышнеградский. 11 февраля 1887 г. в ходе особого совещания по делу об открытии ИТУ было замечено, что привлечение в новый университет семинаристов противоречит «прямому назначению последних» [28: 185]. В дореволюционной России отношение к отпрыскам духовного сословия, которые в силу бедности часто вынужденно поступали в православные духовные семинарии, было двойственным. С одной стороны, поповичи, пополнявшие сословие разночинцев, воспринимались с подозрением, и примеры Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского - выходцев из духовенства и воспитанников духовных История 59 семинарий, ставших затем кумирами революционной молодёжи, только усиливали эти впечатления. В условиях, когда в 1880-е гг. на фоне политизации студенчества удельный вес представителей разночинских кругов среди обучающихся в университетах увеличивался интенсивнее, чем доля детей дворянства, для представителей высшей бюрократии империи и консервативно настроенной общественности всесословность университетского образования становилась мишенью критики [36: 199 - 20І]. С другой стороны, скреплённое глубокими наследственными традициями духовное сословие было, пожалуй, наиболее устойчивым в империи вплоть до конца XVIII в. Ограниченность сословной мобильности была обусловлена, в частности, и специфичным для духовенства средним образованием, которое долгое время блокировало процесс размывания его сословной структуры [37: 146]. Хранители титульной веры, поповичи вступили в XlX в. обладателями потенциала, который ассоциировался с ядром русской нации. С точки зрения Л. Манчестер, наследственные линии этого сословия были заметны и в ходе динамичных процессов транссословной мобильности в XIX - начале XX в., когда, покидая своё сословие, духовники всё же сохраняли набор специфических качеств. Их носители во многом определили становление национального самосознания в России [12: 377]. Амбивалентность образа поповичей наложила отпечаток и на университетскую политику второй половины XIX - начала XX в. Положения общих уставов российских университетов 1863 и 1884 гг. допускали в них только гимназистов. Однако особым циркуляром 1863 г. МНП было предусмотрено исключение из университетского законодательства, и окончившие как четыре общеобразовательных класса, так и полный шестилетний курс духовных семинарий имели возможность поступать в университеты империи. В 1875 г. правила поступления в университеты для семинаристов ужесточились, а в 1879 г. все предусмотренные для них льготы были отменены [10: 65-67]. Впрочем, царская бюрократия возобновляла ограниченный доступ поповичей в университеты впредь, используя эту меру как инструмент исключительной русификации Юрьевского и Варшавского университетов. Именно к этому механизму вытеснения польского студенчества прибегнул А.Н. Шварц в 1908 г. Для него это стало непростым решением, которое он вынужден был принять, когда, при изначальном запрете на поступление для семинаристов, в ходе отборочной кампании 1908 г. из 214 абитуриентов 114 оказались евреями [4: 199]. Несмотря, однако, на то, что часть университетских студентов - воспитанников семинарий соответствовала ожиданиям консервативного 'Cl III 2022. № 69 60 чиновничества, пополняя, в частности, ряды черносотенцев, в целом говорить об оправдании замысла не приходится. По всей вероятности, большинство из них отдавало предпочтение амплуа прилежных учеников, далеких от политики, а часть была ангажирована леворадикальными идеями [4: 211]. Немало русских студентов и профессоров чувствовало себя в Привислинском крае скорее незваными гостями, чем полноправными представителями имперской нации [10: 202; 30: 250-251]. В Сибири отпрыски духовного сословия если и испытывали отчуждение, то имело оно иную природу. С 1816 по 1897 г. темпы прироста русского населения Сибири в 3,5 раза превышали темпы роста сибирских инородцев. В ходе строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем и реализации реформ П.А. Столыпина, с 1896 г. по 1914 г. в Сибирь переселилось более 4 млн русских. Значительная их часть оседала в Западной Сибири [7: 93-94]. В целом оправдавшиеся оптимистические ожидания от расширения большой русской нации на восток порой, однако, оборачивались результатами, шокирующими современников. Русских, в той или иной мере ассимилированных инородцами, к началу XX в. можно было встретить в самых разных частях Азиатской России. Хотя масштабы обратной ассимиляции не позволяют говорить о ней как о заметной тенденции, тем не менее наследие романтических иерархий человеческого рода и представления о цивилизационной миссии русских на востоке радикально противоречили наблюдаемым явлениям «обынородчивания». Считается, что данный феномен беспокоил власть и общественную мысль России прежде всего потому, что обнаруживал хрупкость конструкта русской нации [24: 184; 39: 824]. Масштабная колонизация Сибири русскими не вызывала иллюзий у В.М. Флоринского. Открыв для себя сибирскую среду, он не находил в ней достойных претендентов на обучение в университете. Конечно же, он рассчитывал, что из детей местных русских чиновников, крестьян, мещан и купцов, «большею частью грамотных только со вчерашнего дня», «выработаются хорошие силы», но «не в первом поколении». Отталкивала Флоринского и перспектива обучения в университете отпрысков местных инородцев и иноверцев, особенно евреев. «Исходя из того принципа, - замечал Флоринский в своих дневниках, - что русский университет должен служить исключительно русским национальным интересам, я бы не считал нормальным и желательным размножение в нем еврейских элементов» [15: 102-106]. Устроитель Томского университета верил в высокую сопротивляемость чуждой среде представителей русской нации. Однако он делал ставку не на русских в целом, а не тех из них, кто обладал История 61 набором особых качеств - духовно-сословным происхождением, образованностью и упомянутой уже аскетичностью. Дети духовенства, обременённые высоким доверием некоторых русских чиновников, демонстрировали вместе с тем пристрастие к уклонению от ожидаемых от них ролевых моделей. Неудивительно, что прогнозы последствий их допуска в университеты не всегда были оптимистичными. Флоринскому предстояло взять на себя ответственность за этот эксперимент в Сибири. В январе-феврале 1887 г. вопрос о семинаристах в Томском университете стал своего рода западнёй. Настаивая на их допуске, велика была возможность отказа от открытия университета. В случае же удовлетворения претензий Победоносцева и Вышнеградского первый университет в Азиатской России мог столкнуться с недостатком абитуриентов. Министр внутренних дел Д.А. Толстой, в прошлом возглавлявший МНП и потому погружённый в процесс создания сибирского университета, посоветовал Флоринскому в ходе совещания 11 февраля 1887 г. «о семинаристах не говорить», а решить вопрос об их допущении не законодательным актом, а «частным и притом временным распоряжением» [15: 127]. В дальнейшем это позволило, в обход Государственного совета, действующему главе МНП И.Д. Делянову обратиться по этому поводу с «Высочайшим докладом». Опытный царедворец Толстой на совещании нарочно преувеличил количество сибирских гимназистов, что во многом предопределило благополучный исход дела [15: 159-160]. Александр III одобрил открытие Императорского Томского университета с 1888 г. Из 236 прошений о принятии в число студентов ИТУ в год его открытия 79 принадлежало воспитанникам духовных семинарий. Для тех из них, кто не окончил полный курс, организовывались испытания в университете. Всего было принято 40 воспитанников семинарий. По преимуществу это были выходцы из губерний Центральной России. Количество православных в первом наборе студентов ИТУ (всего было принято 74 человека; соответственно, 54 % из них были бывшими семинаристами), среди которых были также гимназисты и бывшие студенты других университетов, составило 63 человека, или 87,5 % от общего числа зачисленных на 1-й курс [19: 9-11]. Национальная статистика высшего образования в Российской империи практически не велась. Судить о соотношении национальностей в студенческом корпусе университетов, однако, можно, исходя из статистики вероисповедной. Представлений о высокой степени их идентичности придерживался А.Е. Иванов в своих классических исследованиях высшей школы поздней императорской России [8: 62 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 284-285; 10: 195-196]. С точки зрения Иванова, сопоставление имеющихся данных по вероисповедным группам с редкими официальными документами (касающимися студенческого контингента ИВУ), в которых конфессиональная статистика конкретизирована национальной, а также с материалами некоторых студенческих самопереписей, обосновывает эти представления вполне. Действительно, по данным, собранным в ходе проведённой в 1907/08 учебном году студенческой половой переписи среди учащихся ИТУ и Томского технологического института, 68 % респондентов отнесли себя к «великороссам» [35]. Почти половина респондентов была из «универсантов». В тот же учебный год количество православных студентов ИТУ, согласно годовому отчёту, составило 882 человека, или 88,4 % от общего числа студентов, т. е. без учёта посторонних слушателей и фармацевтов [22: 27]. Принимая во внимание распространённый в то время обычай подразделять русский народ на великороссов, малороссов и белорусов, мыслимо предполагать, что часть православных студентов могла отнести себя к иной, нежели великорусской, ветви1. Так, по подсчётам православных выходцев из малороссийских и белорусских губерний, согласно списку студентов ИТУ [32], общее их число в 1907/08 учебном году составляло 72 человека, или 8,16 % (5,21 % малороссов и 2,95 % белорусов) от общего числа православных студентов. Следовательно, число великороссов среди студентов ИТУ должно было составлять около 80 %, что приблизительно соответствует данным половой переписи. Приведённые аргументы позволяют с доверием подойти к почерпнутой из отчётов [20: 9-13; 21: 17-18; 22: 26-27] статистике православного состава студенчества ИТУ как источнику сведений о его русском контингенте. В приведённой ниже таблице она дополнена данными о количестве выходцев из духовного сословия и воспитанников духовных семинарий. На протяжении всего периода существования ИТУ православные составляли абсолютное большинство его студенческого контингента. Всегда значительна была и доля воспитанников семинарий, причём подавляющее их большинство пребывало из семинарий Европейской России2. Однако с 1888 до 1914 г. в студенческом контингенте ИТУ наблюдалось снижение доли как воспитанников семинарий (за исключением периода с 1889 по 1901 г.), так и выходцев из духовного сословия - в основном детей священников, дьяконов, псаломщиков. Аналогичная тенденция наблюдалась тогда в ИВУ и ИЮУ [10: 72-75]. Объясняется она тем, что с 1905 г. доступ воспитанников духовных семинарий в российские университеты в целом расширялся, что и вызвало отток и снижение их доли в университетах окраинных. Даже Победоносцев к История 63 1904 г. стал более снисходителен к вопросу о допуске семинаристов в университеты. Доля православных, воспитанников духовных семинарий и выходцев из духовенства от общего числа студентов ИТУ Студенческий контингент 1889/90 акад. год 1901/02 акад. год 1907/08 акад. год 1913/14 акад. год Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Православные 163 85,79 503 93,15 882 88,38 784 86,92 Воспитанники духовных семинарий 123 64,74 393 72,77 575 57,61 292 32,37 Выходцы из духовного сословия 117 61,58 293 54,26 435 43,59 266 29,49 В 1890 г. В.М. Флоринский с удовлетворением отмечал в своих записках, что студенты ИТУ - воспитанники семинарий, в сопоставлении с гимназистами, оказались «несравненно развитые, талантливые и усердные» [16: 9 об.]. Большинство их них хорошо выдерживало экзамены и стоически принимало трудности проживания в далеком и суровом крае. В сибирской прессе впоследствии не утихала критика дискриминационного положения семинаристов - «пасынков храмов науки». Многие профессора ИТУ высоко ценили среднее духовное образование студентов и в процессе обучения предъявляли к ним повышенные требования, что представлялось скорее привилегией, чем бременем. Выпускники университета из числа поповичей неизменно ставились в пример [29]. Вместе с тем Флоринского настораживало подчас попустительское отношение студентов к посещению торжественных актов и богослужений. Записи в штрафной книге ИТУ за период с 1893 по 1900 г. сообщают о не самом рьяном отношении студентов, и не в последнюю очередь поповичей, к исправлению духовных обрядов и не всегда благопристойном их поведении в доме общежития, стенах университета и за его пределами [2: 1-231]. Томские студенты принимали участие во всероссийских студенческих волнениях 1899, 1901, 1908 и 1911 гг., в событиях Первой русской революции, организовывали локальные беспорядки в университете. В этой ситуации то и дело актуализировался страх перед «нигилизмом» и «антиобщественными стремлениями» семинаристов [11]. Немало духовников действительно поступало в университет из семинарий, будучи уже эрудированными народниками, а затем и марксистами. По воспоминаниям бывшего студента ИТУ К.М. Гречищева, первыми марксистами в университете были студенты А.А. Вилков и в будущем председатель Центральной 64 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 ревизионной комиссии ВКП(б) и депутат Верховного Совета СССР М.Ф. Владимирский. Оба были детьми священников и в ИТУ поступили из Нижегородской духовной семинарии [31: 64, 186]. Гречищев отмечал, что именно на скамьях семинарии «им посчастливилось знакомиться с трудами В.И. Ленина» [5: 376]. Гречищев и сам был воспитанником Рязанской духовной семинарии, исключённым из ИТУ за участие в студенческих волнениях 1899 г. Совет томских студенческих землячеств организовывал корпоративные собрания, поддерживал нелегальную библиотеку, координировал студенческие бойкоты. Землячества, которые в период подполья и после 1906 г. организовывались не только по географическому, но и по национальному принципу, рассматривались как источник неблагонадёжности в Томском университете. Деятельность украинского землячества при ИТУ в 1909-1910 гг. после запроса товарища министра народного просвещения Л.А. Георгиевского была подвергнута расследованию. По его результатам А.Н. Шварц пришел к выводу о «нежелательном развитии среди малорусов национализма и сепаратизма». 14 апреля 1910 г. он велел ликвидировать украинское землячество при ИТУ [3: 17-17 об.]. Внеучебная активность студентов Томского университета на протяжении всего дореволюционного периода не прекращала быть предметом невротического наблюдения со стороны инспектора студентов, попечителя ЗСУО, министра народного просвещения. Картина радикализации русского дореволюционного студенчества имеет глубокие историографические корни и стала уже довольно тривиальной. Своё место в ней занимают и ненадёжные отпрыски духовного сословия. В то же время подобная интерпретация представляется не во всех отношениях безупречной. 14 сентября 1901 г. в своём секретном циркулярном послании глава ведомства МНП П.С. Ванновский, предупредив о мерах к предотвращению огласки этого, делегировал попечителю ЗСУО Л.И. Лаврентьеву право дозволять массовые собрания студентов ИТУ. Данную возможность, не предусмотренную, заметим, правилами для студентов университета, Ванновский предлагал использовать временно, в исключительных случаях и с рядом условий. Ранние расследования МНП показали, что источник студенческих волнений исходил часто от «незначительного количества» политически ангажированной молодёжи, в то время как «благомыслящие студенты, составляющие громадное большинство», «оказываются слепым орудием в руках меньшинства». Со всем тем постановления сходок принимались «от имени всех студентов» конкретного учебного заведения. Скрытая либерализация, по замыслу Ванновского, должна была естественным образом предотвратить История 65 эскалацию волнений. В послании Лаврентьеву он подчёркивал, что данная мера уже имела «хорошие результаты» в столичных высших учебных заведениях [1: 16-17]. Иная стратегия была избрана А.Н. Шварцем, который предпочитал подавлять угрозу, не дожидаясь её явного проявления. Произведённое Томским губернским жандармским управлением расследование деятельности украинского землячества при ИТУ показало, что в конфискованных документах «ничего явно преступного не было». Однако обнаруженная тогда рукопись «Статутъ Томськоі украиньскоі студентськоі громади», написанная на малороссийском наречии, содержала в себе положение о «пробуждении национального самопознания у членов громады». В официальном уставе землячества оно отсутствовало. Статут был обнаружен в квартире, где проживали председатель землячества В.Д. Сумневич и его казначей Ф.Д. Ле-винский. Оба были выходцами из Подольской губернии, сыновьями священников, окончившими Подольскую духовную семинарию [32: 15, 106]. Всего в 1907/08 учебном году, т. е. незадолго до расследования, в студенческом корпусе ИТУ из 46 православных уроженцев Малороссии насчитывалось 27 выходцев из духовенства. Почти все они ранее обучались в духовных семинариях (подсчитано по: [32]). Присутствовавший на заседаниях украинского землячества 15 сентября и 26 ноября 1909 г. помощник проректора ИТУ И.Я. Каминский стал свидетелем обсуждения только материальных вопросов. Но уже 24 марта 1910 г. попечитель ЗСУО Л.И. Лаврентьев в служебном письме Георгиевскому отмечал, что землячество это состоит «из лиц, стремящихся отделиться от единой и неразделимой России». Вероятно, именно характер докладов Лаврентьева подтолкнул Шварца к мнению о том, что упомянутый статут был альтернативным, «не легализованным» уставом украинского землячества [3: 17-19]. Ранее, в феврале 1910 г., В.В. Сапожников, ректор ИТУ в 1906-1909 гг., сообщил Лаврентьеву, что обсуждаемое землячество «не представляет опасности ни для академического, ни для общего порядка». Для Лаврентьева, который с давних пор питал недоверие к Сапожникову и фактически находился в непрерывном скрытом противоборстве с ним и либеральной профессурой университета в целом, положительной характеристики бывшего ректора ИТУ, вероятно, оказалось вполне достаточно, чтобы поверить в преступные цели украинского землячества. О преувеличенности «украинской» угрозы в ИТУ говорит и то, что в 1907/08 учебном году доля православных выходцев из малороссийских губерний составляла в нем 5,21 % от общего числа православных студентов. К 1914 г. она снизилась до 2,42 % (19 человек)3. Невозможность отделить мнимую угрозу от реальной 66 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 была спутником жизни императорских российских университетов, затрудняя оценку последствий допуска семинаристов в отдельные университеты, в т. ч. в ИТУ. Таким образом, несмотря на разные условия на западных окраинах Российской империи и в Сибири, допуск в располагавшиеся на этих территориях университеты семинаристов, на первый взгляд, имел схожие последствия. Духовники в Томском, Варшавском и Юрьевском университетах использовались как инструмент расширения пространства большой русской нации. Они, призванные в долгосрочной перспективе укреплять национальный каркас самодержавия, оставались, однако, его ахиллесовой пятой. Допуск в ИТУ семинаристов, ставший возможным благодаря умелым переговорным действиям Д.А. Толстого и В.М. Флоринского, был фактором конструирования русского большинства в студенческом корпусе первого сибирского университета. Это, впрочем, был и фактор дестабилизации университетского пространства, заявивший о себе политической ангажированностью поповичей и даже тенденцией к развитию автономного национального самосознания отдельных ветвей русской нации. Однако исходившие от русского и православного по преимуществу студенчества ИТУ угрозы во многом были предметом конспирологического изваяния. Эта карта разыгрывалась в ходе противостояния в кругах профессуры ИТУ, управления ЗСУО и в целом МНП. Между тем уже к 1898 г. выяснилось, что из 166 врачей первых трёх выпусков ИТУ (в т. ч. 107 воспитанников духовных семинарий) больше половины остались на службе в Сибири. Ректор ИТУ А.И. Судаков замечал, что они служили Сибири не только «своими специальными знаниями», но и способствуя «развитию и других сторон культуры» среди населения края [34: 11]. Сегодня Сибирь устойчиво воспринимается как зона масштабного расширения границ русской имперской нации во второй половине XIX - начале XX в. [38: 354-357]. Говорить, однако, о том, что этот процесс был беспрепятственным, не приходится. Сопряжённые с ним риски подчеркивают различие аналогичных процессов в университетах западных и восточных окраин империи. Удивительно, но если Шварц, направляя в 1908 г. поток семинаристов в Варшавский университет - в среду сильного окраинного национализма, руководствовался уверенностью в экспансионистской силе русской нации, то Флоринский, настаивая на том же решении в отношении региона, заселённого русскими переселенцами и находящимися в основном на архаических стадиях развития инородцами, напротив, испытывал сомнение в этой силе. Судить о том, насколько оправдала себя ставка Флоринского, можно только рассматривая её эффект в История 67 долгосрочной перспективе. Это была ставка не столько на русский народ как таковой, сколько на культурный потенциал образованного его класса, и в основе такого подхода лежала уверенность в том, что главная опасность на пути расширения русской нации исходила от самой русской нации. ПРИМЕЧАНИЯ 1. В докладе по итогам половой переписи среди томских студентов информация об абсолютном и относительном количестве среди них малороссов и белорусов отсутствует. 2. К 1898 г. из 1 033 студентов, обучавшихся в ИТУ за весь период с момента его открытия, воспитанников духовных семинарий было 766, в т. ч. 691, или 90,21 % от общего числа студентов - бывших семинаристов, из семинарий Европейской России [34: 11]. 3. Статистика студенчества ИТУ не составлялась по ветвям русского народа. Доля православного студенчества ИТУ - выходцев из малороссийских губерний относительно общего числа православных студентов Томского университета определена, исходя из подсчётов по спискам студентов за соответствующие учебные годы [32; 33].
Ключевые слова
Сибирь,
императорские российские университеты,
русификация,
национальная политика,
Российская империяАвторы
| Степнов Алексей Олегович | Томский государственный университет | кандидат исторических наук, младший научный сотрудник научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность», ассистент кафедры российской истории | brothe.numb1@gmail.com |
| Некрылов Сергей Александрович | Томский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории | medicinahistory@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
Фалевич Я. Итоги томской студенческой половой переписи (доклад, читанный 18 февр. 1910 г. на заседании Пироговского студенческого медицинского общества при Томском университете) // Сибирская врачебная газета. 1910. 2 мая.
Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М.: Наука, 1976. 232 с.
Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton: Princeton University Press, 1983. 508 p.
Miller A. Romanov Empire and Russian Nation // Nationalizing Empires / ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest; New York: Central European University Press, 2015. P 309-368.
Sunderland W.Russians into lakuts? “Going Native” and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870s-1914 // Slavic Review. 1996. Vol. 55, No. 4. P. 806-825.
Судаков А.И. Очерк истории развития и деятельности Императорского Томского университета за первое десятилетие его существования // Изв. ИТУ Кн. 15. Томск: Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1899. С. 3-23.
Список студентов, вольнослушателей и вольнослушательниц ИТУ за 1907-1908 ак. г. Томск: Типография Сиб. тов-ва печатного дела, 1908. 191 с.
Список студентов, слушателей, вольнослушателей и вольнослушательниц ИТУ на 1913-1914 уч. г. Томск: Типография Сиб. тов-ва печатного дела, 1913. 129 с.
Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 386 с.
Список студентов и посторонних слушателей ИТУ за 1895-1896 ак. г. Томск: Том. губ. типография, б.г. 243 с.
Рольф М. Польские земли под властью Петербурга: от Венского конгресса до Первой мировой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 576 с.
Семинаристы и университет // Утро Сибири. Газета общественно-экономическая, политическая и литературная. 1915. 21 июня.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 149. Ед. хр. 211.
РГИА. Ф. 733. Оп. 149. Ед. хр. 833.
РГИА. Ф. 1152. Оп. 10. Ед. хр. 47.
Ремнев А.В., Суворова Н.Г Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи // Полития. 2010. № 3-4 (58-59). С. 150-191.
Раев М. Понять дореволюционную Россию: государство и общество в Российской империи. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. 304 с.
Отчёт о состоянии ИТУ за 1888 г. Томск: Типо-литография Михайлова и Макушина, 1889. 71 с.
Отчёт о состоянии ИТУ за 1889 г. Томск: Типо-литография Михайлова и Макушина, 1890. 69 с.
Отчёт о состоянии ИТУ за 1901 г. Томск: Типо-литография Макушина, 1902. 220 с.
Отчёт о состоянии ИТУ за 1907 г. Томск: Типография Сиб. тов-ва печатного дела, 1908. 221 с.
НМРТ. ОХИДИ. Ед. хр. КППи-117959/108.
Некрылов С.А. Томский университет - первый научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг. - 1919 г.). Т. 1. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 514 с.
Отдел I. <..> О студентах, вольнослушателях и вольнослушательницах <..> // Отчёт о состоянии Императорского Томского университета (ИТУ) за 1913 г. Томск: Типо-литография Сиб. тов-ва печатного дела, 1914. С 1-58.
Национальный музей республики Татарстан. Отдел хранения изобразительных и документальных источников (НМРТ. ОХИДИ). Ед. хр. КППи-117959/106.
Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 896 с.
Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 320 с.
Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX - начале XX века. М.: б. и., 1991. 392 с.
Иванов А.Е. Русский университет в Царстве Польском. Из истории университетской политики самодержавия: национальный аспект // Отечественная история. 1997. № 6. С. 23-33.
Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX - начала XX века: социально-историческая судьба. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. 414 с.
Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 448 с.
К вопросу о допущении семинаристов в университет // Сибирская жизнь. 1898. 11 янв.
Гречищев К.М. Из жизни студентов Томского университета (до 1900 г.) // Императорский Томский университет в воспоминаниях современников / сост. С.Ф. Фоминых (отв. ред.), С.А. Некрылов и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 368-406.
Дамешек Л.М. Избранное Т III: Сибирские окраины Российской империи (XVIII - начало XX в.). Иркутск: Оттиск, 2018. 256 с.
Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Избранное. Т. II: Сибирь в системе имперского регионализма (1822-1917 гг.). 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Оттиск, 2018. 416 с.
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 102. Оп. 10. Ед. хр. 4.
ГАТО. Ф. 102. Оп. 12. Ед. хр. 17.
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Ед. хр. 2485а.
Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX - начало XX в.). М.: Индрик, 1999. 272 с.
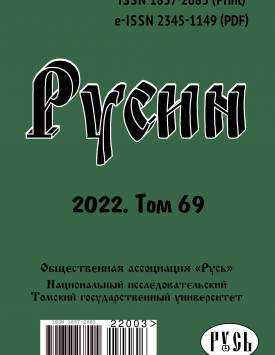

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью