Статья посвящена восприятию русинского вопроса в Галиции, Буковине и Закарпатье российскими консервативными журналами на протяжении пятилетнего периода 1890-1894 гг., границы которого определяются заметными политическими изменениями в Австро-Венгрии, России и Германии. Подробно рассмотрена история изучения русинского вопроса в последней трети XIX в. в свете исследований общественного мнения в Российской империи. Продемонстрирована недостаточная изученность отражения русинской темы в общественном сознании России 1890-х гг. Рассмотрена позиция «Русского вестника» Ф.Н. Берга по русинскому вопросу на примере статей С.С. Татищева, который рассматривал вопрос об освобождении Галиции от австрийского господства в отвлеченной плоскости. Основное внимание уделено эволюции позиций «Русского обозрения». Данный консервативный журнал нового типа под руководством князя Д.Н. Цертелева скептично относился к идее помощи зарубежным славянам и избегал обширных комментариев о русинах. При новой редакции АА Александрова ключевую роль в «Русском обозрении» стал играть панславист С.Ф. Шарапов, симпатии которого к полякам и венграм не помешали ему ставить вопрос об освобождении русинов. В результате новой редакционной политики в 1893-1894 гг. в журнале были опубликованы важные материалы по истории и текущей политической и церковной ситуации в Галиции, Буковине и Закарпатье, рассмотрена проблема переселения русинов в Российскую империю и деятельность И.Г. Наумовича и А.И. Добрянского. Сделан вывод о недостаточном внимании русских консервативных журналов к русинскому вопросу и осознании его стратегического значения.
The Rusin question in Russian conservative journals (1890-1894).pdf История изучения восприятия в России событий в жизни австровенгерских русинов последней трети XIX в. небогата. Как правило, исследователи русинского вопроса уделяли основное внимание периоду начала XX в. [7; 24], а не предыдущему этапу. В крупной монографии по истории русинов К.В. Шевченко уделил менее 20 страниц обсуждению положения Галичины и Закарпатья в последней трети XIX в. [41: 77-96], при этом тема отношения российского общества к русинским проблемам затронута не была. Некоторые авторы ограничивались общими замечаниями о положении подкарпатских русинов в Австро-Венгрии, несправедливо противопоставляя их «украин-цам-галичанам» [3: 206], в то время как до конца XIX в. говорить об «украинстве» галицких русинов было бы анахронизмом. Статья М.Л. Ивашкина специально посвящена истории борьбы галицких русинов с поляками и австрийскими властями с 1867 по 1914 г., рассматривает становление украинофильского и москвофильского течений, однако совершенно не касается вопроса о восприятии в России происходивших в Восточной Галиции событий [8]. Как отмечает автор, история русинов «не имеет прочной традиции в отечественной науке» [8: 68]. Следует признать малочисленность работ по восприятию внешнеполитических вопросов российским общественным мнением, особенно прессой. Этой проблемой применительно к славянскому вопросу занимались Й. Колейка [10], В.А. Дьяков [5], В.М. Хевролина [33-35]. Однако исследованием общественного мнения в России по поводу австро-венгерских русинов ни историки дипломатии и международных отношений, ни историки общественной мысли практически не занимались. Все работы в этой сфере (А.В. Игнатьев, А.С. Аветян, И.В. Бестужев, В.С. Дякин, И.Е. Воронкова, В.А. Кустов), в том числе специально касающиеся галицко-русского вопроса (А.А. Чемакин), рассматривают лишь период начала XX в. Историки русского панславизма конца XIX в. Д.П. Золотарёв и А.А. Поповкин также не останавливались специально на месте русинского вопроса в учении поздних славянофилов [6; 22]. На этом фоне выделяется статья А.И. Миллера. В основном посвященная истории противоборства между галицкими поляками и 76 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 русинами и австрийским центром в Вене, она вскользь затрагивает роль России в этой схватке: Миллер упоминает, что в 1868 г. под давлением Петербурга император Франц-Иосиф не осмелился поехать в Галицию [15: 68-69]. Историк также утверждает, что с 1867 г. якобы «Россия активно вела» панславистскую пропаганду в Австро-Венгрии, хотя в действительности ее вели на свой страх и риск русские панслависты, а никак не российское государство или Министерство иностранных дел. В монографии Н.М. Пашаевой об истории галицких русинов под властью Австро-Венгрии связям с российской общественностью уделено всего несколько страниц. Акцент сделан на вкладе А.С. Будиловича и славянских благотворительных обществ Петербурга, Москвы, Киева в поддержке львовских лидеров русинов в 1890-е гг., на частых публикациях на галицкую тему в органах печати поздних славянофилов [19: 110], их трактовки русинов как особой части русского народа [19: 111]. Н.М. Пашаева отмечает негативную роль российских либеральных журналов в освещении событий в Галиции с антироссийских, украинофильских позиций («Вестник Европы», А.Н. Пыпин, К. Арабажев, М.П. Драгоманов). «Русские правительственные круги не разорялись на постоянную поддержку своих русских соотечественников за рубежом», - констатирует историк [19: 111-112]. Исключениями она считает пожертвования русинским лидерам со стороны таких русских консерваторов, как В.А. Черкасский и К.П. Победоносцев. Обер-прокурор Синода отмечал «отчаянный вопль русского населения в Галиции о безысходном положении их в борьбе с польским правительством, которому предала их Австрия» [19: 116]. Именно благодаря Победоносцеву император Александр III обеспокоился судьбами галицких русинов и в 1885 г. наложил резолюцию: «Чрезвычайно больно и грустно... Авось даст Бог и нам, и им светлый день когда-нибудь» [19: 116]. Монография М.Э. Клоповой наиболее подробно рассматривает движения русинов Восточной Галиции (эпизодически также Буковины) в период 1898-1914 гг., но всё же уделяет некоторое внимание и предыдущему этапу. В исследовании затрагивается деятельность И.Г. Наумовича, процесс Ольги Грабарь 1882 г. и начало австрийских репрессий против русинского движения [9: 46-54]. М.Э. Клопова солидаризируется с мнением А.И. Миллера о полной пассивности официального Петербурга относительно судьбы русинов и проиг-рышности данной позиции. Однако с точки зрения М.Э. Клоповой, украинофильское движение в Галиции было слабым и маргинальным до тех пор, пока в 1890 г. под давлением австрийского наместника Бадени не было заключено соглашение с украинскими «народов- История 77 цами». Эту дату и следует считать поворотной в истории Галиции [9: 62]. Следующим этапом стало утверждение М.С. Грушевского на должность профессора во Львовском университете в 1894 г., совпавшее по времени, однако, с разрывом польско-украинского соглашения и неудачной попыткой консолидации украинофильских и русофильских русинов [9: 64-66]. Мнения русских консерваторов о русинском вопросе выборочно представлены в новой статье Д.И. Стогова [23]. Однако он приводит примеры 1880-х и 1900-х гг., но не 1890-х гг., а также делает акцент на высказываниях крупнейших мыслителей, а не рядовых обозревателей периодической печати. В.Б. Колмаков [11], напротив, рассмотрел галицкий вопрос в русской периодике, но за период 1900-х гг. Статья М.А. Шульги специально посвящена интересующему нас вопросу [42]. Рассматривая Карпаты как важнейшую пограничную лимитрофную зону между Россией-Евразией и Европой, как область борьбы русской и квазиевропейской идентичностей, автор через эту призму анализирует учение крупнейшего русского геополитика и ученого-слависта второй половины XIX в. В.И. Ламанского. Ла-манский, как известно, проделал долгую идейную эволюцию [14], к 1892 г. закончив разработку учения о нескольких культурных мирах и постаравшись определить статус Восточной Европы как буферной зоны греко-славянского мира на его границах с романо-германским [21]. Эти земли, по мысли ученого, вместе с Россией образуют «Средний мир». Отличительная особенность Ламанского заключалась в его необычайной прозорливости и точности его прогнозов на XX в., предусматривавших англоамериканскую гегемонию в мире и резкое обострение военной борьбы за восточноевропейские лимитрофы вдоль границ России. От исхода культурной, языковой, идейной борьбы за умы и идентичность восточноевропейского пояса народов, считал Ламанский, зависит будущее всей России как самостоятельной силы [42: 20-21]. Поэтому В.И. Ламанский настаивал на присоединении русинов Галичины и Карпат к Российской империи в силу их автохтонности и изначально русской идентичности. В плане тактики он предпочитал делать упор на «мягкую силу» (распространение русского языка и книжности в данном регионе, обучение русинских студентов в университетах России). На этом пути Ламанскому пришлось столкнуться с глухотой российского общества, его непониманием важности поддержки русинов [42: 22]. Это было характерно для российских либералов и социалистов, но и среди консерваторов, как мы увидим, далеко не все столь же ясно осознавали значимость русинского вопроса для Российской империи. 78 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 Таким образом, следует обратиться к русской периодической печати, прежде всего журналам, чтобы выяснить позицию российских консерваторов по русинскому вопросу и уровень уделявшегося ему внимания. Целью данного исследования является анализ освещения положения дел у русинов Австро-Венгрии русскими консервативными журналами. Для анализа наиболее перспективны четыре издания разных оттенков. Во-первых, это «Русский вестник» (после смерти М.Н. Каткова находившийся под редакцией Ф.Н. Берга в кризисном состоянии и оскудевший идейно). Во-вторых, «Русское обозрение» - основанный в 1890 г. журнал нового типа, под редакцией Д.Н. Цертелева ставший широкой площадкой для выражения и столкновения различных мнений и течений в русском правом лагере, а после 1892 г. под редакцией Н.М. Боборыкина и затем А.А. Александрова претерпевший небольшую эволюцию в сторону более строгого дворянского и церковного консерватизма. В-третьих, речь идет об официальном органе поздних славянофилов, который в 1890-1891 гг. представлял собой еженедельник «Славянские известия», а в 1892 г. был сменен «Славянским обозрением» А.С. Будиловича, последний раз изданным в виде альманаха в 1894 г. В-четвертых, отдельного упоминания заслуживает радикально левое крыло панславистов и его орган «Благовест», по сути отколовшийся от более правых «Славянских известий». Ввиду ограниченного объема статьи в данной работе будет представлен анализ первых двух журналов, осторожно относившихся к панславизму. Русинский вопрос на страницах «Славянских известий»/«Славянского обозрения» и «Благовеста» будет рассмотрен позднее в другой работе. Выбор хронологических рамок для анализа в рамках данной работы - с 1890 по 1894 г. - обусловлен рядом политических событий. В 1890 г. произошла отставка германского канцлера О. фон Бисмарка и венгерского премьер-министра К. Тисы, резко обострились межнациональные противоречия в Австрии, в том числе «украинский вопрос» в Галиции. Тогда же появились «Русское обозрение» и «Славянские известия». На рубеже 1894-1895 гг. произошли такие события, как смерть Александра III и российского министра иностранных дел Н.К. Гирса, отставка германского канцлера Л. фон Каприви, австрийского министра-президента А. фон Виндишгреца, венгерского премьер-министра Ш. Векерле и австро-венгерского министра иностранных дел Г. Кальноки. Таким образом, выбранный промежуток времени является относительно целостным периодом, позволяющим судить о позиции русской консервативной печати и общественного мнения История 79 по русинскому вопросу на фоне эпохальных кадровых перестановок в Австро-Венгрии и поддерживавшей ее Германии. В «Русском вестнике» материалов по русинской теме за пять лет не было вовсе, за исключением упоминаний в «Политическом обозрении» С.С. Татищева, который систематически вел агитацию за русско-французский союз против Германии и Австро-Венгрии, выступал с позиций православного панславизма и мечтал о захвате Константинополя. Львиную долю внимания Татищев уделял балканской политике Австро-Венгрии, однако в опубликованном в январе 1890 г. ретроспективном обозрении событий 1889 г. развернуто высказался о галицко-русской проблеме: «Между Дунайской монархиею и нами существует другой повод к раздору, прямой и непосредственный: мы разумеем поведение венского двора в Галиции, обращенной им в очаг польских национальных козней и метаний. Мы не скажем пока ни слова о бедственном состоянии, в которое ввергнуто коренное русское население этого края, порабощенное польскому меньшинству, но тем более будем настаивать на вызывающем по отношению к России характере заигрываний с поляками, возбуждении в них несбыточных надежде на восстановление Речи Посполитой под главенством австрийского дома» [28: 282]. Таким образом, для С.С. Татищева галицкий вопрос на тот момент существовал лишь как вопрос русско-польской борьбы, без малейшего намека на украинофильство: «Австро-Венгрия предоставляет польскому элементу полный простор в Галиции» [28: 282]. Правда, публицист тут же оговаривался насчет планов австрийской экспансии в сторону Днестра и Буга. По мнению Татищева, русская дипломатия должна предупредить Вену, что «неосторожное обращение с огнем в Галиции или на Балканском полуострове легко может зажечь пожар, который пожрет и сотрет с лица земли дряхлую и ветхую монархию Габсбургов. Внутреннее ее состояние таково, что достаточно одного толчка извне, чтобы вызвать полное ее разложение» [28: 283]. На протяжении 1891 г., когда Татищев несколько месяцев жил в Австрии, он делал акцент на балканской и польской политике Вены. Галицко-русинский вопрос был упомянут им лишь дважды, да и то вскользь. И в Австрии, и в Венгрии, напоминал читателям «Русского вестника» Татищев, «большинство населения составляют славяне, естественно тяготеющие к великой покровительнице славянского племени, единокровной России» [30: 379]. Поэтому славянская пресса Габсбургской империи поддерживала Россию, в то время как немецкая, венгерская, еврейская, польская пресса являлась крайне антироссийской. Говоря об идее австрийских славян о союзе Австрии с Россией, Татищев отмечал: «Поразительное единодушие, с которым 'Сі III 2022. № 69 80 развивают эту мысль национальные органы во всех славянских землях Дунайской монархии, чехи и хорваты, словаки и словинцы, русские Галича и сербы Баната. В таком обороте внешних дел надеются они притом обрести и улучшение собственного своего приниженного положения, действительное дарование им той равноправности с немцами и мадьярами, которая торжественно провозглашена в основных законах, но доселе оставалась и остается мертвою буквою» [28: 367]. Не выделяя тем самым галицких русских из общего списка славянских народов, Татищев скорбел о том, что немецко-венгерская пресса приписывает России «всякое проявление ропота и неудовольствия австрийских славян»: «Тяготение же их к единоплеменникам или единоверцам по ту сторону австро-мадьярского рубежа вменяется им в государственную измену. Жестоко преследуется всякая попытка их войти в более близкое общение с русскими людьми: изучение русского языка и словесности, сношения с нашими учеными или литературными деятелями, даже просто поездка в Россию» [28: 367]. Казалось бы, из этого должны следовать требования решительных мер по развалу Габсбургской монархии и воссоединению русинов с Россией. Однако вместо этого в апреле 1891 г. Татищев высказался против идеи раздела Австро-Венгрии между Россией и Германией, выразив нежелание ради Галиции рисковать стратегически: «Русский императорский двор не пойдет ни на какую сделку, в основание которой положены насилие и обман. На что ему распадение Австро-Венгрии? Возвращение древнего Галича не возместило бы нам приращения могущества Германской империи вследствие присоединения к ней немецких земель монархии Габсбургов» [29: 377-378]. Публицисту пришлось ограничиться общими словами о тяготении славян дуалистической монархии к «великой покровительнице» России [31: 379]. После этого галицкие проблемы вообще исчезли из «Русского вестника» до конца 1894 г., если не считать заметку анонимного рецензента на антироссийскую книгу австрийского депутата, галицкого поляка Йозефа Поповского. Обозреватель восклицал: «Следовало бы оглянуться на то, что ныне творится со славянами в Венгрии или с южно-россами в Галиции. Как хорошо живется славянам и как соблюдено уважение к дорогим для народа религиозным обрядам и языку, мы недавно видели из речей русских послов львовского сейма, изданных отдельной брошюрой. Уж не будет ли и г. Поповский утверждать, что отношения между его родичами и несчастными рутенами нормальные и вся беда лишь от каких-то московских рублей?» [16: 320-321] В этом пассаже примечательно употребление редкого слова «южно-россы» для определения галицких русин. К сожалению, в дальнейшем эта тема в «Русском вестнике» не получила развития. Причина, на наш взгляд, заключается в История 81 том, что редакция Ф.Н. Берга с ее охранительскими взглядами, несмотря на свою неприязнь к Германии и Австро-Венгрии, не желала рисковать стабильностью Российской империи ради русинского вопроса. В «Русском обозрении» - журнале с более широким и гибким идейным диапазоном - тон редакции по внешнеполитическим вопросам задавал В.А. Грингмут, регулярно нападавший на страницах журнала на славянофилов и панславистов. Первый редактор «Русского обозрения» князь Д.Н. Цертелев в целом разделял взгляды Грингмута, исходившие из абсолютного приоритета интересов России над желаниями зарубежных славян [12: 86-91]. Тем не менее отношение к Австро-Венгрии и Германии в журнале было враждебным, хотя в этой связи русинский вопрос упоминался нечасто. В цикле статей Грингмута «Текущие вопросы международной политики» он не затрагивался вовсе, а его упоминания в «Современной летописи», которую вел лично Цертелев, были единичны. Впрочем, одним из авторов, иногда печатавшихся в «Русском обозрении», был А.А. Киреев - сторонник обмена Царства Польского на Галицию с ее присоединением к Российской империи и укреплением в ней православия [13: 231,244, 248, 278]. 20 апреля 1890 г. он записал в дневнике: «Галицкие польские власти равнодушно смотрят на голод и нищету несчастных галицких русских мужиков, а помогают лишь тем из них, которые продают свои голоса за кусок хлеба детям» [17: 286-286 об.]. Но Кирееву в «Русском обозрении» на данную тему не позволяли высказываться. Поэтому за рассматриваемое пятилетие 1890-1894 гг. русинский вопрос поднимался в этом журнале крайне нерегулярно. В первом номере «Русского обозрения» Цертелев, говоря об австрийской агрессии на Балканах, связывал ее с внутренней антиславянской политикой Вены: «Россия могла спокойно смотреть на происки австрийской дипломатии только до тех пор, пока им не были затронуты жизненные интересы русского народа, и для защиты этих интересов Россия не остановилась бы ни пред какою коалицией. Австро-Венгрия, обессиленная внутренней борьбою различных национальностей и подталкиваемая злым гением своим, мадьярами, надеялась возвратить себе силы распространением своего влияния на народы Балканского полуострова» [36: 376-377]. В марте 1890 г. Цертелев коснулся отставки венгерского премьер-министра К. Тисы, в самых черных красках описывая его 15-летнюю политику мадьяри-зации и жесточайшего угнетения всех народов Транслейтании. Русофобское и славянофобское влияние Тисы, по мнению обозревателя, чувствовалось и во внешней политике Австро-Венгрии, принявшей в 1880-е гг. крайне антироссийский характер [37: 416-417]. 82 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 Большое значение имело обозрение Цертелева в сентябре 1890 г., в котором он поразительно точно предсказал общие контуры будущей мировой войны, дав прогноз столкновения русско-итало-француз-ской коалиции с австро-германо-турецкой. Такой расклад был не характерен для того момента, но редактор «Русского обозрения» блестяще смог предвидеть ситуацию четверть века спустя. Говоря о целях войны, он впервые отдельно упомянул русинский вопрос: «Австрия имеет скорее причины опасаться трех миллионов русинов в Восточной Галиции, которые могут навлечь на нее нападение России, чем желать увеличения своих владений» [38: 436]. В апреле 1891 г. Цертелев вторил Грингмуту, выдвигая тезис о ненужности России поддерживать зарубежных славян. Из контекста неясно, распространял ли он эту максиму на русинов или нет. Во всяком случае, осуждая панславизм и принцип передела границ по этническому принципу, обозреватель восклицал: «Неужели одного имени и более или менее сомнительных этнографических особенностей достаточно, чтобы перевесить единство, основанное на тождестве материальных, а в значительной степени и нравственных интересов?» [39: 895] С весны 1891 до лета 1893 г. упоминания русинов вообще исчезают из «Русского обозрения». Две смены редакции журнала подряд в 1892 г. привели к корректировке его политической ориентации. «Современную летопись» стал вести новый редактор А.А. Александров - ученик К.Н. Леонтьева, скептически настроенного по отношению к галицким русинам. Поначалу Александров стал высказываться за мир между Россией и Австро-Венгрией [1: 414-415]. Лишь в июне 1893 г. он опубликовал статью закарпатского корреспондента под псевдонимом Угро-Русс о гонениях на русинов со стороны венгерских властей [32]. В том же номере журнала сам Александров отметил: «Венгры фанатически ненавидят Россию - которой вовсе не знают - и стараются изо всех сил смадьярить венгерских славян» [2: 881]. Но здесь же редактор делал оговорку, что не все мадьяры таковы, приводя в пример сочувственное к России письмо некоей дамы в загребской газете. Славянам «принадлежит будущее, и ничто не воспрепятствует их расцвету», - предрекала венгерка [2: 882]. Что касается статьи Угро-Русса, то она преследовала цель познакомить широкие круги русских читателей с положением в Закарпатье: «Чтобы почтенные читатели в России кое-какое понятие о том, какими способами и средствами мадьяры и их приверженцы из других народностей, как-то: немцы, евреи и пр., мадьяризируют живущих в Венгрии русских и вообще славян, сообщу здесь ряд неоспоримых фактов, почерпнутых мною из верных источников» [32: 634-635]. История 83 По оценкам автора, численность русских в Венгрии (380 тыс. чел. по переписи 1890 г.) была явно занижена и в действительности достигала 650 тыс. чел. Автор напоминал, что русские (он не употреблял слова «русины») - коренные жители Закарпатья, обитавшие там еще до прихода венгров в 889 г. и в XIV в. пополненные массовыми потоками мигрантов из Галицко-Волынской земли. В Мукачеве в это время даже был русский князь - вассал венгерского короля, построивший там православный монастырь [32: 635-637]. На протяжении XIV-XVII вв. русины Венгрии наслаждались полным самоуправлением, отмечал автор, главным же источником проблем было насаждение латинского языка в качестве государственного и первые попытки католиков насильственно обратить православных в свою веру. В статье рассматривались русские православные мукачевские епископы в период героической борьбы с унией, длившейся полтора века вплоть до 1690 г. [32: 638-642]. С этих пор, по словам Угро-Русса, закарпатские русины были зажаты между австрийской католической латинизацией и венгерской протестантской мадьяризацией. Местное дворянство и духовенство к концу XVIII в. в основном забыло родной язык. Тем не менее русский язык (как ясно из цитируемых документов, представлявший собой смесь местного диалекта с церковнославянизмами) применялся при обучении в униатских семинариях, и именно униатское духовенство Закарпатья уже с начала XIX в. выступило против мадьяризации [32: 643-646]. Кроме Библии и униатского катехизиса, какой-либо другой литературы на русском языке в крае не было. Всю вину за искусственную поддержку венгерского языка с 1791 по 1848 г. Угро-Русс возлагал на австрийские власти. В таких условиях «национальное развитие русского народа в Венгрии совершенно прекратилось, и даже лучшими русскими людьми овладели национальный индифферентизм, робость и нерешительность, и никто из них не дерзал даже намекнуть мадьярам о своих национальных или политических правах» [32: 647]. Исключением был А.И. Добрянский, но и он был вынужден бежать в Галицию. Подавление венгерской революции 1848-1849 гг. российскими войсками, по мнению Угро-Русса, спасло русинов от ассимиляции. С 1849 г. австрийские власти стали поощрять создание русских школ в Закарпатье, продвигать русинов на государственную службу. Добрянский стал жупаном четырех округов и сделал в них русский язык официальным. Униатские епископы и священники издавали буквари и учебники, в Ужгороде русский язык был введен в гимназии. При помощи галицких русинов в Закарпатье распространялись местные и привозные русские газеты: «Словом, русские в Венгрии вполне сі III 2022. № 69 84 пришли к своему национальному сознанию и начали совершенно новую, самостоятельную национальную жизнь, заявляя при всяком случае о своем существовании и о своих национальных правах» [32: 649]. В 1858-1859 гг. австрийские власти предприняли ряд репрессий против русинов, но с 1860 г. их права вновь были расширены. Русский язык стал официальным языком не только местного делопроизводства, но и униатской церкви; вскоре возникли два русских просветительских общества. Новый этап борьбы начался с назначения мукачевским епископом в 1866 г. рьяного поборника мадьяризации Стефана Панковича, который стал вытеснять русинских лидеров из Закарпатья в другие регионы, а к 1871 г. с применением военной силы добился разгона сторонников Добрянского и захвата в свою пользу Общества св. Василия Великого [32: 651-653]. К церковной мадьяризации с 1867 г. добавилась и государственная. В Пряшевской епархии ситуация была несколько лучше, но в целом к началу 1890-х гг. русское движение в Закарпатье было подавлено: «Положение русской народности в Венгрии в настоящее время так печально, как оно никогда не было прежде. Мадьярский язык сделался языком русского общества, его гостиной и даже семьи» [32: 654]. По словам Угро-Русса, запуганное население боялось читать русские книги, газеты, словари; во всем крае осталась лишь одна русская газета - «Листок» священника Е. Фенцика. «Русский же язык, которым говорит русский простой народ в Венгрии, представляет жалкую смесь с мадьярским, словацким и даже польским языками. Ввиду всего этого можно смело утверждать, что русская народность в Венгрии находится на положении совершенного разложения и уничтожения и что, если дела и впредь пойдут так, как они шли до сих пор, в непродолжительном времени русская народность совершенно исчезнет с лица “мадьярского глобуса”», - предостерегал автор, не предлагая никакого пути выхода [32: 655-656]. С июля 1893 г. «Современная летопись» была разделена на «Внутреннее обозрение» и «Иностранное обозрение», которое стал вести славянофил С.Ф. Шарапов. Уже в сентябре он отреагировал на острый кризис в Богемии и введение австрийским правительством Тааффе осадного положения в Праге. Чешский конфликт Шарапов рассматривал как шанс на примирение России с венграми: «Усмирять чехов, как мадьяр в 1848 году, Россия, наверное, не пойдет, а малейшее вмешательство Германии будет сигналом к общему взрыву в Венгрии, где уже и сейчас ведется весьма серьезная агитация, направленная против Тройственного союза и в пользу сближения венгров со славянами, Россией и Францией» [40: 430]. История 85 Таким образом, с июня-июля 1893 г. «Русское обозрение» сменило курс и начало публикацию специальных материалов о русинах. Вслед за рассмотренной выше статьей Угро-Русса свет увидела подробная биография духовного вождя галицких русинов - о. Иоанна Наумовича, написанная о. Иоанном Соловьевым [22]. Эта публикация была приурочена к двухлетней годовщине смерти Наумовича, но фактически была посвящена широкому спектру вопросов по текущей ситуации в Галиции. Сорокалетняя просветительная работа И.Г. Наумовича в Галиции, а в 1886-1891 гг. - в Киеве, Петербурге, Москве и Новороссийске преподносилась о. Соловьевым как общерусское дело защиты «дедовской кирилло-мефодиевской веры», поднятия «нашего православно-русского самосознания» [22: 271-272]. Автор разделял обеспокоенность «Московских ведомостей» и «Киевского слова» о малоизвестности в России заслуг Наумовича, чья могила находилась в пренебрежении и разрушалась. Особый интерес в данном очерке, однако, представляют не разделы с биографией о. Наумовича, а общий обзор ситуации в Галиции с полонизацией и засильем иезуитов [22: 274-277]. Автор крайне скептично оценивал потенциал русского национального и православного самосознания в Галичине, указывая на польские и униатские симпатии местной интеллигенции. После 1860 г. положение галицких русинов стало отчаянным: «Все народности, входящие в состав австрийской монархии, при всей разрозненности своих взаимных интересов, единодушно сходятся в одном - в национально-религиозной вражде ко всему русскому-православному» [22: 277]. Австрийская власть, по словам автора, в обмен на польские голоса в рейхсрате отдала галицких русских в рабство полякам и евреям. Обедневшие галичане эмигрировали, польские власти препятствовали деятельности их банка. Вопреки канонам униатской церкви, в нее насильно внедрялись латинские обряды и догматы. Умонастроения большинства галицких крестьян о. Соловьев со слов Наумовича характеризовал как крайнее невежество и полное непонимание: «Что же касается национально-русского самосознания галичан и их умственного движения, то в этом отношении дело обстоит и совсем худо» [22: 279]. Он утверждал, что до 1848 г. галицкие крестьяне считали себя особой народностью, а не частью русского народа. Затем появились деятели русского движения, газета «Слово», журнал «Наука» и т. д., но к текущему моменту (1893 г.), по оценкам И.С. Соловьева, украинофильство в Галиции решительно преобладало над москвофильством. В этих тяжелых условиях о. Наумович и совершил свой подвиг, отрекшись после 1848 г. от увлечений польским 86 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 национализмом в пользу формирования в Галиции русской идентичности. Сблизившись с простым народом, издавая «народные календари» с советами по земледелию и пчеловодству и художественные повести о жизни сельского священника [22: 281-287], он исподволь внушал крестьянам неприязнь к немецкому правительству и польским панам и звал нищий и неграмотный народ на неравную борьбу с иноземной властью. «С 1848 г. засияла звезда свободы и нашлись во Львове люди, которые имели столько отваги в сердце, чтобы громко сказать, не боясь ни гвардии, ни польских насмешек: тут наш древний Галич, тут наша Русская земля и мы Русский народ, а не польский», -писал Наумович [22: 289]. Он начал проповеди «о кровном родстве галичан с Великою Россией и о несродности галичанам западной романской культуры» [22: 292]. Национальную борьбу Наумович не отделял от классовой: «Теперь произойдет борьба между могучим землевладельцем и бедным поселянином, между ученым адвокатом и темным хлебопашцем» [22: 289]. И.С. Соловьев впервые знакомил массового русского читателя с газетами и журналами Галицкой Руси, выходившими в 18601880-е гг. под редакцией о. Наумовича или с его участием, с написанным им повестями, рассказами, богословскими сочинениями в защиту православия [22: 781-791]; особое внимание при этом уделялось языку сочинений Наумовича на основе русского литературного языка с добавлением галицких диалектизмов. Также о. Соловьев дал очерк общественно-политической и церковной биографии Наумовича, отмечая невероятную популярность о. Иоанна в народе. Подчеркивалось, что поначалу он боролся лишь за восточный обряд в униатской церкви против латинизаторов, но поворотным моментом стало заключение лидера галицких русинов в тюрьму и его отлучение папой римским от церкви (1883 г.) и переход в православие (1885 г.) [22: 791-796]. В итоге император Александр III, киевский митрополит Платон, М.Н. Катков оценили по достоинству дела Наумовича, а министр финансов И.А. Вышнеградский выделил средства на га-лицко-русский банк. Последним делом русинского духовного вождя стало перенаправление потока эмиграции русинов с Бразилии на Кавказ [22: 799-800]. В сентябре 1893 г. серия публикаций о Галиции была продолжена анонимной статьей венского корреспондента [4]. В качестве эпиграфа к ней была приведена галицко-русская народная песня, обвиняющая в нищете края «цесарика» Франца-Иосифа и «жидов». В статье отмечалось новое явление: если в 1880-е гг. галицкие русины эмигрировали в Америку (22 тыс. чел.), то с лета 1892 г. они массово потянулись в Российскую империю (6 тыс. чел. с августа по октябрь из История 87 Галиции и около 1 тыс. чел. из Буковины). Российские власти оказали им недружелюбный прием, но вернуться обратно крестьяне, объявленные в Австрии «изменниками», часто тоже не могли (вернулись 3 тыс. чел.). Тем не менее полякам в буковинском сейме пришлось пойти на уступки и ввести льготные условия кредита и аренды для русинских крестьян, а также привлекать их на строительстве дорог [4: 229]. Автор статьи отмечал, что многие крестьяне пускались в путь под влиянием фантастических слухов о благодатных краях и огромном количестве земель в русской Подолии. В действительности Россия не вела абсолютно никакой агитации в Галиции и Буковине в пользу переселения крестьян, но австрийские власти всё равно обвиняли ее в этом. Жертвами австрийских репрессий стали несколько крестьян, приговоренных к реальным срокам заключения за мнимое оскорбление Габсбургов и «возбуждение ненависти и презрения к правительству» [4: 230]. В частности, были арестованы редакторы галицко-русских газет Д. Козарищук и Г. Купченко, опубликовавшие письма покойного о. Наумовича. Экономические причины невероятной нищеты в Буковине и Галиции автор статьи усматривал в грабительских, разорительных для крестьян условиях отмены крепостного права в 1848 г. Лишённые пастбищ, леса, большей части земли, обремененные невыносимым поземельным налогом и целым рядом других налогов, русины (особенно приграничных с Россией уездов) разорялись и эмигрировали. Имели место случаи дикого произвола и расправы со стороны полиции в городах. В итоге недобор налогов в Галиции были в три раза выше, чем в других австрийских провинциях (36 % против 12 %); то же самое повторялось в Буковине [4: 231-235]. К этому прибавлялись бедствия естественного характера: вырубка лесов привела к ухудшению климата и оскудению почв в тернопольском Подолье и коцманской Буковине, в то время как их население быстро росло, а его плотность к 1890 г. оказалась едва ли не самой высокой во всей Австрии. Это приводило к дроблению земельных участков на крошечные наделы (каждый третий - менее десятины), в то время как оплата за иные промыслы в силу большого предложения труда была нищенской [4: 235-240]. Публицист резюмировал: «Главными причинами, побуждающими галицко-русский народ выселяться в Россию, являются: малоземелье и раздробление поземельной собственности, затем отсутствие отхожих промыслов в крае и ничтожная плата за сельские работы и, наконец, непомерное возвышение налогов и несправедливое их взыскание» [4: 238]. К экономическим причинам автор статьи добавлял «нравственные»: польские гонения на униатов с целью обратить их 88 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 в латинский обряд; засилье евреев в администрации, суде, торговле, промышленности; рассказы земляков о хорошей жизни в России как стране с низкими налогами, с дешевым и справедливым судом; незаконное принуждение крестьян работать по воскресеньям и в церковные праздники; ложные слухи о передаче в России пустующих после эпидемии холеры земель русинам-иммигрантам [4: 238]. «Всё русское и православное» считается «непримиримым врагом Австро-Венгрии», сетовал публицист [4: 240]. Автор предлагал комплекс мер по улучшению ситуации: «Необходимо поднять благосостояние крестьянина, обеспечить его землей, ограничить разделы, дать ему заработок, оградить его от эксплуатации евреев, защитить от произвола помещиков, посессоров и чиновников. Русский крестьянин Галиции, хотя живет в стране, где по конституции все равноправны, терпит преследование за свой язык, за свое письмо, за свою веру православную» [4: 239]. Таким образом, с июня по сентябрь 1893 г. в «Русском обозрении» увидели свет целых пять работ по русинскому вопросу в Галиции, Буковине и Закарпатье. Лишь отчасти это можно объяснить падением 15-летнего режима Тааффе в Австрии, ключевой же причиной стала общая переориентация журнала в сторону позднего славянофильства. Эта тенденция продолжилась: в ноябре 1893 г. Шарапов обратил внимание своих читателей на глубокий безвыходный кризис управления в Цислейтании, который, по его мнению, еще при жизни его поколения завершится ее распадом. В Венгрии же причиной острых межнациональных конфликтов Шарапов объявлял евреев как якобы главных проповедников мадьяризации, вызывающей ненависть у всех подвластных народов [25: 492-493]. При этом обозреватель в различных номерах журнала одобрительно отзывался о «христианских и консервативных» венграх, в связи со смертью Л. Кошута одобрял восстание 1848 г. против Габсбургов и т. д. Именно поэтому венгерские гонения на закарпатских русинов для Шарапова было удобнее приписать евреям, а не самим венграм. Напротив, вину за преследования галицких русинов Шарапов возлагал на австрийское правительство, поляков же считал колеблющимися. В мае 1894 г. публицист одобрительно отозвался об объединении всех галицко-русских депутатов в рейхсрате в одну фракцию, оппозиционную к кабинету Виндишгреца. Только теперь, четыре года спустя, «Русское обозрение» поведало своим читателям о событиях 1890 г., известных как сговор Романчука - Бадени. Однако ни одним словом Шарапов не обвинил в этом поляков (к которым вообще благоволил), считая причиной упомянутого сговора «австрийский иезуитизм и неурядицу» и представляя Романчука как жертву обмана История 89 со стороны Вены, который теперь осознал свою ошибку, прозрел и объединил всех русинских депутатов: «Трудно себе представить, чем теперь Австрия обманет русский народ в Галиции» [26: 479]. Лишь в следующем выпуске журнала Шарапов всё-таки признал, что русские Галиции борются именно против ополячивания и в силу этого входят в число народов, которые разрушат Австро-Венгрию [27: 898]. Публицист резюмировал: «Про русских Галиции нечего и говорить. Никому Австрия
Шульга М.А. Русинский вопрос и геополитические миры Владимира Ламанского // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 2 (36). С. 15-26.
[Цертелев Д.Н.] Современная летопись // Русское обозрение. 1890. № 9. С. 426-450.
[Цертелев Д.Н.] Современная летопись // Русское обозрение. 1891. № 4. С. 878-899.
Шарапов С.Ф. Иностранное обозрение // Русское обозрение. 1893. № 9. С. 418-430.
Шевченко К.В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX - первой половине ХХ в. М.: Regnum, 2010. 414 с.
Хевролина В.М. Проблемы внешней политики России в общественной мысли страны // История внешней политики России. Вторая половина XIX века (от Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). М.: Международные отношения, 1999. С. 302-343.
[Цертелев Д.Н.] Современная летопись // Русское обозрение. 1890. № 1. С. 357-388.
[Цертелев Д.Н.] Современная летопись // Русское обозрение. 1890. № 3. С. 390-417.
Хевролина В.М. Идея славянского единства во внешнеполитических представлениях поздних славянофилов (конец 70-х - середина 90-х годов XIX в.) // Славянский вопрос: вехи истории. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 90-106.
Хевролина В.М. Внешнеполитические взгляды славянофилов в конце XIX в. // Новая и новейшая история. 1998. № 2. С. 22-41.
Угро-Русс. Латинизация и мадьяризация русских в Венгрии // Русское обозрение. 1893. № 6. С. 634-656.
Татищев С.С. Политическое обозрение // Русский вестник. 1891. № 1. С. 360-370.
Татищев С.С. Политическое обозрение // Русский вестник. 1891. № 5. С. 367-378.
Татищев С.С. Политическое обозрение // Русский вестник. 1891. № 7. С. 376-385.
С.Ш. [Шарапов С.Ф.] Иностранное обозрение // Русское обозрение. 1894. № 5. С. 474-479.
С.Ш. [Шарапов С.Ф.] Иностранное обозрение // Русское обозрение. 1894. № 6. С. 895-903.
Татищев С.С. Политическое обозрение // Русский вестник. 1890. № 1. С. 265-290.
С.Ш. [Шарапов С.Ф.] Иностранное обозрение // Русское обозрение. 1893. № 11. С. 478-493.
Суляк С.Г Русинский и украинский вопросы накануне Первой мировой войны // Русин. 2009. № 2 (16). С. 96-119.
Стогов Д.И. Русинская проблематика в трудах русских консерваторов конца XIX - начала XX в. // Русин. 2022. № 67. С. 174-187. DOI: 10.17223/18572685/67/10
Соловьев И.С., священник. О. Иоанн Наумович (очерк его жизни и духовно-просветительской деятельности) // Русское обозрение. 1893. № 7. С. 270-293; № 8. С. 781-803.
Поповкин А.А. Славянские благотворительные общества в Москве и Санкт-Петербурге (1858-1921 гг.): дис.. канд. ист. наук. Воронеж: ВГУ, 2013. 570 с.
Снежницкая С.И. Регионы Евразийского материка в концепции В.И. Ламанского // Регионы мира в трудах молодых учёных: проблемы истории, культуры и политики. Вып. 2. Н. Новгород: ННГУ, 2020. С. 52-57.
Пашаева Н.М. Очерки русского движения в Галичине XIX-XX вв. М.: ГПИБ, 2001. 201 с.
Павлов А.С. О начале галицкой и литовской митрополий и о первых тамошних митрополитах по византийским документальным источникам XIV в. // Русское обозрение. 1894. № 5. С. 214-251.
Миллер А.И. Галиция в системе австро-венгерского дуализма // Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1995. С. 63-70.
Новости литературы // Русский вестник. 1893. № 9. С. 309-321.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 126. Оп. 1. Д. 11. Дневник А.А. Киреева 1887-1894 гг.
Медоваров М.В., Снежницкая С.И. Раскол среди поздних славянофилов (1887-1897 гг.) и роль В.И. Ламанского в нем // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 5. С. 38-47.
Медоваров М.В. А.А. Киреев в общественно-политической жизни России второй половины XIX - начала XX в: дис.. канд. ист. наук. Н. Новгород: ННГУ, 2013. 357 с.
Колмаков В.Б. Проблема Галиции в русской консервативной публицистике начала XX века // Берегиня 777. Сова: общество, политика, экономика. 2012. № 1. С. 15-21.
Медоваров М.В. Геополитические концепции русских консерваторов 1890-х годов (по материалам журнала «Русское обозрение» и его оппонентов) // Тетради по консерватизму. 2020. № 3. С. 85-98. DOI: 10.24030/24092517/2020-0-3-85-98
Ивашкин М.Л. Этнополитическая ситуация в Австрийской Галиции во второй половине XIX - начале XX в.: польский и русинский вопросы // История в подробностях. 2011. № 4 (10). С. 62-73.
Клопова М.В. Русины, русские, украинцы. Национальные движения восточнославянского населения Галиции в XIX - начале XX века. М.: Индрик, 2016. 279 с.
Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и XX веках. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 263 с.
Иванов А.А. Граф Владимир Бобринский и Второй Мармарош-Сигетский процесс: по материалам российской прессы // Русин. 2018. Т. 54, № 4. С. 145-168.
Золотарев Д.П. Позднее славянофильство и его роль в общественнополитической мысли России 60-х - 90-х гг. XIX века: автореф. дис.. канд. ист. наук. Воронеж: ВГУ, 2004. 24 с.
Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М.: Наука, 1993. 207 с.
Г*** Почему галицкие русские бегут из Австрии? (Письмо из Вены) // Русское обозрение. 1893. № 9. С. 228-240.
[Александров А.А.] Современная летопись // Русское обозрение. 1892. № 11. С. 414-419.
[Александров А.А.] Современная летопись // Русское обозрение. 1893. № 6. С. 872-884.
Бирюков С.В. Австро-Венгерская империя, генезис национальных движений и русинский вопрос // Русин. 2018. № 3 (53). С. 193-209. DOI: 10.17223/18572685/53/11
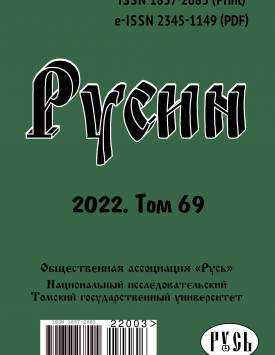

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью