Елизавета Николаевна Водовозова (девичья фамилия - Цевловская, по второму мужу - Семевская) (5(17).08.1844-23.03.1923) - русская детская писательница, мемуарист, один из виднейших педагогов своего времени. Окончила Смольный институт. В конце 1860-х гг. вместе с мужем В.И. Водовозовым знакомилась с методикой воспитания и обучения детей в общественных учреждениях и семейным воспитанием Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии и Франции. Её публицистическая деятельность началась со статьи «Что мешает женщине быть самостоятельной? (по поводу романа г. Чернышевского «Что делать?»), которая вышла под псевдонимом в журнале «Библиотека для чтения» в сентябре 1863 г. Е.Н. Водовозова была автором самой популярной дореволюционной книги для родителей «Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста», переизданной до революции семь раз (СПб., 1871; СПб., 1913. 7-е изд.). В ней она предлагала сделать основой дошкольного воспитания народные песни, игры, сказки. В качестве пособия для воспитания по такой программе издала книгу «Одноголосные детские песни и подвижные игры. С народными русскими мелодиями» (СПб., 1871). В 1871-1872 гг. вышла книга её рассказов для детей «Из русской жизни и природы», тоже выдержавшая несколько изданий. Также в 1870-е г. Е.Н. Водовозова публиковалась в педагогических изданиях «Детское чтение», «Народная школа», «Голос учителя». Свою жизнь и воспоминания об К.Д. Ушинском, В.И. Водовозове, В.И. Семевском и др. Елизавета Николаевна описала в мемуарах. Её автобиографическая повесть «На заре жизни» (СПб., 1911) неоднократно переиздавалась. Для детей повесть переработана, сокращена и выпущена под названием «История одного детства». Она тоже неоднократно издавалась и в советский, и в постсоветский период. Педагогические труды Е.Н. Водовозовой также востребованы и выпускаются рая в наше время. Главной своей научной работой, служащей для популяризации этнографических знаний среди молодёжи, она считала трёхтомник «Жизнь европейских народов» (СПб., 1875-1883), которые тоже неоднократно переиздавался. Переработав и сократив данную работу, она сама выпустила для популяризации знаний 10 книжек по недорогой цене под общим названием «Как люди на белом свете живут» (СПб., 1894-1901. Т. 1-10). Иллюстрации в книгах было выполнены В.М. Васнецовым и другими известными художниками. В третьем томе «Жизнь европейских народов», посвящённом жителям средней Европы, она рассказала об истории русинов Галицкой Руси, их национальном возрождении, современном положении, народном и литературном языке, религии, традиционной материальной и духовной культуре. В девятой книге «Как люди на белом свете живут» тоже даётся описание галицких русинов, их истории, религии, образования, организаций, народной культуры. Автор пыталась разобраться в причинах тяжёлого материального положения крестьян-русинов.
The Rusin theme in the works by Elizaveta Vodovozova.pdf Елизавета Николаевна Водовозова (урождённая Цевловская (по первому мужу - Водовозова, по второму мужу - Семевская)) родилась 5 (17) августа 1844 г. в г. Поречье Смоленской губернии (с 1918 г. - г. Демидов) в обедневшей дворянской семье. Её мать Александра Степановна, урождённая Гонецкая, в 1828 г., закончив в 16 лет курс в петербургском Екатерининском институте, возвращаясь с отцом домой, встретила 37-летнего Николая Григорьевича Цевловс-кого, чьё имение в Погорелом находилось недалеко от их поместья. В этом же году она вышла за него замуж [13: 1, 12, 25]. Её отец, 1790 г.р., в 14 лет, после смерти матери поступил юнкером в Санкт-Петербургский уланский полк, через несколько лет стал офицером и прослужил 24 года. Он любил читать и тратил много денег «на покупку лучших произведений польской, французской и русской литератур». Как вспоминала Е.Н. Водовозова, «его рас- 'Cl III 2022. № 69 100 суждения и заметки, которые мне удалось прочесть на русском и французском языках (большая их часть была набросана на польском языке, которого я не знала), вполне убедили меня в том, что он не только усвоил лучшие идеи французских энциклопедистов XVIII и писателей XIX вв., вроде Мицкевича (который, судя по восторженным отзывам отца, оказывался его любимым поэтом), но что он был страстным поклонником гуманных идей, и по своему образованию стоял целою головою выше того общества, среди которого вращался» [13: 27]. Её отцу довелось участвовать во многих сражениях. В 15-летнем возрасте он принял участие в битве под Аустерлицем, с 1809 по 1811 г. участвовал в Русско-турецкой войне, в 1812 г. его полк преследовал отступающие французские войска, участвовал в битве при Лейпциге, в 1814 г. вступил в Париж, после возвращения Наполеона в 1815 г. полк снова с русской армией возвратился в Париж. По пути он побывал в Варшаве, в которой в то время были объявлены основы польской конституции и затем подписана Конституция Царства Польского. После выхода в отставку он около двух лет жил в Варшаве. Походы 1813-1815 гг., знакомство с Францией, жизнь в Варшаве, где он, зная польский и французский языки, «был принят в средние кружки польского общества», оказали большое влияние на его мировоззрение [13: 28]. Сильное влияние на него оказал варшавский театр, который тогда «был лучше обставлен и поставлен, чем русский столичный театр», и являлся «в то время для поляков не только любимым развлечением, но и искусством, имеющим громадное образовательное значение, одним из наиполезнейших средств для их служения страстно любимой отчизне». Впоследствии, уже будучи женатым и имея большую семью, отец Е.Н. Водовозовой, несмотря на «скромные материальные средства, устроил собственный театр» из 11 крепостных. Он считал, что театр - «первейшее средство для воспитания в молодёжи благородных чувств» [13: 29]. Николай Цевловский тратил много «сил душевных и материальных» на театральные поставки, куда съезжалось много гостей, большинство из которых вместе со своей прислугой оставались гостить несколько дней. Впоследствии, отметила Е.Н. Водовозова, его беспечность и желание жить на широкую ногу стали «причиною полного разорения моей семьи» [13: 28-30]. После брака её родители несколько лет прожили в собственном имении. В 1847 г., чтобы поправить свое материальное положение, отец стал уездным судьёй, и они переселились в «жалкий уездный городишко» Поречье, в котором, как он думал, семье будет лучше в культурном отношении. В Поречье отец купил большой деревянный История 101 дом с хорошим садом и пристройками, приезжая в деревню только летом [13: 33-34]. Мать писательницы прожила с отцом 20 лет (1828-1848 гг.) и «имела, по её собственному счёту, 16 детей», не считая 3 выкидышей и мёртворожденных. Перед вспышкой холеры их оставалось 12. Елизавета стала самым младшим ребёнком [13: 34]. Её отец умер от холеры в 1848 г. [13: 44]. Также холерой заболели и вскоре умерли две её старшие сестры 18 и 19 лет, затем в течение трёх недель ещё четыре ребёнка. Позже умерла её 7-летняя сестра Нина, которая к тому же получила сильные ожоги. Заболела и сама Елизавета [13: 46, 49]. Её мать, думая, что Елизавета умирает, произнесла: «...девятый покойник! Девятый покойник! Что же... Пусть умирает! И оставшихся нечем кормить!» Обида на мать оставалась у неё все детство. Позже она поняла, что её мать, испытывая нужду, отдавала последние деньги на лечение и во время её болезни к ней постоянно приходил доктор [13: 50-51]. Семья, лишившись кормильца и имея долги, переехала в оставшееся в их собственности Погорелое (усадьба с 700 десятинами земли и приблизительно 70-80 крестьянами). Чтобы покрыть часть долгов, отец ранее продал часть земли, леса и несколько десятков крестьян [13: 45, 60]. В семье осталось пятеро детей: Андрей (14 лет), Ана (13 лет), Александра (12 лет), Захар (9 лет) и самая младшая - Елизавета [13: 56]. В деревне она прожила с 1848 по 1855 г. Как отмечала Елизавета в своих воспоминаниях, «семья наша резко выделялась среди помещичьих семейств нашей местности, как своим большим умственным и нравственным развитием, так и гуманным отношением к крепостным и окружающим, к близким и дальним». Жизнь в деревне отличалась от жизни на широкую ногу в городе: «В период нашего полного обнищания никто из детей никогда не подумал попросить у матушки купить чего-либо сладкого. Матушка так экономничала при покупке даже самого необходимого, что подобная просьба с нашей стороны могла бы возбудить в ней лишь бурное негодование, но “сладкие воспоминания” о прошлом не давали нам покоя. Вечером “сумерничали”, т. е. не зажигали огня, пока не наступала полная темнота» [13: 65]. Позже своё детство Е.Н. Водовозова назвала «злосчастным» [31: 455]. Благодаря ходатайству дяди, генерала И.С. Гонецкого, она была зачислена за казенный счёт в Смольный институт1 [13: 266; 32: 71]. В 1859 г. инспектором классов в Смольном институте был назначен К.Д. Ушинский, «вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи». Среди новых учителей, привлечённых 102 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 им, был и преподаватель литературы В.И. Водовозов (1825-1886). Новые учителя «оказались на высоте своего положения», «вместо отрывочных знаний, сухо изложенных отвлеченным или высокопарным слогом, получился живой систематический курс». Ушинский рекомендовал конспектировать лекции. Как вспоминала Е.Н. Водовозова, «составляя лекцию того или другого учителя, слушательницы должны были пополнять ее прочитанным из указанных им книг» [13: 356, 398]. В 1862 г. будущая писательница окончила Смольный институт и через несколько месяцев стала женой В.И. Водовозова [31: 455]. Обвенчалась она с ним примерно в апреле 1862 г., а невестой его стала, ещё будучи воспитанницей Смольного института [1: 6]. В начале лета 1862 г., после поездки Елизаветы в имение матери, супруги совершили путешествие по Европе, побывав в Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии и Франции. Они изучали методику работы в детских садах, предложенную теоретиком дошкольного воспитания Ф. Фрёбелем. Елизавета была увлечена идеями немецкого педагога и вопросами дошкольного воспитания детей [1: 6; 28]. Дом В.И. Водовозова, в котором проводились литературные «вторники» (журфиксы (определённый день недели, предназначенный для регулярного приёма гостей), по воспоминаниям - «фиксы»), стал «центром, вокруг которого в течение многих десятилетий объединялась петербургская интеллигенция, главным образом народнического направления» [29: 149]. Сам Водовозов примыкал к легальным марксистам [1: 8]. Среди частых посетителей дома были и люди, связанные с революционной деятельностью. Традиции эти продолжились и после смерти её первого мужа, и второго мужа. Как вспоминал историк, социолог Н.И. Кареев, когда Елизавета Николаевна второй раз овдовела, к ней часто по воскресеньям приходил обедать известный революционер-подпольщик Г.А. Лопатин. Он же упомянул, что в эпоху реакций и идейного разброда 80-х гг. «водовозовские журфиксы были популярны в передовых кругах интеллигенции. Общий тон этих вечеров был оппозиционный, и на них хорошо отдыхалось от впечатлений от царившей тогда реакции». Её сыновья Василий (1864-1933) и Николай (1870-1896) стали оппозиционными публицистами, близкими к революционному движению, и «подвергались преследованиям за неблагонадёжность» [27: 180-181]. Старший сын Михаил умер в 1879 г. в шестнадцатилетнем возрасте от туберкулеза [1: 8]. В 19 лет Елизавета под влиянием романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» написала свою первую статью «Что мешает женщине быть самостоятельной? (По поводу романа г. Чернышевского “Что История 103 делать?”)» под псевдонимом Е. Ц-ская (Библиотека для чтения. 1863. № 9). Материал посвящён самостоятельности женщины и начинается словами из романа: «Конечно, не одна женщина, читавшая роман г. Чернышевского “Что делать?” остановилась на словах: “только тот мужчина любит женщину, который помогает ей быть самостоятельной”» [25: 1]. Автор считала, что, желая быть независимой, женщина «у нас волею и неволею должна принять одну из двух обязанностей: наставницы или матери». Автор критически подошла к системе образования: «...наше женское образование специально имеет в виду эти две цели и не достигает ни одной из них», «школа часто совсем отчуждает от всего, с чем женщина неизбежно встречается в жизни». «Обязанность наставницы самая трудная», считала Е.Н. Водовозова, и «обыкновенно девушка приступает к ней без всякой опытности». К сожалению, школы и общество не открывают ей других путей к деятельности, «чтобы первою её заботой не было обеспечить себя замужеством» [25: 19]. В 60-х гг. XIX в. Е.Н. Водовозова публиковала статьи по вопросам педагогики в журналах «Учитель», «Книжный вестник», в газетах «Голос» (где были опубликованы и ее очерки о Смольном институте), «Санкт-Петербургские ведомости» и др. Результатом изучения системы Ф. Фрёбеля стала её книга «Умственное развитие детей от первого появления сознания до восьмилетнего возраста» (1871). В последующих переизданиях книга стала называться «Умственное и нравственное развитие детей от первого проявления сознания до школьного возраста». В первом издании она описала достоинства и недостатки фрёбелевской системы, этапы воспитания ребёнка, предложила сделать основой дошкольного воспитания народные песни, игры, сказки. В последующих переизданиях она добавила историю воспитания с XVI по XIX в. [3; 4]. В качестве практического пособия она издала книгу «Одноголосые детские песни и подвижные игры с русскими народными мелодиями» (1876) [5]. «Умственное развитие детей от первого проявления сознания до восьмилетнего возраста» стал одним из самых популярных и значительных руководств по дошкольной педагогике. С 1871 по 1913 г. книга выдержала семь изданий. Е.Н. Водовозова постоянно её перерабатывала и дополняла, используя новые педагогические идеи и наработки [33: 26]. В 1915 г. вышло 7-е издание «Одноголосые детские песни и подвижные игры с русскими народными мелодиями». Также она выпустила ряд книг для детей: рассказы для детей, собранные в двух книгах «Из русской жизни и природы» (1871-1872. Ч. 1, 2; в 1905 г. вышло 8-е издание), «Батрачка. Рассказ из народного быта» (1871; псевд. И. Бельский), «На отдых» (1880). В них она объяс- 104 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 няла юным читателям необходимость постоянно трудиться, прививала детям любовь к растительному и животному миру [28; 31: 455]. Для популяризации этнографических знаний среди населения она издала трёхтомную работу «Жизнь европейских народов. Географические рассказы» (Т. 1: Жители Юга (1875); Т. 2: Жители Севера (1878); Т. 3: Жители Средней Европы (1883)) [6; 8; 29: 148-149]. В ней рассказывалось об истории, государственном устройстве, жизни, жилищах, обрядах, обычаях, занятиях, религии, «увеселениях», образовании, экономическом и политическом положении европейских народов. Издания были богато иллюстрированы рисунками В.М. Васнецова, И.С. Панова, К.И. Голембиовского, К.О. Брожа и других художников и «гравюрами из дерева». На основе данного труда Е.Н. Водовозова написала и сама выпустила 10 книжек по дешёвой цене для простого народа «Как люди на белом свете живут» (СПб., 1894-1901. Т. 1-10). Её издания выходили довольно большими тиражами, что говорит о их популярности. Они постоянно исправлялись дорабатывались. К примеру, 5-е издание, исправленное и дополненное, «Жизни европейских народов. Жители Юга» (т. 1) вышло в 1897 г. тиражом 5 000 экз. по цене 3,75 руб. [7]. В 1905 г. вышло 3-е издание исправленное издание «Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины. С 10 карт. худож. В.М. Васнецова и др.» [11], а в 1914 г. - 4-е переработанное издание [12]. Когда Е.Н. Водовозова подготовила книгу «Жизнь европейских народов», то захотела её сама издать. В то время она сильно нуждалась в средствах. Её муж В.И. Водовозов «за крамольный образ мыслей тогда уже оставался не у дел и был лишён всякой возможности работать на педагогическом поприще». Водовозова обратилась за бумагой к известному фабриканту Варгунину, тот открыл кредит. Книга вышла и имела успех. В дальнейшем она сама стала издавать свои труды «кустарным способом, имея у себя на дому книжный склад». Если бы она распространяла свои книги не по старинке, то стала бы вполне обеспеченным человеком [29: 148-149]. Е.Н. Водовозова, по словам современников, обладала феноменальной работоспособностью: «...часто переиздавая свои книги, она постоянно их пополняла, исправляла, переделывала в отдельных частях, или перерабатывала наново. Работала Е.Н. неотрывно во всякое время дня и вечера. Работала бы и ночью, да В.И. бурно восставал против её ночных занятий». Если она была здорова, её «неизменно заставали за письменным столом за работой» [29: 154-155]. После смерти В.И. Водовозова в 1886 г., по воспоминаниям писательницы В.Н. Цеховской (урожденной Меньшиковой, литератур- История 105 ный псевдоним - Ольнем), «жизнь Е.Н. покатилась с горы, пошла на убыль. Собственно жизнь была завершена, началось доживание» [29: 159]. В 1888 г. она вышла замуж за ученика и друга своего первого мужа, русского историка либерально-народнического направления В.И. Семевского (1848-1916) [31: 455]. 6 апреля 1899 г. Елизавета Николаевна стала действительным членом «Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете [35: 15]. Она написала много работ мемуарного характера: «К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. Из воспоминаний институтки» (Русское слово, 1887; под псевдонимом Н. Титова), «Дореформенный институт и преобразования К.Д. Ушинского» (Русское богатство, 1908), «Среди петербургской молодёжи шестидесятых годов » (Современник, 1911), «В.А. Слепцов» (Голос минувшего, 1915), «В.И. Семевский» (Голос минувшего, 1917) и т. д. [1: 10; 28]. После смерти В.И. Семевского (1916 г.) она посвятила себя делу издания его научных трудов. Под влиянием В.И. Семевского она стала писать воспоминания «На заре жизни», охватывающие её жизнь до окончания института, посвятив их «мужу - товарищу и другу». В 1911 г. вышли ее мемуары [30: 179]. Критики отметили их историческую ценность и достоверность [1: 11]. В них описывались детство Елизаветы в деревне, помещичьи нравы, её отношение к крепостничеству, отрочество, юность в закрытом учебном заведении - Смольном институте благородных девиц и молодые годы, проведенные в среде демократической разночинной молодёжи Санкт-Петербурга начала 60-х гг. XIX в. [13]. Её повествование о себе и окружающей действительности заканчивается 60-ми годами, которые определили весь её дальнейший путь и деятельность. По словам В.Н. Ольнем-Цеховской, «у неё была острая наблюдательность умного человека, не женское умение обобщать, большой интерес к людям. В её метких характеристиках умерших и живых, в её картинках прошлого и настоящего, в каждой приводимой ею, в качестве иллюстрации, сценке - сказывался присущий ей художественно-изобразительный талант, появившийся потом с такой яркостью в её воспоминаниях “На заре жизни”» [29: 150]. Продолжением их являются очерки «Среди петербургской молодежи 60-х гг. Из личных переживаний» (Современник. 1911. № 3, 4, 6) и очерки «Из давно прошедшего» (Голос Минувшего. 1915. № 10) и «К свету» (Голос минувшего. 1916. № 4, 5-6, 7-8). Они вошли затем в книгу «Грезы и действительность» (1918). 18801890-м гг. посвящены очерки «Из недавнего прошлого» (Голос Минувшего. 1915. № 1, 2), в которых Елизавета Николаевна рассказывала о 106 g J Ml 'Cl III 2022. № 69 той поре тяжелой реакции, которую переживало русское общество при Александре III [30: 179]. Незадолго до смерти она опубликовала в январском выпуске журнала «Голос минувшего» за 1923 г. последнюю главу своих воспоминаний «Житейские невзгоды» [19]. В следующем номере появился некролог [30]. В последние годы, прожитые ею уже при советской власти, Елизавета Николаевна переживала, что «не может наблюдать в широком объеме современную жизнь, о которой необходимо “всё-всё” записать» [29: 160]. Она страдала от крайней нужды, одиночества, болезней, в отчаянии доходила до мысли о самоубийстве, о чём писала в дневниковых записях, опубликованных в 1928 г. в № 6 «Голос минувшего на чужой стороне» [31: 456]. Осенью 1922 г. Е.Н. Водовозова, как было и раньше, заболела бронхитом. Бронхит затянулся, она ослабела, перестала вставать. Больной становилось то лучше, то хуже. В 20-х числах марта 1923 г. у неё начался оттёк лёгких. 23 марта её не стало [29: 161]. Работы Е.Н. Водовозовой продолжали издаваться и после революции, что говорит об их актуальности. В советские времена выходило три издания её мемуаров «На заре жизни»: в 1934 г. (в них вошли книга «На заре жизни» и отдельные мемуарные очерки, печатавшиеся преимущественно в журнале «Голос минувшего»), в 1964 г. (в него дополнительно включили очерк «Из давно прошедшего» и мемуарную повесть «К свету»), издание 1987 г. сохранило предыдущий состав [14: 490]. Последнее издание вышло тиражом 100 тыс. экз. В 2018 г. её «На заре жизни» были вновь переизданы [15]. Воспоминания писательницы о Смольном институте были популярны и неоднократно переиздавались, как и мемуары «смолянки» Г.И. Ржевской (1758-1826), выпускниц Петербургского Екатерининского института А.О. Россет, по мужу Смирновой (1809-1882), и Московского Елизаветинского института А.Н. Энгельгардт, урожденной Макаровой (1838-1903) [26: 8]. Часть II её мемуаров о пребывании в Смольном институте включалась в различные сборники или выходила отдельно (см., например, [16-18]). Для детей мемуары были переработаны, сокращены и выпущены под названием «История одного детства». Они также неоднократно издавалась как в советский период, начиная с 1941 г. (далее - в 1946, 1954 и 1963 гг.), так и в наше время (2010, 2017 гг.). Продолжают переиздавать и её педагогические труды [21]. В 2012 г. вышло 8-е издание её работы «Умственное и нравственное История 107 воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста» [4]. Как отмечают современные исследователи, «произведения Е.Н. Водовозовой отличались новизной подхода к раскрытию материала; она не ограничивалась только лишь передачей материала, но также давала методическое обоснование своего материала». Все учебные пособия пользовались широкой известностью у учителей, выходили большими тиражами, неоднократно переиздавались и сохраняют ценность в настоящее время. Е.Н. Водовозова стала одним из основоположников российского дошкольного и начального образования [32: 76]. Педагогические идеи Водовозовой о доверительных отношениях взрослых и детей актуальны и для современного воспитания детей и обеспечивают гармоничное развитие ребёнка [34: 53]. Педагогические и литературные работы Е.Н. Водовозовой освещены в многочисленных энциклопедических очерках и отдельных статьях (см., например, [1; 22-24; 28; 31-33]. О детстве, отрочестве, юности она написала в своих мемуарах, затронула и последние годы жизни [2; 13; 19; 20; 30: 179]. Фрагментарно о её дальнейшей жизни упомянуто в отдельных мемуарных очерках. О последнем периоде жизни писательницы есть краткие упоминания в некрологе в «Голосе минувшего» и опубликованных в нём же небольших материалах Н.И. Кареева и В.Н. Ольнем-Цеховской [27; 29; 30]. Одним из основных трудов Е.Н. Водовозовой считается трёхтомник «Жизнь европейских народов» и написанные на его основе 10 книжек для простого народа «Как люди на белом свете живут». В первом томе «Жизнь европейских народов» Е.Н. Водовозова назвала целью своего труда «познакомить читающую публику с жизнью европейских народов», недостаток «такого рода книг чувствителен не только у нас, но и в западной литературе» [6: III]. Главной своей задачей она считала «дать по возможности полную и всестороннюю картину жизни европейских народов, а не одних только привилегированных сословий или образованных классов, т. е. познакомить с понятиями народа, выражающимися в наиболее распространённых его обычаях, в самом складе его общественной и семейной жизни, со степенью развития в массах и с их экономическим положением» [6: V]. Работая над трёхтомником, автор пользовалась «книгами, находящимися в Публичной библиотеке, библиотеках Академии наук и университета, а также и некоторыми частными библиотеками», стараясь не вносить в прилагаемый в конце каждого тома список использованной литературы книги и статьи, которые показались ей малосодержательными или устаревшими» [6: V-VI]. Исследователь считала, что содержание третьего тома вызовет особое внимание у русского читателя: «...в нём он найдёт описание 108 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 жизни наших ближайших соседей - немцев, мадьяр и живущих в Германии и Австро-Венгрии славян» [8: IV]. Говоря о русинах, она написала, что «жизнь и нравы последних для нас тем более интересны, что те же малороссы (автор не учитывала этнокультурную специфику русинов. - С.С.), которые населяют Галицию и живут под австрийским господством, занимают огромную территорию в Южной России» [8: VI]. В предисловии к третьему изданию третьего тома Е.Н. Водовозова подчеркнула, что в нём «особенно сильно переработаны следующие отделы: Берлин, Эссен, Лейпциг, Сельское население Германии, Вена, Чехи, Галиция. Русины, а из очерков по Венгрии некоторые значительно дополнены, большинство же написано заново». Также в настоящем издании к прежним 26 рисункам добавлено 6 новых [9: III]. Как указала автор, «каждое новое издание моей книги подвергается полной переработке на основании многочисленных трудов, появляющихся в печати, как на русском, так и на иностранных языках, после выхода в свет предыдущего издания» [9: III]. При написании глав о русинах Е.Н. Водовозова использовала работы Г.И. Бидермана (двухтомник «Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte» (1862-1867), А.Д. Петерсона («Венгрия и её жители» (1873), Я.Ф. Головацкого («Карпатская Русь (историко-этнографический очерк)» (1875), «Карпатская Русь» (1875, 1877), «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (Ч. 1-3, 1878), «О народной одежде и убранстве русин или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии» (1877)), Г.И. Де-Воллана («Мадьяры и национальная борьба в Венгрии» (1877), «Угорская Русь. Исторический очерк» (1878)), Л. Василевского («Современная Галиция» (1900)) и другие труды (см.: [9: 563-565]). Переходя к описанию Галиции, Е.Н. Водовозова напоминает, что «Галиция, или Галичина, - часть древней Малой Польши и Червонной Руси; из всех славянских земель страна эта самая ближайшая наша соседка. Ни одна область Австрийской империи не представляет такого сплошного славянского населения, как Галичина, в которой славяне составляют не менее 87 % всего населения; остальные 18 % - евреи, немцы, армяне и цыгане. Славянское население Галичины состоит из поляков и русин которые не что иное, как малороссы» [9: 349]. Поляков в Галиции насчитывалось не менее 3,5 млн чел, русинов - около 3 млн. Исследователь ещё раз подчеркнула, что «галицкие русины не что иное, как малороссы; таким образом хотя Галичина и принадлежит Австрии, но в ней, наряду с другими национальностями, живут и такие же, как мы, русские люди» [9: 352]. Галицких русинов, отметила автор, называют «русинами, а также русняками, рутенами и даже просто русскими». Русины проживают в восточной части История 109 Галичины, они - униаты. Католики поляки живут в западной части края [9: 352-353]. Обратила внимание исследователь на то, что «всё галицкое простонародье» (и поляки, и русины) «страшно бедствует, вечно борется с нуждою и тяжкими лишениями». Причинами она считала, во-первых густоту населения (на каждый квадратный километр (около версты) приходится 84 человека». Правда, как указывает сама автор, в Бельгии и Англии плотность населения ещё больше (197 и 114 чел. соответственно). Однако в этих странах более развита промышленность и значительная часть населения занята в ней. В Галиции же из 100 чел. - 75 «живут земледелием». Другой причиной была в том, что «земля в Галиции распределена крайне неравномерно: крупные поместья составляют немногим менее половины всей земли». Крестьяне же владеют небольшими клочками земли: более 200 тыс. крестьянских хозяйств имеют не более полудесятины (десятина - 1,09 га) земли, а 130 тыс. - от 1 У до 1 1А «На таких ничтожных наделах нельзя завести хозяйство, которое прокормило бы крестьянина даже с небольшой семьёй». Кроме того, насчитывается более 1,5 млн безземельных крестьян. Из-за слабого развития промышленности большинство из них не могут найти работу и остаются в деревне, испытывая страшную нужду, вынужденные занимать деньги у ростовщиков [9: 353]. Зачастую крошечный участок крестьянина разбит «на бесчисленное множество отдельных чрезполосных кусков», в результате чего «крестьянину трудно на них повернуться со своим плугом» [9: 355]. К этому нужно добавить и «неудовлетворительный способ освобождения крестьян»: при уничтожении крепостной зависимости помещики удержали в Галиции «исключительное право на леса и пастбища с обязательством вознаградить за это крестьян». Вопросами, возникающими между крестьянами и помещиками, занимаются особые комиссии, и её члены защищают интересы польских помещиков. Также крестьяне обложены многочисленными повинностями и налогами: «...кроме поземельной и других податей, кроме всяких земских повинностей, крестьяне должны давать на постройку и содержание церквей и сельских школ. Все эти сборы и налоги так велики, что власти очень часто собирают их не иначе, как продавая последнее достояние крестьянина», нередко при сборе податей чиновники задействуют солдат, опасаясь волнений среди них [9: 354]. Большинство помещиков «сохранили очень многие свои права и преимущества, а крестьяне были поставлены в неизбежную экономическую зависимость от них, остались без леса и пастбищ, а так как в стране промышленность развивается слабо, то и без возможности для очень многих найти себе заработок на родине». Помимо права 110 g J Ml 'Cl III 2022. № 69 на леса и пастбища, помещики сохранили и другие права «тесно связанные с владением землёй»: право помола хлеба, право рыболовства в реках, орошающих крестьянские участки, право продажи вина и т. д. Много проблем возникло и из-за того, что «надел земли был не личный, а посемейный: известный участок отдавали не лицу, а семейству». Вследствие этого большое количество людей, не имевших в то время семей, «остались навсегда батраками, людьми без земли и крова» [9: 355]. «Жалкие условия жизни выработали из здешнего крестьянина слабосильного работника». «Да и откуда галицийскому рабочему взять на родине силы и крепости мускулов, необходимых для работы, при его жалкой растительной пище?» Народ в Галиции, как и в Ирландии, потребляет много картофеля. Болезнь и неурожай его приводит к таким же последствиям, как и в Ирландии. При такой бедности «кофе и чай совсем мало распространены среди народа». Однако водку здесь пьют больше, чем в других регионах Австрии. Как заметила Е.Н. Водовозова, «излишнее употребление алкоголя является в этой стране исключительно следствием дурного питания»: замечено, как только здешний простолюдин начинает лучше питаться (в основном в урожайные годы), «количество потребляемого алкоголя в Галиции немедленно уменьшается» [9: 355]. Плохое питание привело к увеличению смертности, уменьшению средней продолжительности жизни «на количестве неспособных к военной службе, а также на измельчании, истощении, физическом и умственном вырождении галицийского народа. Огромную цифру смертности в Галиции можно объяснить хроническим господством в стране всевозможных болезней и эпидемий». В свою очередь, «восприимчивость галицкого населения ко всевозможным болезням является результатом физического истощения, происшедшего от недостатка питания в целом ряде поколений» [9: 356]. В поисках лучшей доли галичане уезжают в Америку. Ежегодно туда отправлялось от 20 до 30 тыс. галичан, в основном поляки, однако в последнее время усилилась эмиграция и русинов. Кроме того, галичане уезжали на заработки в другие провинции Австрии, в Пруссию, Царство Польское, на Балканы [9: 356-357]. Е.Н. Водовозова считала, что одной из причин бедности населения «этой когда-то богатейшей польской провинции, и её застой до самого последнего времени во всех сферах жизни, во всех областях труда» был «результат задержки в сношениях». Развитие торговли идёт в каждой стране «по направлению течения рек, ближайшей дорогой к морю». Но эти естественные пути были закрыты после раздела Польши, присоединения Галиции к Австрии, и «торговля в Галиции История 111 более полувека не могла свободно развиваться; вместе с этим были искусственно задержаны и сношения» Галиции с Европой. Только в 1847 г. стали строиться здесь железные дороги, что «немедленно послужило к оживлению отношений и торговли» [9: 357]. «Промышленность Галиции развивается медленно и питает лишь около 9 % всего населения». В основном это горнозаводская промышленность: соляная промышленность, которая «издавна составляет главное богатство Галиции», нефтяная и добыча каменного угля (чёрного и бурого) [9: 357]. Фабричных рабочих в Галиции около 280 тыс. чел., включая русинов и поляков. Если к ним прибавить членов их семей, техников, служащих при фабриках и заводах, то выйдет до 400 тыс. чел. «Спасаясь от голода, крестьяне идут на фабрики и заводы», соглашаясь «на всякую плату, лишь бы получить какой-нибудь заработок» [9: 358]. Говоря об истории части Галиции, населённой русинами (Галицкой Руси), Е.Н. Водовозова пишет, что в давние времена она «была тесно связана с остальной Русью и составляла часть русских княжеств. Галицкую Русь населял такой же русский народ, как и все русские люди, он исповедовал нашу православную веру и управлял им тот же княжеский род». В первой половине XIV в. галицко-русское княжество вошло в состав Польши, «поляки превратили его в польскую провинцию, при этом оно названо было воеводством Русским или Червонною Русью». В начале польские короли обещали соблюдать права русинов и «не стеснять их православного вероисповедания». Обещание это не было выполнено: «высшие должности в государстве и доходные места» получали поляки или местные бояре, перешедшие в католичество. Католическое духовенство было освобождено от налогов, православное духовенство платило «множество повинностей». Польские помещики «старались всеми силами теснить русинских духовных лиц» [9: 362]. Со временем положение ещё более ухудшилось: «...польские короли поручили управление Червонною Русью знатным людям из польских фамилий, которые начали распоряжаться в ней с необыкновенною жестокостью». Они увеличивали русинам налог, «вмешивались даже в их семейные дела, решали супружеские споры между ними, расторгали браки». Высшие классы, «когда поляки начали их теснить и угнетать... один за другим, переходили в католичество» и начинали «строить на русской земле костёлы». Наиболее стойкие «из высших русинских классов были насильственно лишены своих имений и всякого достояния» [9: 362-363]. «Чтобы окончательно подавить русинов и вытравить из них русский дух, польское правительство, а также и католическое духовенство 112 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 (оно всегда старалось помогать правительству, когда дело шло о том, чтобы притеснять ненавистных им русинов) употребляли все средства, чтобы вводить в русской земле польские обычаи, польский язык, чуждую народу католическую религию и польские законы», -отметила автор [9: 363]. Города «начали населять немцами и евреями». «У русинских мещан были отняты все их права и преимущества, они лишены были даже своего городского самоуправления, и их отдали на произвол старост и каштелянов из поляков; зажиточные русинские купцы и ремесленники не могли более конкурировать с евреями, поселенными в русинских городах и в руках которых очень скоро очутилась вся торговля Галичины» [9: 363]. У простого народа «оставалось только духовенство, столь же угнетаемое и несчастное, как и русинский народ, но более его грамотное и умственное развитое. И русины шли к своим священниками только у них находили сочувствие и поддержку». Из-за «презрения поляков к хлопу», т. е. русинам, у которых остались теперь только «поп да хлоп», усиливалась вражда с поляками. Народ и его священники продолжали придерживаться «своих русских обычаев, только они говорили на своём родном языке» [9: 363]. Процесс вовлечения духовенства и мирян Львовской епархии в унию был долог. Лишь в 1700 г. львовский епископ «принял унию и подчинил свою паству римскому папе» [9: 364]. Вскоре могущество Польши стало клониться к упадку и её территория была разделена соседями. Галицкая Русь была в 1772 г. присоединена к Австрии и «русины, испытав на себе 400-летнее иго поляков, вдруг очутились и до сих пор находятся под властью австрийских немцев» [9: 364]. Положение русинов вначале улучшилось: во время правления Иосифа II были ограничены права польских помещиков, приняты меры для развития промышленности, правительство ввело «правильную администрацию и суд», открылись народные школы, духовная семинария, университет во Львове [9: 364]. После смерти Иосифа II ситуация ухудшилась: усилилось онемечивание, поляки приобрели в Галиции господствующее положение, прекратилось преподавание на русском языке, отменены лекции на церковно-славянском языке в Львовском университете, в духовной семинарии вместо русского языка ввели латинский и польский, униатское духовенство ещё больше стало зависеть от Рима и польского дворянства. В конце XVIII в. Галицкая Русь, входя в состав Габсбургской империи, больше напоминала польскую провинцию, «в которой русинский элемент обнаруживал весьма слабые признаки жизни». История 113 Польский элемент преобладал во всех сферах жизни. Русинами оставались «крестьяне, беднейшая часть мещан, да еле грамотное сельское духовенство». Духовенство было необразованно, бедно, не имело никакого влияния, «было угнетаемо и подавляемо и высшими духовными лицами, и властями, и польскими панами, преследовавшими его за сочувствие к своему несчастному народу» [9: 364-365]. Пробуждение русинов началось в 20-х гг. XIX в. Первые деятели русинского возрождения создали тайное общество среди студентов университета и семинаристов. «Они прежде всего стали побуждать своих товарищей русин говорить на своём родном языке», в то время как все мало-мальски образованные люди говорили по-польски, к тому же на русинском не было литературы. Вскоре первые русинские деятели стали не только разговаривать между собой по-русински (у автора - на малорусском. - С.С.), но и «произносить проповеди на этом языке». Они пытались издавать на своём родном языке, «но это навлекло на них такие тяжёлые преследования и гонения, что весь кружок этих патриотов волей-неволей рассеялся и его деятельность прекратилась» [9: 365]. Когда польские правящие классы попадали в немилость австрийских властей, «на них тоже сыпались всевозможный кары» и преследования. Периодически австрийское правительство делало попытки онемечивания населения, «оно насылало в Галицию целые толпы немецких чиновников», чтобы онемечить все русинское и все польское население. Простой же польский народ был почти также угнетаем, как и русины, особенно в экономическом плане. Время от времени польская шляхта устраивала заговоры и восстания. В 1846 г. была попытка восстания, но, несмотря на призывы, народ его не поддержал. Русины и польские крестьяне, «верные сыны католической веры, ответили на этот призыв избиением панов» [9: 365]. «Правительство поощряло и снабжало русинов средствами к нападению на восставших польских панов». Действуя при поддержке австрийских войск, подстрекаемые правительством, вооружённые отряды крестьян проявляли жестокость по отношению к шляхте: истребили до 15 тыс. польских семейств и множество городских жителей, совершали грабежи, насилия. Действуя таким образом весной и летом, крестьяне оставили невозделанными свои поля и с наступлением зимы начался голод. В 1847 г. «по всем дорогам бродили несметные толпы изувеченных, истощённых, оборванных нищих, напоминающих скорее скелеты, чем живых людей. Они протягивали прохожим руку за подаянием и часто, не дождавшись его, падали тут же в предсмертной агон
Устав и список членов Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. М.: Типолитография тов. Кушнерев и К°, 1905. 18 с.
Рыбаков. В. Из педагогического наследия Е.Н. Водовозовой: научить детей любить // Семья и школа. 1971. № 10. С. 26-28.
Подольская И.И. Водовозова Елизавета Николаевна // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1: А-Г / гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая рос. энцикл., 1989. С. 455-456.
Симонова Т.Р Идеи Е.Н. Водовозовой в современном воспитательном процессе // Начальная школа плюс до и после. 2010. № 6. С. 52-54.
Помелов В.Б. Первая женщина-методист начального образования // Начальная школа. 2016. № 6. С. 71-76.
Памяти ушедших. Елизавета Николаевна Водовозова-Семевская (1844-1823 гг.). Редакция // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 177-183.
Мыркина Т. Водовозова Елизавета Николаевна // Энциклопедический словарь «Литераторы Санкт-Петербурга. XX век». URL: https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/v/vodovozova- (дата обращения: 15.07.2022).
Ольнем-Цеховская В. Е.Н. Водовозова-Семевская // Голос минувшего. 1923. № 3. С. 145-162
Е. Ц-ская. Что мешает женщине быть самостоятельной? (по поводу романа г. Чернышевского «Что делать?») // Библиотека для чтения. Журнал словесности, науки и политики. 1863. Сентябрь. С. 1-19.
Кареев Н.И. Памяти ушедших. Елизавета Николаевна Водовозова-Семевская (1844-1823 гг.) // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 180-183.
Институты благородных девиц в мемуарах воспитанниц / сост., подгот. текста и примеч. Г.Г Мартынова. М.: Ломоносовъ, 2013. 288.
Водовозова, Елизавета Николаевна // Энциклопедический словарь т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°» / под ред. проф. Ю.С. Гамбарова, проф. В.Я. Железнова, проф. М.М. Ковалевского, проф. С.А. Муромцева и проф. К.А. Тимирязева. 9-е изд., стереотип. Т. 10: Вех - воздух. М.: Изд-во Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°», 1910. С. 527-528.
Водовозова Елизавета Николаевна // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VIa: Винословие - Волан. СПб.: Типолитография И.А. Ефрона, 1892. С. 762.
Водовозова Е.Н. Грёзы и действительность. М.: Задруга, 1918. 224, [1] с.
Водовозова Е.Н. Царство свободного ребёнка. Избранные статьи, практические советы, игры и занятия. М.: Карапуз, 2010. 286, [1] с. ил.
Водовозова, Елизавета Николаевна // Голицын Н.Н. Библиографический словарь русских писательниц. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1889. С. 51-52.
Водовозова Е.Н. Дневники смолянки. Воспоминания об институте благородных девиц. М.: Родина, 2021. 286, [1] с. ил.
Водовозова Е.Н. Дневники смолянки. Воспоминания об институтских нравах. М.: Алгоритм, 2017. 286, [1] с. ил., портр.
Водовозова-Семевская Е.Н. Житейские невзгоды // Голос минувшего. 1923. № 1. С. 45-72.
Водовозова Е.Н. На заре жизни. Ч. 2 // Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц / сост., подг. текста и коммент. В.М. Боковой, Л.Г Сахаровой, вступ. ст. А.Ф. Белоусова. 4-е изд. М.: Нов. лит. обозрение, 2008. С. 215-388.
Водовозова Е.Н. На заре жизни: в 2 т/ вступ. ст., подгот. текста и коммент. Э.С. Виленской. М.: Худ. лит., 1987. Т. 1. 511 с.
Водовозова Е.Н. На заре жизни: в 2 т М.: Терра; Книжный Клуб Книговек, 2018. Т. 1. 477, [2] с.; Т. 2. 413, [2] с.
Водовозова Е.Н. На заре жизни. Жизнь в провинциальной глуши. Институт до и после реформы. Среди молодёжи 60-х годов. Воспоминания Е.Н. Водовозовой. СПб.: Тип. 1 СПб. труд. артели, 1911. XII, 608 с.
Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины. С 10 рис. картинками худож. В.М. Васнецова и др. 4-е изд., перераб. СПб.: Коммерч. скоропеч. А. Гольдберга, 1914. [4], 180 с., [8] л. ил.
Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины. С 10 карт, худож. В.М. Васнецова и др. 3-е изд., испр. СПб.: скл. изд. у автора, 1905. [4], 188 с., [8] л. ил.
Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины. С 8 картинками худож. В.М. Васнецова и др. СПб.: Тип. Балашева и К°, 1897. [4], 184 с., [6] л. ил.
Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов: В 3 т. 3-е изд., перераб. и доп. Т 3: Жители Средней Европы. С 32 рис. худож. Панова, Брожа, Бухгольца [и др.]. СПб.: скл. изд. у автора, 1903. XII, 565 с., 32 л. ил.
Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов. Географические рассказы Е. Водовозовой: в 3 т. Т. 3: Жители Средней Европы. С 24 рис. худож. Голембиовского, Панова и Брожа; Грав. на дереве г.г. Регульского, Хелмицкого, Адта и др. СПб.: скл. кн. у автора, 1883. XIV, 569 с., 24 л. ил.
Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов: в 3 т. 5-е изд., испр. и доп. Т. 1: Жители Юга. С 26 рис. худ. Васнецова. СПб.: скл. кн. у автора, 1897. XII, 652 с.
Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов: в 3 т. Т. 1: Жители Юга. Географические рассказы. С 25 рис. В.М. Васнецова. СПб.: скл. кн. у автора, 1875. XXII, 553 с., 25 л. ил.
Водовозова Е.Н. Одноголосные детские песни и подвижные игры. С народными русскими мелодиями / сост. предисл. Е. Водовозова; муз. А.И. Рубца. СПб., 1876. 14, 41 с.
Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста. 8-е изд. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. X, 365 с., XXIV с. табл.
Водовозова Е.Н. Умственное развитие детей от первого проявления сознания до восьмилетнего возраста. Книга для воспитателей Е. Водовозовой. При книге приложены: чертежи и сборник детских песней и подвижных игр с народными мелодиями. Музыка А.И. Рубца. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1871. 245 с. разд. паг., 24 л. табл.
Виленская Э.С. Елизавета Николаевна Водовозова // Водовозова Е.Н. На заре жизни. М.: Худож. лит., 1987. Т. 1. С. 5-24.
Водовозова Е.Н. Из заметок старой пансионерки. СПб.: Тип. А.А. Краевского, 1866. Из № 89 газеты «Голос». 15 с.
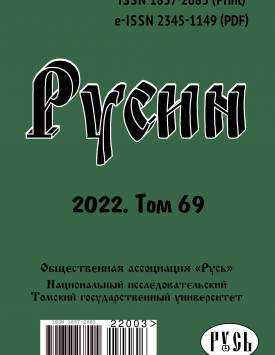

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью