Русин в эпоху социальных катаклизмов в России (пример судьбы Григория Мокрого)
Исследуется малоизученный вопрос - социальная адаптация русинов из числа военнопленных Первой мировой войны, ставших рядовыми участниками общественной жизни и военно-политических событий на территории Западной Сибири в период Великой русской революции. В качестве наглядного примера рассмотрена трагическая судьба Григория Георгиевича Мокрого (1894-1920). В своей жизни он дважды поочередно сочетал деятельность псаломщика греко-католической, а затем православной церквей с военной службой в австро-венгерской и белой армиях, а также кратковременным участием в антибольшевистском подполье. Показана связь изучаемого вопроса с общей историографией проблемы. Источниковой базой исследования послужил комплекс неопубликованных материалов, входящий в состав архивного уголовного дела, возбуждённого Омской ГубЧК в отношении героя данной статьи. Вспомогательную роль сыграли церковные актовые записи, материалы прессы, мемуары. Антропологический подход, проблемно-хронологический, историко-сравнительный и биографический методы составили методологическую основу исследования. Данная теоретическая комбинация позволила максимально подробно трактовать поведение героя публикации в условиях социальных катаклизмов, увязывая биографические факты с конкретно-исторической обстановкой и личностями деятелей, с которым он был прямо или косвенно связан. Авторы приходят к выводу о том, что консервативно-патриархальная ментальность, основанная на национально-религиозной идее русинов об их принадлежности к Русскому миру, не позволила Г.Г. Мокрому найти себя в условиях большевистской России. Публикация может представлять интерес для исследователей истории русинов, военной и социальной истории, а также национальной и религиозной политики.
A Rusin in the era of social cataclysms in Russia (a case study of Grigoriy Mokriy).pdf В условиях Первой мировой войны, Русской революции и Гражданской войны в России проблема идентичности русинов (карпаторус-сов, как их часто называли в то время) имела важное политическое значение и стояла остро в религиозном и этническом аспектах (см., например, [5; 6; 9-12; 17-22]). В этот период решался спорный вопрос о принадлежности территорий, заселённых этим народом между Австро-Венгерской и Российской империями, между белой и Советской Россией, а также Украинской народной республикой. Претендовала на большую часть этих земель и возродившаяся Польша. Политический выбор русинов зависел от этнической и религиозной идентичности населения Галичины, Буковины, Угорской Руси, Северной Бессарабии и Холмщины - регионов традиционного проживания русинов, оспариваемых вышеперечисленными государствами и государственными образованиями. Для понимания исторической судьбы русинов в ту эпоху важно обратиться к биографиям «рядовых участников событий», вольно или невольно оказавшихся вовлечёнными в политические и социальные катаклизмы, изучив механизмы их социальной адаптации к происходящему. Микроисторические исследования, находящиеся в русле антропологического подхода к пониманию прошлого, являются одним из трендов современной историографии Русской революции, как и военной истории в целом [4; 14]. В этой связи историк И.В. Скипина отмечает, что «во главу угла исследователи поставили человека, личность, его менталитет, его самоопределение и социальное поведение» [15: 136]. Такой научный опыт можно плодотворно применить и к судьбам русинов, оказавшихся в ходе Первой мировой и Гражданской войны на востоке России. Подобные исследования должны способствовать лучшему пониманию русинской идентичности в военно-революционную эпоху в целом. Колоритное подтверждение тому - трагическая судьба русина Григория Георгиевича Мокрого, рядового участника событий, сочетавшего поочередно должность псаломщика и военную службу. Финальный этап его биографии был связан с Омском. Цель работы - описав судьбу Григория Георгиевича Мокрого, определить факторы, повлиявшие на процесс адаптации этнического русина к условиям эпохи социальных катаклизмов в России. История 167 Основу исследования составил комплекс неопубликованных источников, имеющихся в составе архивного уголовного дела, возбуждённого Омской ГубЧК в отношении героя статьи [1]. Согласимся, что данные материалы не в полной мере освещают биографию Г.Г. Мокрого в публикации. Некоторые подробности жизни детализировать не представилось возможным из-за отсутствия необходимых источников. Но в целом соотнесение материалов дела с отдельными вспомогательными источниками позволило достаточно подробно реконструировать биографию Григория Мокрого, представив ее на фоне эпохи. Григорий Георгиевич Мокрый родился в 1894 г., происходил из крестьян села Ивановка Скалатского уезда (восточная часть Галиции, входила тогда в состав Австро-Венгерской империи). Окончив пять классов гимназии, до начала Первой мировой войны служил псаломщиком греко-католической церкви в одной из церквей города Гусятин. Австрийские власти летом 1914 г. мобилизовали Григория на военную службу и отправили воевать против России. Но уже 26 сентября 1914 г. он сдался в плен русским войскам и попал в Омск в числе первых партий из сотен таких же военнопленных [1: 30, 34, 47]. Подобный поступок нашего героя для русина из Галиции был тогда типичен. Как отмечает исследователь С.Г. Суляк, «на Восточном фронте русины, не желая воевать против России, массово переходили на сторону русской армии. Поэтому австро-венгерское командование вынуждено было отправить русинов на итальянский фронт» [15: 52]. Несмотря на то что Григорий Георгиевич оказался в Омске в статусе военнопленного, здесь он быстро получил возможность вернуться к своему занятию мирного времени - служению Богу. Военнопленные русины проявили в Омске значительную общественную активность, идя на контакт с местными военными властями и церковным священноначалием. Массовые переходы в православие из униатства тогда русины воспринимали как шаги к укреплению отношений с российскими имперскими властями, осуществляемые в соответствии со своей национальной идеей, близкой к воззрениям о русском славянском мире с доминантой России. Вместе с тем присоединение к православию давало бывшим военнослужащим армии Австро-Венгрии возможность обретения лучших бытовых условий содержания, вплоть до устройства личной жизни на селе (см. подробнее: [22]). В Успенском кафедральном соборе Омска 7(20) июня 1915 г. (день памяти Иоанна Предтечи) в составе 2-й партии из 12 пленных славян Григорий Мокрый перешёл из униатства в православие с сохранением имени [7: 32 об.]. А с марта 1917 г. он обрел привычную довоенную службу псаломщиком в Крестовоздвиженской церкви Омска [1: 30]. 168 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 Данный факт биографии нашего героя можно охарактеризовать в качестве примера успешной инкультурации пленного русина в России. Переход из униатства в православие был осознанным духовным шагом, о чем свидетельствует быстрое вхождение Г.Г. Мокрого в члены местного церковного клира. Решение облегчило военнопленному и режим содержания, открыв дорогу к социализации в русском обществе. Об успешности здесь свидетельствует примечательный факт: в актовой записи о венчании ученика Омского землемерного училища Ивана Максимовича Воловского с вдовой Ефросиньей Михайловной Сорокиной, состоявшемся в названном храме 7(20) января 1918 г., мы находим упоминание «австрийского подданного Григория Мокрого» в качестве поручителя по жениху [8: 266]. К началу 1918 г. для православного Омска псаломщик Крестовоздвиженской церкви русин Григорий Мокрый был «своим человеком». Однако вскоре в жизнь церковнослужителя вновь вторглись армейские будни. В России шла эскалация Гражданской войны. В октябре 1918 г. Временное Сибирское правительство развернуло широкую мобилизацию, а для содержавшихся в Омске пленных карпаторуссов даже сформировали специальный лагерь [9: 141]. Псаломщик Г. Мокрый вновь оказался в армейском строю. Сам он позднее подчёркивал, что «был произведен в старшие унтер-офицеры при мобилизации чехами» и направлен на должность командира взвода в возглавляемый подполковником Крикуновским отдельный добровольческий карпаторусский батальон [1: 34 об., 44, 47]. Следует полагать, что бывшего военнопленного, скорее всего, переаттестовали тем же армейским чином, что он носил ранее в армии Австро-Венгрии. Судить о том, что герой повествования уже в 1914 г. служил не рядовым солдатом, позволяет его образовательный ценз. Нахождение Григория Мокрого в составе национального воинского формирования для того времени было типично. Это вряд ли явилось причиной возникновения у него особых личных проблем, ведь в предшествующий период он не обременил себя семьёй. К концу января 1919 г. батальон насчитывал 1 024 человека, в их числе - 1 офицер, 3 военных врача и 1 003 добровольца; из-за острой нехватки офицеров на их должности временно назначили 17 бывших офицеров армии Австро-Венгрии. Посредством мобилизации галичан летом 1919 г. батальон доукомплектовали, в августе 1919 г. переименовав в 1-й Карпаторусский стрелковый полк. Все подразделения этого национального формирования квартировали в Омске и его южном пригороде [25: 149]. Пребывание русинов в составе армии А.В. Колчака достаточно подробно описано [9-12, 24]. Подчеркнём, что оно было вполне История 169 логичным, так как белая армия водрузила на свои знамёна русскую национальную идею «единой и неделимой России», что полностью соответствовало мировоззрению значительной, преимущественно образованной и православной части русинов. Наш герой относился к таким людям. Именно их добросовестную службу в белой армии отмечал военный министр А.П. Будберг, когда писал летом 1919 г., что «до сих пор у нас был добровольческий карпаторусский батальон очень хорошего состава, очень добросовестно несший на себе тяжелые наряды и караулы» [3: 300]. Но в военных условиях власти попытались увеличить численность карпаторусских подразделений в белой армии. Они прибегли к принудительной мобилизации бывших военнопленных, растворив этим своих идейных сторонников, к коим, без сомнения, относился и Григорий Мокрый, в массе насильно мобилизованных людей, не желавших воевать. Осень 1919 г. ознаменовалась фатальными неудачами белой армии в Западной Сибири. А в сентябре-октябре полк галичан выдвинули на позиции. Но там порядка 1 300 человек (большинство бойцов формирования, где служил Григорий Мокрый) перешли к большевикам (см. подробнее: [24: 104-105]). Идейная преданность нашего героя идеалам Белого дела подтверждается его отказом перейти вместе с большинством своих сослуживцев на сторону противника. Обстоятельства массового перехода военнослужащих русинов к большевикам в исторической литературе детально не прояснены. Но объяснение этого есть в дневнике А.П. Будберга. О принудительной мобилизации русинов генерал писал: «Бедных карпаторуссов стали хватать с помощью облав . Благодаря этому, Омск остался без хлебопеков и ассенизаторов, так как миролюбивые и неприхотливые карпаторуссы специализировались по чёрному труду; узнав о принудительной мобилизации, они разбежались из Омска . Озлобление среди них страшное; их собрали на станции Куломзино, рядом с бараками, в которых помещаются семьи Ижевских рабочих; на днях у меня были старики ижевцы и сообщили, что озлобленные карпаторуссы ругают их за верную службу своей родине и, не стесняясь, говорят, что им только бы попасть на фронт, а там они расправятся с теми, кто их туда погнал, а сами уйдут к красным; те же отправили их домой» [3: 300-301]. На просоветские настроения среди омских русинов и их решение перейти в стан красных повлиял и украинский фактор. В Сибири украинцы к тому времени уже создали подобный прецедент, когда их национальное воинское формирование перешло на сторону большевиков, неожиданно для белого командования обнажив фронт [4: 71]. Здесь примечательно, что в 1919 г. в Омске наблюдалась 'Сі III 2022. № 69 170 украинизация значительного числа русинов, не желавших под русскими флагами воевать за Белое дело. В мае 1919 г. контрразведка информировала власти белой Сибири о русофильской деятельности Центрального Карпаторосского совета в Омске, который, по их сведениям, намеревался «произвести мобилизацию всех галичан, бывших подданных Австро-Венгрии». Но в докладе говорилось, что деятели Совета «популярности никакой не имеют. Пленные в лагерях, которые до сего времени были аполитическими, в настоящее время, опасаясь быть мобилизованными, все поголовно объявили себя украинцами» [20: 38]. Принудительный пр изыв этих людей в белую армию в стл у влияния укрофильской и большевистской пропаганды мог привести к их массовому переходу на сторону РККА по уже проторенному украинцами пути. Г.Г Мокрый в период следствия (1920 г. Омск). Публикуется впервые Остатки полка Григория Мокрого, сохранившие верность присяге, данной Роснрйскомутіэй вит8мьсто° А.В.Колчтка,тылн разоружет ы белоказаками и направлены во 2-й Омский концентрационный лагерь . Там Григорий находрлсА до ннролт декАтртАНІ9 г. т качтстве заключённого, «перешедшего по наследству» от белых к красным, эохвртиншйм и ру HCA°|3fl0Op9 г Омсл.Не р°нин, совчршиа одиркрій побег из лагеря, жил у своих знакомых Богдашевых на Блохинской, И 8 реь6 г - уз. Бутанова). Е> этмм домт ом °аите долго дтп рщтдо событий Гражданской войны [1: 34, 45, 47]. Факт пребывания Григория Мокрого в качестве беглого заключённого в месте прежнего проживания подтверждает прочность его социализации, имевшей место в омском социуме до мобилизации осенью 1918 г. Однако уже 11 декабря 1919 г. беглеца по адресу ул. Тарская, 58 арестовали сотрудники СибЧК, изъяв переписку. При обыске присутствовали протоиерей Романов (чьё пребывание - свидетельство тесной связи Григория Мокрого с омским духовенством) и представитель домового комитета Вознесенский. Чекисты на момент ареста Мокрого располагали оперативной информацией о том, что он в 19091910 гг. у себя на родине в Галиции Одт известен кан член некой подпольной организации Станислав История 171 Криневский [1: 30, 35]. Но, по всей видимости, в силу того что эти сведения не представилось возможным как-либо быстро проверить, ключевым обвинением стала служба подследственного на командной должности в карпаторусском полку. В итоге по постановлению Омской ГубЧК от 24 января 1920 г. подследственного Г. Мокрого освободили под подписку о невыезде. Основанием стало то, что он, состоя на службе в белой армии, не участвовал в боях против РККА. Выйдя на свободу, бывший арестант вернулся к обязанностям псаломщика в том же храме, что и ранее, но вскоре по приглашению омского священника Илии Фокина перешел псаломщиком в Богородице-Братскую церковь [1: 44, 45 об., 47, 48]. Этот храм в годы Первой мировой войны, наряду с Успенским кафедральным собором, являлся знаковым центром духовной жизни и православного миссионерства. Здесь при активном участии епископа Сильвестра и ряда других местных иерархов Русской православной церкви состоялось 19 массовых переходов в православие пленных славян (см. подробнее: [22]). С восстановлением в Омской губернии советской власти общая политическая обстановка в течение 1920 г. сохраняла напряжённость. В бывшей столице белой Сибири и прилегающем уезде, по данным чекистов, находилось значительное количество офицеров и солдат разгромленной колчаковской армии, казаков и гражданского населения, разделявших антибольшевистские взгляды. В оперативных разработках чекистов тогда было несколько подобных подпольных ячеек. О существовании антибольшевистской организации во главе с неким Орлеановым церковнослужитель узнал в Омске случайно. Остались неясными истинные мотивы, побудившие русина Г. Мокрого примкнуть к повстанцам. Но в начале августа 1920 г. через связных этого предводителя мятежников Григория переправили в село Сы-ропятское (40 км на восток от Омска), где он сначала неделю жил у местного псаломщика, после чего попал в степной штаб повстанцев. К новичку сразу отнеслись настороженно, не дав ни оружия, ни конкретных значимых поручений. Через несколько дней бывший псаломщик получил удостоверение на имя фельдшера 1106-го армейского госпиталя Григория Кошкина. Во время его поездке в Омск за бельем для отряда документ должен был стать прикрытием. Но 20 августа 1920 г. по дороге («в степи») близ одной из заимок Омского уезда Мокрого арестовали сотрудники Омской ГубЧК. А упомянутый документ стал одной из улик возбуждённого уголовного дела [1: 30, 46, 51, 53]. На единственном допросе в день ареста несостоявшийся повстанец достаточно общо рассказал о своей жизни и обстоятельствах 'Сі III 2022. № 69 172 попадания в антисоветскую организацию, указав при этом на ряд причастных к ней лиц. Важно, что заполненная при аресте анкета - единственный документ, где указано, что Григорий - русин [1: 30]. Своё участие в некой духовной контрреволюционной организации и антисоветскую агитацию наш герой отрицал. Но в распоряжении чекистов были полностью противоречащие его словам показания бывшего красильниковца, полковника Саенко. С ним псаломщик-русин содержался в лагере. Следствие 29 сентября 1920 г. вынесло заключение по делу, признав Григория Мокрого виновным в членстве в подпольной белогвардейской организации под чужим именем. Но эти обстоятельства, равно как и предыдущий арест, а также служба у белых, уже никак не учитывались. Следствие посчитало, что состав преступления доказан, передав дело на рассмотрение в коллегию Омской ГубЧК, каковая постановлением от 2 октября 1920 г. приговорила Мокрого Григория Георгиевича к высшей мере наказания. Решение утвердил полпред ВЧК по Сибири И.П. Павлуновский [1: 53 об.-54]. Ко времени рокового ареста Григория Георгиевича относится единственное известное нам фото, входящее в состав альбома с портретами лиц, привлекавшихся в 1920 г. в Омске в качестве обвиняемых по делу о белогвардейской повстанческой организации. На снимке - человек, внешне не выделяющийся в ряду других обвиняемых. По изображению его невозможно идентифицировать как иностранца, церковнослужителя или военного. Обращает на себя внимание достаточно упитанное и здоровое лицо молодого мужчины, который явно не испытывал нужду и не перенёс тяжелых болезней [2: 150, фрагмент]. Это позволяет судить, что наш герой весьма хорошо вписался в местный социум в предшествующее время. Псаломщика-повстанца расстреляли в Омске 7 октября 1920 г. в составе группы из 47 человек (военных и гражданских лиц), осужденных накануне за активную контрреволюционную деятельность, службу в белой контрразведке. Из них 39 человек (в их числе 9 женщин) проходили как участники или пособники «белогвардейской повстанческой организации», якобы разоблаченной чекистами в Омском уезде летом-осенью 1920 г. [13]. Современные историки небезосновательно считают данную организацию фабрикацией местных чекистов (см. например, [23, с. 132-147; 26]). В апреле 1993 г. лиц, осуждённых за участие в данной организации, реабилитировала Прокуратура Омской области. Биография Г.Г. Мокрого дает почву для дискуссии о положении русина в условиях Первой мировой и Гражданской войны в России и о значении религиозного фактора в этих событиях. Гражданская война в России не столь остро поставила вопрос о социальной адаптации История 173 русинов, гораздо сильнее обнажив вопрос выбора представителями этого народа политической, религиозной и национальной идентичности. Ещё в условиях Первой мировой войны Русская православная церковь, в том числе действиями по отношению к пленным славянам в Омске в 1915-1917 гг., открыто демонстрировала готовность принять русинов в свое лоно, обеспечивая тем самым реализацию имперской геополитики. Но для русина Григория Мокрого, ранее успешно социализировавшегося в омское общество, его национальная принадлежность словно потеряла актуальность, а обстановка русской братоубийственной войны заставила принять в противостоянии конкретную политическую сторону. Для этого человека в его светском идеологическом решении огромное значение имело «братство во Христе», искореняемое большевиками. Для объяснения поведения героя статьи значимо замечание известного петербургского историка Н.Н. Смирнова, который подчёркивает, что в глобальном смысле нельзя отделять церковь от гражданской истории [16: 61]. Развивая эту мысль, добавим, что изучение этнических процессов подчас имеет неразрывную связь как с военной, так и с церковной историей. Г. Мокрый, на первый взгляд, не выглядел как типичный активный контрреволюционер или духовный поборник антибольшевизма. Он участвовал в событиях «периодически»: непродолжительно и отчасти случайно. В то же время жёсткий армейский уклад по своему характеру соотносился со строго-консервативным храмовым служением, что, видимо, упрощало социальную адаптацию Мокрого на чужбине. Его положение в армейской иерархии (старший унтер-офицер - первый помощник офицера в управлении солдатами), как и в подпольной контрреволюционной организации («агент без оружия» с тыловым предназначением), также сопоставимо с его местом в церкви (псаломщик - вспомогательное лицо, непосредственно содействующее иерею в проведении церковных служб). В христианском служении он, очевидно, усматривал и привычную довоенную деятельность, и способ бытового спасения в условиях русского плена. Псаломщиком он стал раньше, чем впервые надел военную форму, но стоит полагать, что религия, став основой мировоззрения этого человека, сформировала в нем духовный стержень, помогавший в том числе психологически выживать в обстановке социальных катаклизмов и вдали от родины. Осталось неясным, почему Г. Мокрый не использовал возможность возвращения в Восточную Европу в рамках возбуждения права оптации, как бывший военнопленный Первой мировой войны. Ведь дома у него осталась 35-летняя сестра Евдокия - единственный родной человек [1: 30]. Но, видимо, политическая нестабильность и на тер- 174 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 ритории РСФСР, и на территории бывшей империи Габсбургов в то время не могла обеспечить гарантий благополучного встраивания в новую жизнь. Галиция тогда стала местом масштабных боев Советскопольской войны. А многие бывшие сослуживцы Мокрого, перешедшие осенью 1919 г. на сторону советских сил, воевали в Прикарпатье как Карпаторосский полк, затем как Галицкий запасной батальон, переформированный в 402-й Галицкий стрелковый полк РККА [24: 105]. Эволюция понятия «свой-чужой» в видении военной антропологии - один из ключевых аспектов научной дискуссии данного междисциплинарного знания [14: 31]. А изученная биография - это пример внутреннего психологического метания, вызванного политическими причинами эпохи социальных катаклизмов. Явный мотив участия Григория Георгиевича в антисоветской деятельности - «патриархальная» ментальность православного церковнослужителя, подкрепляемая близкой русинам национально-духовной идеей о принадлежности русинов к русскому православному народу, развитие которой было резко прервано событиями 1917 г. - крахом самодержавия и Российской империи. Уверенно можно утверждать, что герою статьи были полностью чужды идеи революционной пропаганды, в том числе активно транслируемые по линии РКП (б) летом 1920 г. на оказавшихся в Западной Сибири представителей крестьянства и пролетариата из Галиции. Притеснённый советскими спецслужбами иностранный подданный и служитель уже тогда открыто гонимого официальной властью общественно-религиозного института вряд ли мог рассчитывать на благополучное устройство в условиях большевистской России, а последовавшее через 10 лет ужесточение общественно-политической сферы оставило бы такому человеку еще меньше шансов на тихую жизнь. Совокупность перечисленных факторов предопределила жизненный финал русина Григория Мокрого, в чьей судьбе фатальную роль сыграла жестокая революционная стихия, убившая надежды его народа на политическое воссоединение с русским. Для большевистской России русская ориентация православного русина была чужда и даже враждебна. Успешно социализироваться в советском обществе человек с такой системой ценностей не имел шансов. Для адаптации к новым реалиям русину было необходимо изменить своё мировоззрение, отказавшись от идеи принадлежности к русскому народу, и встать на сторону большевиков или включиться в украинское национальное движение. Но Григорий Мокрый был стоек в своих традиционных убеждениях. Он не вписался в новый мир и логично ушел из жизни на этапе локализации и затухания Гражданской войны в России вместе с потерпевшей крах белой идеей.
Ключевые слова
Омск,
советская власть,
политические репрессии,
Русская православная церковь,
Омская епархия,
Первая мировая война,
Гражданская война,
военнопленные,
русиныАвторы
| Сушко Алексей Владимирович | Омский государственный технический университет | профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии и социальных коммуникаций | alexsushko_1974@mail.ru |
| Петин Дмитрий Игоревич | Омский государственный технический университет | кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и социальных коммуникаций | dimario86@rambler.ru |
Всего: 2
Ссылки
Шишкин В.И. Советская карательная политика в Сибири в начале 1920-х годов // Права человека в России: прошлое и настоящее: Сб. докл. и материалов науч.-практ. конф. (Пермь, 21-23 июня 1999 г.). Пермь: Звезда, 1999. С. 10-21.
Тинченко Я. Армии Украины 1917-1920 гг. М.: Восточный горизонт, 2002. 140 с.
Шевелев Д.Н., Конев К.А. «За Россию и за общее дело славянства»: официальная и проправительственная печать белой Сибири о формировании на ее территории карпаторусских воинских частей // Русин. 2015. № 4. С. 143-167. DOI: 10.17223/18572685/42/11
Тепляков А.Г «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 19181929 гг. М.: АИРО-XXI, 2007. 288 с.
Сушко А.В., Петин Д.И. Процесс обращения в православие военнопленных славян в Омске (1915-1917 гг.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2021. Вып. 103. С. 78-98. DOI: 10.15382/sturII2021103.78-98.
Сушко А.В., Петин Д.И. Борьба за «Подъярёмную Русь»: переход в православие военнопленных русинов в Омске (1915-1917) // Русин. 2021. № 65. С. 99-114. DOI: 10.17223/18572685/65/6
Сушко А.В. Религиозный фактор в годы Гражданской войны в России (на примере процессов в Омской и Павлодарской епархии) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2022. Т. 7, № 2. С. 34-42. DOI: 10.25206/2542-0488-2022-7-2-34-42.
Суляк С.Г Русины в период Первой мировой войны и Русской Смуты // Русин. 2006. № 1. С. 46-65.
Суляк С.Г Русины в истории: прошлое и настоящее // Русин. 2007. № 4. С. 29-56.
Суляк С.Г Русинская идентичность (на примере участия галичан в Гражданской войне) // Русин. 2015. № 4. С. 107-125. DOI: 10.17223/18572685/42/9
Смирнов Н.Н. «Нельзя отделять церковь от гражданской истории..» // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2022. Т. 7, № 2. С. 57-64. DOI: 10.25206/2542-0488-2022-7-2-57-64
Скипина И.В. Человек в условиях Гражданской войны на Урале: историография проблемы. Тюмень: ТюмГУ, 2003. 208 с.
Расстрел врагов революции // Советская Сибирь (Омск). 1920. 16 октября. С. 4.
Сенявская Е.С. Человек на войне, или Тернистый путь от военной истории к военной антропологии // Исторический вестник. 2018. Т. 24. С. 10-43.
Нам И.В., Наумова Н.И., Зиновьева В.И. Организации военнопленных русинов в Сибири и власть: конфликт интересов (1918-1919 гг.) // Русин. 2019. № 57. С. 84-98. DOI: 10.17223/18572685/55/7
Нам И.В., Наумова Н.И., Зиновьева В.И. Карпаторусский совет и формирование воинских подразделений карпаторусов в Сибири в годы Гражданской войны (1918-1919 гг.) // Русин. 2017. № 3. С. 85-100. DOI: 10.17223/18572685/49/6
Конев К.А. Карпаторусское сообщество в социокультурном пространстве Сибири в годы Гражданской войны (1918-1919 гг.): взгляд через призму истории эмоций // Русин. 2021. № 63. С. 138-155. DOI: 10.17223/18572685/63/7
Нам И.В., Наумова Н.И. Историческая память и национально-политическая идентификация русинов. 1914-1920 гг. // Русин. 2015. № 4. С. 126-142. DOI: 10.17223/18572685/42/10
ИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 123. Метрическая книга актовых записей Крестовоздвиженской церкви г. Омска. 1918 г.
Гладышев А.В. Антропологический поворот в военной истории // Диалог со временем. 2017. № 59. С. 136-150.
Иванов А.А., Чемакин А.А. «Сейчас царской России нет - есть советская»: взгляды галицко-русского социалиста К.М. Вальницкого на Революцию, Гражданскую войну и интервенцию // Русин. 2017. № 3. С. 101-121. DOI: 10.17223/18572685/49/7
Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 16. Оп. 11. Д. 77 Метрическая книга актовых записей Успенского кафедрального собора г. Омска. 1915 г.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 4. АУД. П-101302. 1920 г.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 87. Оп. 3. Д. 10. 1920 г.
Будберг А.П. Дневник белогвардейца. Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2001. 336 с.
Ганин А.В. Враздробь, или почему Колчак не дошел до Волги? // Родина. 2008. № 3. С. 63-74.
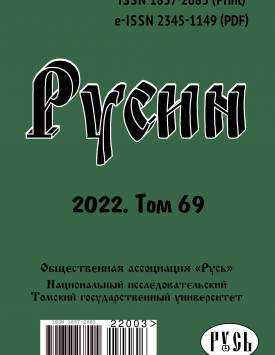

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью