В статье рассматривается отражение польской ссылки в Сибирь на страницах журналов, издаваемых в межвоенный период (1920-1930 гг.): «Каторга и ссылка» в Москве и «Сибиряк» («Sybirak») в Варшаве. И в том и в другом центральное место занимала тема ссылки и каторги в Сибирь. Журнал «Сибиряк» («Sybirak») издавался в 1934-1939 гг. «Союзом сибиряков», который был организован в 1926-1927 гг. вернувшимися из России поляками, бывшими ссыльными и военнопленными. Журнал публиковал статьи и воспоминания, посвящённые сосланным в Сибирь участникам восстания 1863-1864 гг. в Польше. Эти материалы способствовали выявлению и собиранию материалов по сибирско-польской истории и одновременно закреплению «черной легенды» о польской ссылке в Сибирь, сформированной мемуарной традицией XIX в. Журнал «Каторга и ссылка» издавался в 1921-1935 гг. Всесоюзным обществом бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Основные разделы журнала включали историю революционного движения и репрессивной политики государства в Российской империи, а также некрологи, библиографию и хронику. Тема ссылки поляков в Сибирь и их участия в революционном движении также находила отражение на страницах журнала, но несопоставимое по количеству и разнообразию материалов, опубликованных в журнале «Сибиряк». Публикация этих материалов заложила историографическую традицию рассмотрения темы польской политической ссылки в Сибирь в широком контексте истории революционного движения в России и формирования русско-польских революционных связей.
Siberian-Polish history in the journals Sybirak and Katorga i ssylka.pdf Сибирско-польская история, которая ведёт своё начало с XVI в., сегодня имеет обширную историографию, как российскую/советскую, так и польскую. Начало её становлению было заложено в 18601870-х гг. известными работами А. Гиллера и С.В. Максимова [13: 278-* The results were obtained under the grant of the Russian Federation Government, Project № 075-15-2021-611 “Human and the Changing Space of Ural and Siberia.” История 199 290; 17: 33-70; 20: 8-22; 22: 3-30 и др.] Воссоздание независимого польского государства в 1918 г. актуализировало историю ссылки поляков в Сибирь. Сложившаяся к этому времени «Черная легенда» о Сибири [14] усиливала ценность и значение завоёванной польской свободы. Образ польского политического ссыльного оставался для поляков социально и культурно значимым, поэтому книги о Сибири в то время можно было встретить почти в каждом польском доме [10: 73]. Сибирское прошлое имели многие политические деятели, включая первого главу воссозданной независимой Польши Юзефа Пилсудского, а также известных исследователей Сибири - Б.И. Ды-бовского, В.Л. Серошевского, Э.К. Пекарского, А.Л. Чекановского, И.Д. Черского и др. Старший брат Ю. Пилсудского Бронислав, сосланный на Сахалин за участие в организации покушения на Александра III, собрал уникальный лингвистический и фольклорный материал о народах Сибири. Важный вклад в развитие мемуарной традиции в историографии ссылки и пребывания поляков в Сибири внёс журнал «Сибиряк» («Sybirak»), который издавался в 1934-1939 гг. «Союзом сибиряков», организованным в 1926-1927 гг. вернувшимися из России поляками, бывшими ссыльными и военнопленными. Независимо от того, были ли они в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере или даже в Средней Азии, все они называли себя сибиряками. «Не случайно и в межвоенный период, во Второй Речи Посполитой, и ныне, после II Мировой войны, к “Союзу сибиряков” принадлежали и принадлежат все побывавшие на каторге и в ссылке (а в XX веке - в ссылке, на поселении и в лагерях), независимо от того, были ли они в настоящей Сибири или на Дальнем Севере, в степях Казахстана или в пустынном Узбекистане» [14]. Всего вышло 19 номеров1. Журнал публиковал статьи, воспоминания и другие материалы, посвящённые сосланным в Сибирь участникам польских восстаний. Чаще всего эти публикации были приурочены к очередной годовщине участников восстания в Царстве Польском в 1863-1864 гг. - Январского восстания в польской традиции. Отметим статьи Ю. Сокольского [26; 27; 28], А. Забенского [29; 30], С. Гиза [24], М. Андроновского о своем отце [23] и В. Маньковского [25] в переводе на русский язык А. Гузеевой [9]. Воспоминания В. Маньковского дополняет исторический очерк А. Мачеши, сына высланного в 1864 г. в Сибирь участника Январского восстания [16: 207-208]. Вместе эти два текста, представляющие переработанные доклады на съезде бывших воспитанников томских школ в Варшаве в 1934 г., позволяют воссоздать картину жизни польских повстанцев 1863 г. в Томске во второй половине XIX и начале XX в. Значимость вышеперечисленных мемуарных публикаций для польско- 200 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 сибирской историографии уже не раз отмечалась как польскими, так и российскими историками [10; 13: 280; 20: 10; 21: 5; 22: 14-15 и др.]. Эти публикации способствовали закреплению в общественном сознании поляков убеждения, что, несмотря на все тяготы их пребывания в этом краю неволи, «Сибирь никогда не исчезнет из памяти, сколько бы ни было там тяжёлых и неприятных воспоминаний, сколько бы ни было каторг, принудительных арестантских работ, тюрем, расстрелов, сколько бы ни было концентрационных лагерей и чрезвычайных судов» [10: 73; 31: 29]. Ссыльные поляки героизировались, представлялись «энтузиастами», «людьми действия», исповедующими «возвышенные этические идеалы» [10: 74]. Сибирь рассматривалась как объект польской культурной и экономической экспансии. С этой целью при главном и окружных правлениях «Союза сибиряков» были созданы специальные экономические секции для сбора материалов. Поиск рынков сбыта осмысливался как реализация исторического предназначения Польши, призванной быть посредником между Западом и Востоком в обмене материальных и духовных ценностей [10: 75]. Другими авторами популярная в дореволюционной польской публицистике идея культурной и хозяйственной миссии поляков в Сибири подвергалась критике. Так, известный польский экономист В. Комаровский утверждал, что Сибирь была для борцов за свободу Польши не «территорией польской хозяйственной экспансии», а всего лишь местом ссылки [10: 76]. Поиск и публикация в журнале новых источников, преимущественно мемуарных, способствовали росту интереса профессиональных историков к сибирско-польской истории. В 1928 г. в Кракове выходит первое, написанное на основе мемуаристики монографическое исследование М. Яника «Поляки в Сибири». Со времени появления этой книги, ставшей классической, определение «поляки в Сибири», обобщённо отражающее сущность польско-сибирской истории, «прижилось» и в научной литературе, и в «разговорном обиходе» [22: 14, 66, 189-192]. В советской историографии межвоенного периода и вплоть до окончания Второй мировой войны тема польской политической ссылки не получила сколько-нибудь заметного освещения. Исключением является статья Ф.А. Кудрявцева о восстании поляков на строительстве Кругобайкальского тракта в 1866 г. [22: 15]. Этому же автору принадлежит первая и единственная в то время статья о ссылке поляков в Сибирь в 4-м томе «Сибирской советской энциклопедии» [7: 417-420]. На первый взгляд, кажется удивительным столь малое внимание, которое уделялось советской историографией польской ссылке в История 201 межвоенный период, ведь в это время «Всесоюзным обществом бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев» издавался специализированный журнал «Каторга и ссылка», выходивший с 1921 по 1935 г. под общей редакцией В.Д. Виленского (Сибирякова) (1923-1927), Ф.Я. Кона (1927-1929), И.А. Теодоровича (1929-1935). Всего вышло 116 номеров2. Основные разделы журнала включали историю революционного движения и репрессивной политики государства, а также некрологи, библиографию и хронику. Журнал публиковал как архивные материалы и мемуары, так и исследовательские статьи. Тема участия поляков в революционном движении и ссылке в Сибирь получила отражение на страницах журнала, но публикаций, посвящённых ссылке поляков и их пребыванию в Сибири, было мало. Причина заключалась в том, что основной целью журнала являлось изучение революционного движения, в контексте которого рассматривалась и тема польского национального (освободительного) движения и ссылка поляков в Сибирь. К числу немногих публикаций, касающихся польского национального движения и польской ссылки, относятся воспоминания участника восстания 1863-1864 гг. в Польше В.Б.-К. Арендта3, которые были посвящены двум известным участникам этого восстания («польским повстанцам») - Иосафату (Юзефату) Огрызко4 [1] и Анне Теофиловне Пустовойтовой5 [2]. Оба текста были опубликованы в разделе «Из истории революционного движения» под одинаковым заголовком «Из воспоминаний о польском восстании 1863 г.», из чего можно заключить, что задумывалась серия публикаций о Январском восстании, но этого не произошло. В.Б-К. Арендту принадлежат также воспоминания «Дни Коммуны 1871 года» [3], в которых он рассказал об участии поляков во французской революции 1871 г. В их числе были А.Т. Пустовойтова и В.Б-К. Арендт. Иосафат (Юзефат) Огрызко исполнял в 1863 г. обязанности представителя польского повстанческого руководства - Национального правительства в Петербурге, за что в 1864 г. был арестован и приговорён Виленской следственной комиссией к смертной казни, заменённой 20-ю годами сибирской каторги [19: 11-12]. Некоторые обстоятельства, связанные с арестом и ссылкой И. Огрызко в Сибирь, описал в своих воспоминаниях, хорошо известных российским и польским исследователям, Л.Ф. Пантелеев, член «Земли и Воли», отбывавший многолетнюю ссылку в Сибири по подозрению в причастности к восстанию 1863 г. в Польше [12]. Воспоминания В. Арендта о И. Огрызко не фигурируют ни в российской, ни в польской историографии. Между тем эти воспоминания, посвященные петербургскому периоду деятельности И. Огрызко, существенно проясняют запутанную ситу-'Сі III 2022. № 69 202 ацию, связанную с его ролью в подготовке «шляхетского» восстания в Польше, которая прежде, по словам Арендта, ограничивалась изданием польской газеты «Slowo» и подготовкой молодёжи к «ксёндзошляхетскому мятежу». В действительности же И. Огрызко, которому отводилась роль министра юстиции в будущем правительстве Польши, рассчитывал создать под прикрытием газеты в Петербурге типографию с целью перепечатывания сборника польских законов «Volumia legum», чтобы «будущей польской администрации иметь под рукой однообразные юридические прецеденты» для проектируемого государственного уложения, подобного «Полному собранию законов» Российской империи. Планировалось снабдить экземплярами этого сборника законов все города и местечки Польши, Литвы, Галиции и Познани. Предполагалось, что ко времени «отделения Речи По-сполитой от Москвы, отпечатание законов могло быть закончено». Доверие к Огрызко, который занимал важный административный пост и пользовался покровительством со стороны петербургских чиновников, было подорвано публикацией в газете письма Иоахима Лелевеля, одного из предводителей восстания 1830-1831 гг. в Царстве Польском, которое было воспринято чиновниками «брандером гомерического размера, от которого Российская империя должна разбиться вдребезги», хотя к началу 1860-х гг. Лелевель отошёл от активной политической деятельности и «вся криминальность» письма заключалась не в его содержании, а в имени «старого заговорщика, имени совершенно безвредным для русских... и утратившем всякое обаяние среди самих поляков» [1: 58-63]. Воспоминания В. Арендта об Анне Пустовойтовой, опубликованные в разные годы - 1924 и 1929, позволяют воссоздать короткую, но насыщенную бурными событиями историю её жизни, связанную с Январским восстанием и с Парижской коммуной. В. Арендт писал об Анне Пустовойтовой как о «самой необыкновенной, по тем временам, женщине», которая «поражала всех не только своим высоким интеллектом, но и своей эрудицией по любому вопросу» [3]. Из воспоминаний Арендта следует, что Анна Пустовойтова входила в гарибальдийский кружок, образовавшийся в Варшаве в 1859 г. в ответ на призыв Джузеппе Гарибальди помочь в объединении Италии. Членами этого кружка были и будущие активные участники Январского восстания в Польше и Парижской коммуны Ярослав Домбровский, Валерий Врублевский, Антон Березовский и автор воспоминаний В. Арендт. В 1860 и 1861 гг. А. Пустовойтова активно участвовала в патриотических манифестациях в Польше. А когда в январе 1863 г. вспыхнуло восстание, она «мгновенно примчалась» в Варшаву и уже в начале февраля явилась в Центральный революционный комитет История 203 (речь идёт, видимо, о Центральном национальном комитете. - И.Н.) с просьбой отправить её на службу в отряд Марианна Лангевича, к которому имела рекомендательные письма. М. Лангевич, принявший Анну «с большой радостью», назначил её личным адъютантом и произвёл в офицерский чин - хорунжего. «Обладая чрезвычайно хорошим здоровьем, Анна Пустовойтова... легко переносила все невзгоды повстанческой жизни. никто в отряде не подозревал, что она девушка». А. Пустовойтова оставалась адъютантом М. Лангевича, который в марте 1863 г. был провозглашён диктатором Польши, вплоть до их ареста австрийскими властями. После неудачной организации побега Лангевича, Пустовойтова вернулась в Польшу. В мае 1863 г. она была арестована и заключена в Александровскую цитадель в Варшаве, а затем сослана в Вологодскую губернию на 5 лет с лишением всех «лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ». В марте 1864 г. вместе с В. Арендтом она была отправлена в Великий Устюг и через 3 года помилована Манифестом 1867 г. по случаю бракосочетания наследника Александра с Дагмарой Датской [2]. Ещё через 3 года, в 1870 г., они встретились с В. Арендтом уже в Париже, где в дни Парижской коммуны оба сражались на баррикадах под командованием Я. Домбровского. 24 мая Домбровский был тяжело ранен и вскоре скончался. 26 мая ранение получила и Анна Пустовойтова. Больше В. Арендт с ней не встречался. Он считал, что ранение её было смертельным. Но она выжила и прожила ещё 10 лет. В. Арендт после поражения Коммуны бежал сначала в Женеву, затем в Варшаву, где был арестован «за предполагаемое участие в Коммуне» и выслан на Кавказ, где пробыл в ссылке 5 лет [2: 100-103; 1929]. Другая тема, получившая освещение в журнале «Каторга и ссылка», - адаптация сосланных в Сибирь участников Январского восстания после манифеста 1883 г., когда им было разрешено вернуться на родину, но многие из них остались в Сибири. Упоминания, касающиеся судеб польских повстанцев и их потомков, мы находим в опубликованных в журнале воспоминаниях Ф.Я. Кона6 и М.М. Чернавского. Ф. Кон писал, что в Якутской области ему «пришлось натолкнуться на. бывших участников польского восстания 1861-1863 гг. (так в тексте. - И.Н.). Многие из них вернулись на родину по амнистии 1883 г., но многие уже прочно осели в Сибири и не воспользовались возможностью возвратиться в Польшу, не желая “начать жизнь снова”, как они выражались» [5: 88]. Вернувшихся в Польшу приветствовали отнюдь не как героев. Ян Цишек с горечью вспоминал, как его встретили в Кракове: «Сибиряки идут, дегтём воняют!», а другой автор так писал о своём возвращении из ссылки на родину: «И тут началась моя настоящая каторга» 204 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 [15: 26]. Поэтому среди тех, кого потянуло на родину, было немало разочаровавшихся и вернувшихся в Сибирь: «Большой процент тех... которые часто разорялись для того, чтобы иметь возможность вернуться, разочаровались и вернулись. Романтики, десятки лет жившие мыслью о Польше и о борьбе, в которой они принимали участие. по возвращении были ошарашены тем, что они там застали: и примиренчеством по отношению к царскому правительству, и погоней за восточными рынками, в жертву которой было принесено все... С большой горечью вспоминали повстанцы о причинах, вызвавших их обратное возвращение в Сибирь. Нет там для нас места.» [5: 88]. Основная причина разочарования заключалась в том, что после подавления Январского восстания в Польше наступил спад патриотического национального движения. На смену ему пришла эпоха позитивизма. Отвергая идею вооружённой борьбы за национальную независимость, либеральная интеллигенция выдвинула программу «органического труда», призывая все классы польского общества укреплять экономику страны, согласованно трудиться во имя общественного блага. Второй лозунг «варшавского позитивизма» - «работа у основ» - призывал шляхетскую и буржуазную интеллигенцию просвещать народ, строить в деревне школы и больницы. Эти новые идеи не были поняты и приняты польскими повстанцами: «И для них, романтиков-националистов, - писал Ф.Я. Кон, - в тогдашней Польше действительно не было места. Буржуазия “трезво” смотрела на дело. Русские рынки были для них дороже независимости родины, за которую боролись повстанцы, а пролетарское движение, к которому примкнули рабочие, вместе с ними участвовавшие в восстании, им, националистам, было чуждо» [6: 202]. Но и в Сибири, по словам Ф. Кона, польским повстанцам тоже «было тяжело при виде прежних товарищей по борьбе, совершенно опустившихся. Одни выплыли. Разбогатели и прослыли на всю Сибирь своим эксплоататорством, другие пошли на службу в полицию, ещё иные превратились в уголовных». Ф. Кон приводит в качестве примера свой рассказ «Несчастный», впервые опубликованный в 1902 г. в Томске [4] о Войцехе Комаре, который был поселён после каторги в деревне на берегу Ангары и открыл там кабак, «превратившийся впоследствии. в воровской притон. Уличенный в скупке краденых вещей, он был сослан в Якутский округ и здесь, в одном из наслегов, продолжал прежнее ремесло: спаивал якутов и поселенцев, скупая за бесценок украденный в околотке скот» [5: 88]. Современники сходились во мнении, что в основном ссыльные повстанцы и их потомки сумели приспособиться к местным условиям, влиться в местное население, принять местные правила и культурные История 205 нормы. Об этом писал в своих воспоминаниях ссыльный народник М.М. Чернавский, отмечая, что большинство бывших польских повстанцев в Сибири «хорошо акклиматизировалось... и прочно слилось с местным населением. Многие прекрасно устроились в материальном отношении. Об освобождении родины если и мечтали, то как о деле отдалённого будущего, принять участие в котором им не суждено. Население относилось к ним хорошо и почти считало своими людьми» [18: 190-191]. С появлением новых польских ссыльных из числа членов партии «Пролетариат», народников, польских социал-демократов между ними и повстанцами 1863-1864 гг. возникали серьёзные идеологические разногласия, особенно в национальном вопросе. Старшее поколение польских ссыльных, давно оторванных от родины и активной политической жизни, не разделяло политических взглядов и целей, выдвигаемых польской мыслью в 1870-1890-е гг. И. Огрызко заявлял, в частности: «Действия нынешней молодёжи я не только не одобряю, но осуждаю. Поступки их вовсе не понимаю, и кажется мне, что у них все перепуталось в голове. Я очень жалею, что русской молодёжи удалось повлиять на польскую.» [22: 492-493]. Характерна следующая деталь, которую отметил М.М. Чернавский: «Рядовой обыватель программную и идейную разницу между поляками-повстанцами и народниками смутно чувствовал. Наименование “социалист” применялось к народникам довольно часто и никогда не употреблялось по отношению к повстанцам-полякам» [18: 191]. Ещё одна важная тема нашла отражение на страницах журнала «Каторга и ссылка» - роль польских ссыльных в исследовании Сибири. В статье В.И. Николаева «Сибирская политическая ссылка и изучение местного края» отмечалось «исключительное влияние» польских повстанцев - геологов И.Д. Черского, А.Л. Чекановского, археолога И.В. Витковского и Б.И. Дыбовского, исследовавшего озеро Байкал, его флору и фауну, на развитие краеведческой работы в Иркутске. Их заслуги были отмечены присуждением золотых медалей Географического общества [11: 103-104, 107]. В изучении Якутского края, по словам автора статьи, «наиболее крупный след» оставили В.Л. Серошевский и Э.К. Пекарский. В.Л. Серошевский, проживший в Якутии 12 лет (1880-1892 гг.), написал свой классический труд «Якуты: опыт этнографического исследования», включивший широкий круг вопросов, касающихся географии и климата края, происхождения якутов, их расселения, экономических и бытовых особенностей, семейно-брачных отношений и др. Автор статьи отметил почётную роль в развитии якутского краеведения Э.К. Пекарского, составившего якутско-русский словарь и написавшего ряд работ по экономике и 206 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 этнографии края. Вместе с Ф.Я. Коном Пекарский принял участие в Сибиряковской экспедиции в Якутию (1894-1896 гг.) [11: 109-114]. Таким образом, издаваемые в межвоенный период в СССР и в Польше почти синхронно два журнала со схожей тематикой - «Каторга и ссылка» в Москве и «Сибиряк» («Sybirak») в Варшаве - внесли несомненный вклад в становление и развитие сибирско-польской истории и с точки зрения ее осмысления, и с точки зрения публикации исторических источников, прежде всего мемуаров. Но концептуально этими журналами закладывались разные историографические традиции освещения польской ссылки в Сибирь. Анализ польской мемуаристики и других материалов, опубликованных в журнале «Сибиряк», показывает, что они способствовали укреплению в общественном сознании традиционного «шляхетского» восприятия Сибири, как «места страдания, изгнания и смерти». Воспоминания и другие материалы, опубликованные в журнале «Каторга и ссылка», рассматривающие ссылку поляков в Сибирь в контексте истории революционного движения, заложили историографическую традицию русско-польских революционных связей, которая получила своё оформление и развитие в России и Польше после окончания Второй мировой войны, когда возникли новые, общие для изучения сибирской польской истории, условия. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Полный комплект журнала «Sybirak» хранится в Национальной библиотеке Польши в Варшаве. 2. Большинство номеров этого журнала находится в собраниях Научной библиотеки Томского государственного университета, Томской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и других библиотек. 3. Арендт Виктор-Казимир Болеславович (1843-1929?). Интересно сложилась дальнейшая судьба В. Арендта и его потомков. Спустя несколько лет после падения Парижской коммуны он попытался нелегально вернуться в Российскую империю, был арестован и отправлен в ссылку, сотрудничал с Красным Крестом «Народной воли». В начале ХХ в. служил в земстве, был близок к партии эсеров, дожил до советской власти. Его мемуары были изданы Обществом политкаторжан. Дальше след В. Арендта теряется. Но известно, что его сын - Всеволод Викторович Арендт, историк и музеевед, занимавшийся историей средневекового оружия - был расстрелян в 1937 г. по 58 статье за «антисоветскую деятельность», которая заключалась в том, что он вёл переписку с зарубежными учёными [8]. 4. Огрызко Иосафат (Юзефат) (1826-1890). Видный деятель поль- История 207 ского освободительного движения 1860-х гг., белорусский дворянин, издатель польской газеты «Слово» («Slowo») в Петербурге. Пользовался большим авторитетом в русских революционных кругах, поддерживал отношения с партией «Земля и воля». Был близко знаком с Н.Г Чернышевским. С февраля 1863 г. - главный представитель (агент) Варшавского повстанческого правительства в Петербурге. В І864 г. был арестован, в 1865 г. - приговорён к смертной казни, заменённой двадцатью годами сибирской каторги. В 1866 г. за участие в протесте заключённых против жестоких условий акатуйского тюремного режима был отправлен с Ю. Дворжачеком в ссылку в Якутскую область. 4 года он содержался в полном одиночестве в специально построенном остроге в Вилюйске, без фамилии (под № 11), а с 1871 г. в ссылке в Якутске. Там он занимался сельским хозяйством, разводил скот, учил якутов земледелию, снискал любовь местных жителей. С 1874 г. И. Огрызко отбывал ссылку в Верхоленске и Иркутске, где пытался добывать золото, а также занимался адвокатурой среди золотопромышленников. Умер в Иркутске в 1890 г., похоронен на Иерусалимском кладбище, могила утрачена. 5. Пустовойтова Анна Теофиловна (1838-1881). Дочь русского генерала Трофима (Теофила) Павловича Пустовойтова и польской дворянки Марианны из дома Коссаковских. Вначале училась в Люблине, затем в женской школе в Варшаве, после вместе с сестрой окончила Пулавский институт благородных девиц. Участвовала во многих религиозных и патриотических мероприятиях в Люблине и Житомире. Наиболее известна своим участием в Польском восстании 1863-1864 гг., когда, переодевшись мужчиной и взяв себе имя Михаил Смок, сражалась под началом генерала Марианна Лангевич как его адъютант. После пленения 26 ноября 1863 г. была сослана в Вологодскую губернию, но в 1867 г. амнистирована. После освобождения эмигрировала сначала в Прагу, затем в Швейцарию; в 1870 г. переехала в Париж, где принимала активное участие во Франко-прусской войне и Парижской коммуне как военная медсестра, сражаясь на баррикадах; за участие во Франко-прусской войне была награждена крестом «За заслуги». После подавления Парижской коммуны была арестована, но затем освобождена благодаря вмешательству международного Красного Креста. В Париже жила до конца жизни. 6. Кон Феликс Яковлевич (1864-1941). Общественный и политический деятель, член польских партий «Пролетариат», «ППС», историк, этнограф, публицист. В 1884 г. по делу «Пролетариата» приговорён к каторжным работам. Отбывал наказание на Каре, в Забайкалье. Участвовал в Карийском протесте против применения телесных наказаний. В декабре 1890 г. переведён на поселение в Якутскую 208 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 область. С 1895 г. жил под надзором полиции в Иркутске, Балаганске, Минусинске, где встретился с В.И. Лениным. Участвовал в Якутской историко-этнографической экспедиции; в начале 1900-х гг. провёл экспедицию в Урянхайский край (Туву), за что антропологическим отделом Общества естествоиспытателей в Москве награждён золотой медалью. Собранная Ф. Коном этнографическая коллекция хранится в Иркутском областном краеведческом музее. После возвращения из ссылки в 1904 г. вернулся в Польшу, где стал одним из лидеров ППС, а позже ППС-левицы. После революции жил в Австрии, где сблизился с большевиками. Вернулся в Россию после Февральской революции.
Maŋkowski W. Polacy w Tomsku w latach 1910-1920 // Sybirak. 1938. № 3 (15). S. 41-54.
Sokulski J. Pomoc Krakowa dla wygnancow sybirskich (1865-1869) // Sybirak. 1936. № 1 (9). S. 36-44.
Sokulski J. Prawdziwe oblicze Ludwika Zychlinskiego // Sybirak. 1938. № 3 (15). S. 65-71.
Zabęski A. W perspectywie 300 lat // Sybirak. 1934. № 1. S. 30-38.
Zabęski A. Powstancy 63 r. w Orenburgu // Sybirak. 1938. № 2 (14). S. 21-26.
Zemło J. Stberia nie znilka s pamrięci // Sybirak. 1934. № 1. S. 28-29.
Sokulski J. Irkutsk. Metropolia wygnancow polskich po powstaniu styczniowym // Sybirak. 1939. № 3 (19). S. 28-34.
Andronowski M. Ze wspomniem ojca, powstaŋca 1863 r., Sybiraka // Sybirak. 1938. № 2 (14). S. 14-23.
Giza St. Powstanie Polaków nad Bajkalem // Sybirak. 1936. № 1 (9). S. 27-35.
Шостакович Б.С. История поляков в Сибири. Иркутск, 1995. 165 с.
Шостакович Б.С. Феномен польско-сибирской истории (XVII в. - 1917 г.): Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы. М.: МИК, 2015. 752 с.
Сливовская В. Побеги из Сибири. СПб.: Алетейя, 2014. 536 с.
Ханевич В. Александр Мачеша // Поляки в Сибири, поляки о Сибири. Томск, 2012. С. 207-208.
Цабан В. Ссылка поляков в Сибирь в XIX веке. Обзор польских и российских/советских публикаций // Поляки в Сибири в конце XIX века: историографические традиции, новые направления и перспективы исследований. СПб.: Алетейя, 2021. С. 33-70.
Чернавский М.М. На поселении (Воспоминания народника-семидесятника) // Каторга и ссылка. 1932. № 8-9. С. 190-191.
Шостакович Б.С. Сибирские годы Юзефата Огрызко // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. - февраль 1917 г.). Иркутск, 1974. Вып. 2. С. 11-53.
Шостакович Б.С. Историография политической ссылки поляков в Сибирь в XIX - начале XX века // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. - февраль 1917 г.). Иркутск, 1985. Вып. 9. С. 8-22.
Николаев В.И. Сибирская политическая ссылка и изучение местного края // Каторга и ссылка. 1927. № 5 (34). С. 87-116.
Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М.: Госиздат, 1958. 847 с.
Сливовская В. Старые и новые исследования судеб польских ссыльных в Сибири: их место в истории и культуре // Сибирь в истории и культуре польского народа. М.: Ладомир, 2002. С. 278-290.
Сливовская В. Польская Сибирь - мифы и действительность. URL: http://polonia42.ru/news_269.html (дата обращения: 10.10.2022).
Мулина С.А. Память о Сибири в межвоенной Польше // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2016. С. 73-78.
Люди и судьбы: История Анны Пустовойтовой. URL: https://naiwen.livejournal.com/1519972.html (дата обращения: 14.09.2022).
Маньковский В. Поляки в Томске в 1910-1921 гг. // Поляки в Сибири. Поляки о Сибири. Томск, 2012. С. 227-237.
Кон Ф. На поселении в Якутской области // Каторга и ссылка. 1928. № 12 (49). С. 81-93.
Кон Ф. За пятьдесят лет. Т. 3-4. М.: Советский писатель, 1936. 516 с.
Кудрявцев Ф. Поляки в Сибири // Сибирская советская энциклопедия. Т. IV (Макет). Б. м. Б. г. С. 417-420.
Арендт В.Б. Из воспоминаний о польском восстании 1863 г. Иосафат Огрызко // Каторга и ссылка. 1924. № 3 (10). С. 56-64.
Арендт В.Б. Из воспоминаний о польском восстании 1863 г. Анна Теофиловна Пустовойтова // Каторга и ссылка. 1924. № 6 (3). С. 95-103.
Кон Ф. Сказки из сибирской действительности. Томск: Издание кн. маг. П.И. Макушина, 1902. 130 с.
Арендт В-К.Б. Дни Коммуны 1871 г. М.: Ц.К. МОПР, 1929. URL: https://istmat.org/node/27631 (дата обращения: 14.09.2022).
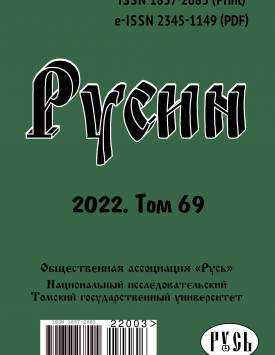

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью