Идея славянской взаимности в мышлении чешских националистов в 1860-е - начале 1870-х гг. (на примере сокольского движения)
Рассматриваются представления о славянском происхождении чешской нации и её своего рода «родственной связи» с другими славянами как важный элемент мышления чешских националистов. Данные представления были изучены на примере сокольского движения в 1860-е - начале 1870-х гг. Возникшее на рубеже 1861-1862 гг. по образцу немецких «Турнферайнов», данное движение соединяло занятия широко понимаемой гимнастикой и приверженность чешскому национализму. Изучение данной проблемы было осуществлено в первую очередь на материале прессы, выступавшей в качестве «несущей стены» чешской националистической культуры. Чешские националисты постоянно стремились подчёркивать свою «славянскость» посредством различных вербальных, визуальных и музыкальных символов. Одним из главных принципов, на которых строилось их мышление, была тотальность, т. е. восприятие чешской нации как наивысшей ценности, исходя из которой должны были совершаться все умозаключения и действия. Руководствуясь данным принципом, националисты подходили к идее славянской взаимности инструменталистски, используя её для формулирования и решения собственных задач. Одно из проявлений этого подхода - приверженность концепции австрославизма, заключавшейся в сотрудничестве славянских наций с целью поставить политику монархии Габсбургов на службу совместным интересам. С этой концепцией был связан стабильный интерес чешских «соколов» к галицким полякам, а также словенцам и хорватам. Внимание чешских националистов к остальным славянам имело волнообразный характер. В изучаемый период такого рода волны были вызваны одним (Шля из регулярных черногорско-турецких военных конфликтов в 1862 г. (популярность т. н. юнацких образов), польским восстанием в Российской империи в 1863 г. (полонофилия и русофобия) и поиском чешскими националистами внешней поддержки после заключения Австро-венгерского соглашения в 1867 г. (русофилия). Перечисленные тенденции оказали влияние на формирование сокольской культуры и деятельность сокольских обществ.
The idea of Slavic reciprocity in Czech nationalist thinking in the 1860s and early 1870s (a case study of the Sokol mov.pdf К значимым чертам развития монархии Габсбургов в XIX в. относится подъём национальных движений, включая чешское. 1860-е гг. стали началом нового, более массового периода в его развитии. Одним из проявлений перемен было возникновение множества добровольных объединений, в том числе сокольских обществ. Эти организации объединяли занятия широко понимаемой гимнастикой и приверженность чешскому национализму. Образцом для «соколов» послужило немецкое турнерское движение, также сочетавшее политическую и спортивную деятельность. Члены сокольских обществ образовывали единое движение и разделяли общую культуру, включавшую, например, такие практики, как совершение «вылетов» (походов или поездок), проведение публичных гимнастических выступлений, организация маскарадов-«шибржинок», использование обращений «брат» и «ты», а также ношение особой сокольской формы. К концу 1871 г. общее число сокольских обществ в Богемии и Моравии превысило 120, а количество их членов составляло более 10 000 человек, что стало временным пиком в процессе распространения движения. Кроме того, в изучаемый период было основано около 20 сокольских обществ за пределами чешских земель (включая словенские, польские, чешские эмигрантские и одну общеславянскую организацию в Швейцарии), уступавших по своему масштабу «Пражскому Соколу» и не образовывавших густой сети. Разнообразная деятельность «соколов» может служить «пробным камнем» при исследовании мышления чешских националистов. Данное мышление строилось на таких принципах, как историзм (придание прошлому функции ключа к пониманию настоящего и даже будущего), органицизм (восприятие всех чехов в качестве частей огромного тысячелетнего живого существа), прогрессизм (убеждённость в том, что совершенствование общества и всего мира является возможным и необходимым), эгалитаризм (представление о равенстве всех представителей нации), владение общим набором символов и тотальность 236 рая Ml vf < сі III 2022. № 69 (восприятие чешской нации как наивысшей ценности, исходя из чего должны были совершаться все умозаключения и действия). Тотальность позволяет определить чешский национализм как политическую религию. Культ чешской нации вел к инструменталистскому отношению ко всем остальным известным идентичностям, в том числе к религиозным (в традиционном понимании этого понятия), сословным, профессиональным, гендерным и территориальным. Что касается последних, в качестве элемента чешского националистического мышления изучаемого периода может быть выделена система территориальных идентификационных установок, включавшая вторичные идентичности, такие как земельные, локальные, франкофильская и рассматриваемая в данной статье славянская, антиидентичности (немецкая) и идентичности, выполнявшие обе эти функции (еврейская и австрийская). История идеи славянской взаимности представляется одним из ключевых вопросов исторической славистики, которому посвящена обширная научная литература [2; 8; 10; 12; 13; 25]. Значение этой идеи для мышления чешских националистов XIX в. затрагивается в ряде обобщающих [16: 79-90, 95-102; 21: 291-342; 30: 34-40] и специальных работ [9; 52] по истории т. н. чешских земель1, а также в исследованиях по чешско-русским [3; 5; 7; 11; 22] и иным чешско-славянским связям [23]. Помимо этого, данный вопрос рассматривается в отдельных межвоенных трудах о сокольском движении [26: 35, 37, 48-49; 27: 63-65], в обрётшей классический статус монографии американской исследовательницы Клэр Нолти о чешских «соколах» во второй половине «долгого XIX в.» [37: 23-24, 31-33, 81-83, 98-100] и в двух статьях этого же историка, касающихся окончания данного периода [35; 36]. Наконец, следует упомянуть работы её чешских коллег-«соколологов» о распространении движения за пределами чешских земель [15; 48] и о международных контактах общества «Сокол» в Брно [59]. Функцию «несущей стены» чешской националистической культуры изучаемого периода выполняли периодические издания, включая пражскую газету с характерным названием Narodn listy («Национальная газета»), начавшую выходить в 1861 г.2 Материалы периодики, а также другие исторические источники позволили установить и уточнить ряд сведений, касающихся, во-первых, представлений о славянском происхождении национального «организма» и о его своего рода «родственной связи» с другими славянами как важном элементе мышления чешских националистов и, во-вторых, влияния данных представлений на деятельность чешских «соколов» в 1860-е - начале 1870-х гг. История 237 Идея о славянской взаимности повлияла уже на начальный этап формирования сокольской культуры. Так, происхождение названия сокольского движения связано с культурным трансфером южнославянского героического образа сильного и смелого мужчины, вои-на-патриота, обозначаемого словом «сокол». Восхищение героями антиосманской вооружённой борьбы за независимость проявлялось и в популярности среди чешских националистов ряда других образов, составлявших т. н. юнацкий дискурс (термин балканиста Франтишека Шистека, связанный с образом «юнака», т. е. молодца-героя) [6]. Также известно, что при разработке сокольской формы предлагалось включить в её состав элементы различных славянских народных костюмов [39: 180-187]. «Соколы» постоянно подчёркивали чешскую принадлежность к славянству. Например, 1 июня 1862 г., в день освящения знамени «Пражского Сокола», знаменосец Ян Долежал назвал в своей речи одной из целей «соколов» - быть «достойными сыновьями матери Славии» [53], а 6 июня 1869 г., в день первого «вылета» «Сокола» Брно, выступление главного редактора местной газеты Moravska orlice («Моравская орлица») Йиндржиха Дворжака было посвящено «большой славянской семье, которой суждено скорое великое будущее», и сокольским обязанностям по отношению к ней [43]. Среди использовавшихся «соколами» визуальных символов чешскости были и такие, которые воспринимались как общеславянские: сине-бело-красный триколор и липа [54]. Само слово «славянский» использовалось чешскими «соколами», чтобы отделить себя от моравских немцев и евреев [56], тогда как в Богемии они использовали термин «чешскославянский» [38]. Далее, одной из часто исполнявшихся на сокольских мероприятиях песен был гимн «Гей, славяне!» [42]. Также известно, что первая версия незарегистрированного устава Союза сокольских обществ содержала пункт о том, что рабочими языками объединения являются «все славянские наречия» [68: 3]. Намеченный на июнь 1868 г., сокольский съезд не состоялся, однако его подготовка стала важным этапом в разработке концепции гимнастических фестивалей, позднее обозначаемых как слеты. Наконец, в возникшем в 1871 г. журнале Sokol («Сокол») рецензируемая литература о гимнастике разделялась на два типа: «славянская» и «инонациональная» [40] Эти сведения опровергают встречающиеся в историографии утверждения о том, что приверженность «соколов» славянской идее стала заметной лишь в период накануне Первой мировой войны [50: 144, 146]. Хотя отдельные чешские деятели XIX в. могли ставить славянские интересы выше национальных, в целом, как отмечает множество исследователей, приверженцы чешского национализма как тотальной сі III 2022. № 69 238 идеологии подходили к идеям чешской славянскости и славянской взаимности инструменталистски, используя их для формулирования и решения собственных задач [16: 79-80; 21: 298-299; 22: 11; 30: 36-37, 65-66]. Представления о славянской взаимности во многом основывались на родственности языков. При этом в изучаемый период носители наиболее близкого к чешскому словацкого языка находились на периферии интересов националистов [16: 83; 23: 47-49, 63-64]. Например, как отметила историк Клэр Нолти, словаки не упоминались в текстах Мирослава Тырша, одного из основателей и главного идеолога сокольского движения [37: 100]. Политические условия и материальное положение словацкого движения на севере Королевства Венгрия не были благоприятными для появления сокольских обществ в этом регионе, хотя отдельные инициативы такого рода имели место уже в 1860-1870-е гг. Импульсом для одной из них послужила церемония освящения знамени «Сокола» в Брно в 1871 г., участникам которой словаки отправили множество приветственных телеграмм [60]. Сокольское празднество посетил ряд известных словацких националистов, например священник Йозеф Милослав Гурбан и адвокат Павол Мудронь. На банкете П. Мудронь произнёс речь о чешско-словацком братстве, в которой было задействовано как естественное («Кровь - не вода!»), так и историческое понимание нации и её территории, - последнее выражалось в отсылке к Великой Моравии и входившей в её состав Нитре [34: 2]. Идея исторического государственного права была одной из определяющих в идеологии чешского национализма. Согласно этой концепции, многовековая чешская государственность являлась национальной, суверенной и непрерывной. Однако данная идея чаще связывалась с землями Короны святого Вацлава и, таким образом, не затрагивала венгерскую территорию. При этом входившая до XVII в. в состав Чешской Короны Верхняя и Нижняя Лужица также не была предметом активного интереса чешских националистов. Редким исключением была, например, приветственная телеграмма, отправленная в октябре 1863 г. в саксонский Баутцен (Будишин) участникам певческого праздника от «соколов» г. Нова-Пака [69]. В дальнейшем внимание, уделявшееся чешскими националистами лужицким сербам, и особенно словакам, возрастёт, что также отразится на сокольском движении. История развития чешских образов этих двух наций в период до Первой мировой войны отражает волнообразный характер интереса националистов ко всем славянам, кроме тех, чьи политические представители могли претендовать на главенство в избираемых органах власти отдельных австрийских История 239 земель. Примером такого рода волны может служить своеобразная «лихорадка» 1862 г., связанная с одним из регулярных черногорскотурецких военных конфликтов. Всплеск интереса к южным славянам проявил себя особенно ярко в среде членов чешских гимнастических обществ из-за переплетения их образа с представлениями о черногорских воинах-«соколах». Например, на праздничном вечере в гимнастическом зале «Пражского Сокола» в мае 1862 г. хорватский студент Август Шеноа, впоследствии ставший известным писателем, в пространном тосте предложил вспомнить «ещё одно соколиное гнездо» - Черногорию [33]. В августе того же года, во время чешского празднества на горе Радгошть в Моравии, пражский «сокол» Франтишек Барвич призвал организовать сбор средств для черногорцев и назвал последних «этими южными соколами» [65]. Следующий подобный подъём интереса к южным славянам произошел лишь в период т. н. «Восточного кризиса» второй половины 1870-х гг. В начале 1863 г. внимание чешской националистической прессы переключилось с черногорских событий на польское восстание в Российской империи [22: 104-111; 64: 142-143]. Характерным в этом смысле был фельетон в одном из мартовских номеров газеты Moravan («Мораванин», Оломоуц): «...образованная Европа... в данный момент безучастно наблюдает за борьбой польских белых орлов, как ранее за битвами черногорских соколов» [47]. Согласно воспоминаниям члена «Пражского Сокола» Вацлава Червинки, большая часть «соколов» заняла полонофильские и русофобские позиции, считая, что «все поляки - это образцовые патриоты, храбрецы и благородные люди, а русские всегда были настоящими угнетателями и извергами» [20: 92, 98]3. Как и во время черногорских событий, «соколы» участвовали в сборе средств на помощь раненым [46]. Несколько «соколов» даже якобы отправились, писал Червинка, на поле боя в качестве добровольцев [20: 100-101]. Польские события стали важным фактором чешской внутренней политики, способствовав кристаллизации течений младочехов и старочехов [16: 96-99, 219-220; 22: 111]. Сокольские симпатии к восстанию означали поддержку младочехов. Так, Червинка вспоминал, что его друг, врач Эмануэл Энгел, демонстративно вышел из «Пражского Сокола» из-за казавшейся ему несправедливой критики в адрес «вождей» чешского национального движения: Франтишека Палацкого, Франтишека Ладислава Ригера и Франтишека Августа Браунера [20: 93, 103-104]4 (при этом уже в 1864 г. Энгел станет инструктором «Пражского Сокола», а Ригер -рядовым членом [39: 196, 215]). Импульсом к сближению «Пражского Сокола» и всего сокольского движения с младочехами послужила их особая связь с газетой 240 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 Narodrn listy, во главе которой стояли братья Эдуард и Юлиус Грегры. Хотя эта тенденция была заметна ещё до польского восстания [37: 51], данное событие могло повлиять на произошедшую в октябре 1863 г. смену руководства «Пражского Сокола», в результате которой сторонники аполитичного направления были смещены т. н. «старой гвардией», одним из лидеров которой был Э. Грегр [37: 68]. В последующий период, несмотря на регулярные заявления о внепартийном характере сокольства, движение сохраняло особую связь с младоче-хами [37: 31, 110-111]. Ежедневная пресса и органицистское мышление националистов позволяли последним остро воспринимать те происходившие на значительном расстоянии события, которые затрагивали «нервные окончания» чешской и других славянских наций. Подобным образом во второй половине 1863 г. для австрийских гимнастов-турнеров и других немецких националистов большое значение приобрёл конфликт по поводу Шлезвиг-Гольштейна5. Если имевшая место в 1863 г. волна внимания чешских националистов к полякам из Царства Польского и других частей Российской империи была связана с сочувствием их радикальной борьбе за национальную независимость, то стабильный интерес чехов к галицким полякам, а также словенцам, хорватам и иным австрийским славянам был связан со стремлением к мирным преобразованиям в монархии Габсбургов. Предпочтение этого пути выражалось, например, в речи секретаря «Пражского Сокола» Томаша Черного на сессии общего собрания членов организации в марте 1863 г.: «Я не думаю, что здесь, вокруг нашего города, когда-нибудь будут иметь место страшные кровавые картины, подобные тем, что можно видеть сейчас вокруг польской Праги6; я не думаю, что нам когда-нибудь потребуется, как несчастной братской нации, с героическими боями продвигаться через потоки крови от одного разрушенного города к другому и прорываться через опустошённые родные края к лучам свободы; я надеюсь, что никакие тучи не затмят рассвет свободы над Австрией и нашей Родиной и что без всякой крови и оружия это пока только лишь восходящее солнце окажется в зените...» [78]. Способом достичь «зенита свободы» многие чешские националисты считали реализацию концепции австрославизма, заключавшейся в сотрудничестве славянских наций, якобы составлявших в монархии Габсбургов большинство7 (т. е. обладавших наряду с историческими большими естественными правами), с целью поставить политику государства на службу совместным интересам [16: 80-90; 22: 47-48, 51-53, 92; 30: 38-40]. Основная интерпретация данной концепции предполагала переустройство Австрии в федеративное государство. История 241 Чешские националисты поддерживали галицких сторонников данной программы. В 1867 г. во Львове, столице Королевства Галиции и Лодомерии, было учреждено польское общество «Сокол». В сентябре 1868 г. «Пражский сокол» и его «братья» из соседнего Карлина отправили благодарственные телеграммы польскому политику Франци-шеку Яну Смолке, безуспешно выступавшему против делегирования представителей Сейма Галиции в Рейхсрат [57; 58]. Частью Галиции было де-юре автономное Великое княжество краковское. В июле 1869 г. в Кракове прошли повторные похороны короля Казимира III Великого, чьё тело было обнаружено накануне. «Соколы» Смихова, ещё одного поселения рядом с Прагой, подписали официальное письмо местного магистрата Краковскому городскому совету. Федералистский смысл имели упоминание союзных отношений польского монарха с чешским королём Карлом IV и пожелание возрождения былой славы города [44]. Ещё одним партнёром чешские политики желали видеть словенских националистов, которые, как и галичане, основали в рассматриваемый период несколько сокольских обществ (включая первую такую организацию за пределами чешских земель в Любляне в 1863 г.). Различные «австрославянские» общества рассматривались как потенциальные члены вышеупомянутой центральной организации, которую пытались создать в Праге в 1868 г. [28]. Характерно, что одной из любимых песен чешских «соколов» был словенский марш Naprej zastava slave [51]8. Само словенское слово ‘Naprej' («Вперед») заканчивает текст программной статьи М. Тырша «Наша задача, направление и цель» (1871) и встречается в других его работах [61: 4]. Чешские националисты с интересом следили за политическими событиями в Герцогстве Крайна и других землях, где проживали словенцы. Так, их внимание привлекли сообщения о физических столкновениях люблянских турнеров с местными «соколами» в 1867 г. [71] и словенскими крестьянами в 1869 г. [70]. Они воспринимались как часть немецко-славянского конфликта в Австрии. Одним из последствий интереса к политической борьбе в Крайне было то, что 1869 г. на короткое время в чешский политический словарь проникло словенское понятие nemskutar («онемеченный»), применявшееся, например, в отношении к жителям моравского Тишнова, негативно настроенным к «соколам» [75]. Летом 1869 г. инцидент, произошедший с богемскими «соколами» в деревне Велка-Боровнице, и подобный конфликт с участием моравских турнеров в деревне Быстрц ставились чешскими националистами в один ряд со словенскими событиями [18]. Как и при взаимодействии с галицкими поляками, «соколы» использовали телеграфию для осуществления контактов с хорватскими 242 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 националистами. Так, в октябре 1862 г. «Пражский Сокол» поздравил загребское певческое общество «Коло» с их первым музыкальным вечером [63]9, а в марте 1863 г. «Коло», в свою очередь, отправило телеграмму чешским гимнастам, праздновавшим свою первую годовщину [67: 2]. В декабре 1866 г. «соколы» отослали приветствие венскому «Славянскому певческому обществу», отмечавшему 300-летие смерти хорватского национального героя полководца Николы Зринского (Миклоша Зриньи) [76]. В июле 1867 г. загребское «Коло» организовало концерт в честь открытия «Южнославянской академии». Пражские гимнасты отправили новому обществу поздравительную телеграмму. Среди инициаторов создания «Академии» был епископ Джяково (Дьяково (Славония)) Йосип Юрай Штросмайер [77], почётный член люблянского «Южного Сокола» (этим статусом также обладали М. Тырш и Т. Черный) [32: 10]. В ноябре 1863 г. этот хорватский политик посетил Прагу. «Соколы», по данным прессы, планировали принять участие в факельном шествии в его честь, которое, однако, не было согласовано [17]. Австро-венгерское соглашение 1867 г., шедшее вразрез с концепциями чешского исторического и естественного государственных прав и австрославизма, послужило импульсом для поиска чешскими националистами внешней поддержки. Вплоть до последних лет существования монархии Габсбургов большинство из них рассматривало в качестве своих главных союзников Россию и Францию [16: 99-101; 21: 286-287, 313; 22: 128; 64: 151]. Ориентация на Россию опиралась на идею славянской взаимности. Как отмечал историк Йиржи Коржалка, развитию образа этой страны в чешской культуре длительное время было свойственно быстрое преодоление периодов разочарования [30: 66]. Так, за волной русофобии 1863 г. последовал бум русофильства в 1867 г. [16: 101; 64: 145, 150], во многом схожего с предшествующими черногорской и польской модами. Этот феномен был тесно связан с прошедшими в апреле-июне 1867 г. Всероссийской этнографической выставкой и Славянским съездом в Москве, а также с сопутствующими мероприятиями в Санкт-Петербурге. Чешские националисты отправили на данное мероприятие наиболее крупную иностранную делегацию, что являлось демонстрацией протеста против немецко-венгерского дуализма [3: 56-57; 22: 117-118; 64: 158-159]. В состав чешской делегации входил заместитель старосты «Пражского Сокола» Т. Черный, а также ряд других лиц, связанных с изучаемым движением, например бывший член правления упомянутой организации Ю. Грегр [3: 57, 64; 45]10. В письме организатора чешской поездки, писателя и учёного Карела Яромира Эрбена, священнику русской посольской церкви в История 243 Вене Михаилу Федоровичу Раевскому Черный был представлен как сокольский деятель [19: 57]. Подобным образом он описывался и в санкт-петербургской газете «Русский инвалид». Журналист Василий Васильевич Андреев составил краткий биографический очерк о Т. Черном, к которому прилагалось одно из первых описаний сокольского движения на русском языке. Среди прочего в данном тексте утверждалось, что сокольство «в недолгое существование своё уже успело принести немалую пользу не одному чешскому, но вообще славянскому народному делу». Также газета «желала придать возможно полную гласность» предложению об «учреждении подобных же обществ в России» [1]11. Там же сообщалось, что Черный передал русским деятелям первый сокольский статистический сборник (издан в 1866 г.). Согласно позднейшим источникам, специально для этого мероприятия М. Тырш создал малотиражную работу «Сокольские упражнения» [39: 332]. Текст о Т. Черном и сокольстве в «Русском инвалиде» содержал указание на то, что одним из источников В.В. Андреева были разговоры с владевшим русским языком переводчиком Эмануэлом Ваврой. Вавра подробно сообщал о поездке в Россию в письмах своему тестю - литератору Карелу Сабине. Последний, будучи агентом австрийской полиции, передавал эти письма властям [22: 118-119]. Среди прочего Вавра упоминал разговоры о планах «организовывать сокольские общества вроде нашего во всех русских городах с центральным обществом в Москве» [29: 133]. Такого рода планы касательно «святой Руси» также упоминались в одном из цитируемых в историографии писем М. Тырша [27: 63-64]. Славянский съезд длительное время был одной из главных тем чешской «Национальной газеты», в ней были опубликованы пересказ материала «Русского инвалида» о сокольстве [49] и текст телеграммы «От “сокола”», отправленной из Праги в Москву: «Мы, чешские славяне, передаем привет нашим братьям, великой славянской нации! Будущее - за нами!» [41: 2]12. Одновременно среди чешских националистов возникла мода на всё русское [21: 311; 22: 145, 150]. В первую очередь это касалось языка. Например, редакция пражского журнала Kvety («Цветы»), преобразованного летом 1867 г. в иллюстрированное издание, до конца 1868 г. подписывала все изображения по-русски: так, уже первый после смены формата номер этого издания включал изображение проекта «Памятника Фюгнера13, старосты общества Сокол в Праге», и сделанную Франтишеком Чер-маком зарисовку публичного выступления гимнастов, обозначенного как «Продукция общества Сокол на Роганском острове в Праге 19/7 мая»14 [31: 1, 5]. Согласно данным прессы, в июне 1867 г. в Кутна-Горе 'Сі III 2022. № 69 244 пражских «соколов» и других участников освящения знамени местного чешского гимнастического общества приветствовали надписи на кириллице (вероятно, на русском языке, но также возможно, что это были транслитерированные чешские предложения) [66], а в июле того же года осуществлению подобной акции в Турнове, который был целью совместного «вылета» «Пражского Сокола» и общества «Художественная беседа», стремилась помешать местная полиция [73] (в историографии также сообщается, что в 1868 г. кириллица была использована при создании знамени «Сокола» Бероуна [26: 43]). В сентябре 1867 г. внимание органов правопорядка привлёк другой «вылет» пражских «соколов»: во время юбилейных празднеств в Двур-Кралове, связанных с 50-летием «обнаружения» поддельной Краледворской рукописи, неоднократно звучал возглас «Ура!» (чеш. Ura), ассоциировавшийся в этот период с Россией [39: 117]. Ещё в мае того же года во время похода «Сокола» Млада-Болеслава этот возглас прозвучал в честь чешских участников «паломничества в Москву» [72]15. Несмотря на миссию Т. Черного, единственными сокольскими обществами в России в рассматриваемый период были организации чешских колонистов на Волыни - в селах Мирогоща и Теремно16, возникшие в 1870-1871 гг. Со стремлением распространить движение в крупнейшем славянском государстве был связан инцидент, произошедший в начале 1871 г. с посетившими Прагу графом Фёдором Львовичем Соллогубом и купцом Александром Александровичем Пороховщиковым (см.: [4: 407, 552]). Согласно сообщениям прессы, они якобы заявили о желании пригласить одного из сокольских инструкторов в Россию и договорились о проведении для них демонстрации гимнастических упражнений членами «Пражского Сокола», однако затем не явились в назначенное время. М. Тырш отреагировал на этот инцидент, опубликовав заметку в журнале Sokol. Лидер движения подчеркнул, что поведение Соллогуба и Пороховщикова не повлияет на «искренние чувства любви, которые мы всегда испытывали к русским братьям и никогда не перестанем испытывать». Тырш также высказал надежду, что в будущем движение объединит всю славянскую «омладину» (юнацкое обозначение молодёжи), всю «богатырскую силу ваших Игорей и наших Забоев»17 [62]. Этот текст свидетельствует о сохранении в начале 1870-х гг. русофильской тенденции. Характерно, что в июне 1870 г., во время публичного выступления поддерживаемого «соколами» чешского «Гимнастического общества пражских дам и барышень», звучала песня «Красный сарафан», считавшаяся «русской народной» [74]18. Ещё одним проявлением этой тенденции был тост, прозвучавший в мае История 245 1871 г. во время торжеств по случаю освящения знамени «Сокола» Брно. Участник праздничного банкета, адвокат и сокольский деятель Йозеф Фандерлик, предложил выпить «за славянское единство и нацию, простирающуюся от Карпат до Тихого океана» [34: 2]. К. Нолти предположила, что осенью 1871 г. недостаточная поддержка со стороны России «Фундаментальных статей», т. е. проекта австро-богемского соглашения, привела к охлаждению русофильства М. Тырша [37: 99] (ср.: [22: 139]). Тем не менее после определенного падения интереса к России в первой половине 1870-х гг., во второй половине десятилетия она вновь вместе с балканскими славянами станет объектом симпатий чешских националистов. Эти симпатии порой использовались в немецкой публицистике XIX в. как повод для обвинений чешских «соколов» в «панславизме», т. е. стремлении к политическому объединению славян под крылом России [21: 331; 64: 140-141]. Как отмечается в историографии, изначально данное слово не было связано с подобным стремлением [10: 47-50], однако впоследствии термин «панславизм» приобрёл соответствующее значение. В этой связи его использование в отдельных работах о сокольском движении в качестве синонима идеи славянской взаимности представляется неточным [14; 50: 143, 151] (ср.: [8: 55; 16: 79, 96]). В последующий период идея славянской взаимности продолжила играть значимую роль в мышлении чешских националистов. Так, в феврале 1881 г. темой сокольского маскарада-«шибржинок» стал Славянский съезд, а местом проведения - Дворец Жофин, где прошло знаменитое собрание 1848 г. [39: 209]. В октябре 1882 г. Т. Черный, возглавлявший «Пражский Сокол» с 1872 г., стал приматором (мэром) столицы Богемии. В своей инаугурационной речи он назвал этот город «золотой славянской Прагой» [55]. Ранее, в июне 1882 г., в Праге прошёл первый сокольский слёт. На эти масштабные фестивали всегда приглашались представители различных славянских наций, которых чешские «соколы» стремились объединить в Союзе славянского сокольства (1908-1914) и Союзе «Славянское соколь-ство» (1925-1939). В 1947 г. совокупное число взрослых членов чехословацких сокольских обществ и обучавшихся в них детей и подростков превысило миллион человек, однако вскоре возникшие в 1860-е гг. сокольские движение и культура перестали являться значимым фактором развития изучаемого региона. Вторая мировая и холодная войны усилили значение категорий «Восток» и «Запад» для чешского мышления. Они остались востребованными и после 321989 г., при этом представления о «Востоке» оказали заметное влияние на восприятие славянской взаимности. Подводя итоги, следует вновь отметить значение для мышления сі III 2022. № 69 246 чешских националистов принципа тотальности, руководствуясь которым они стремились к определению свойств всех считавшихся вторичными идентичностей, включая славянскую. Чешские националисты подходили к идее славянской взаимности инструменталистски, используя её для формулирования и решения собственных задач. Одним из проявлений этого подхода была приверженность концепции австрославизма, заключавшейся в сотрудничестве славянских наций с целью поставить политику государства на службу совместным интересам. С этой концепцией был связан стабильный интерес чешских «соколов» к галицким полякам, а также словенцам и хорватам. Внимание чешских националистов к славянам, чьи политические представители не могли претендовать на главенство в избираемых органах власти отдельных австрийских земель, имело волнообразный характер. В изучаемый период такого рода волны не затронули все славянские нации: например, словаки и лужицкие сербы находились на периферии интересов чешских националистов. К 1862 г. относится волна внимания к южным славянам, связанная с одним из регулярных черногорско-турецких военных конфликтов. Особенно ярко она проявилась в среде членов чешских гимнастических обществ из-за переплетения их образа с юнацкими представлениями о черногорских воинах-«соколах». В начале 1863 г. внимание националистов переключилось на польское восстание в Российской империи. Значительная часть чешских «соколов» заняла полонофильские и русофобские позиции, которые, однако, вскоре были оставлены. Австро-венгерское соглашение 1867 г. послужило импульсом для поиска чешскими националистами внешней поддержки. Большинство из них рассматривало в качестве своих главных союзников Россию и Францию. Бум русофильства, ставший в рассматриваемый период третьей «славянской волной», был тесно связан со Славянским съездом, прошедшим в мае и июне 1867 г. в Москве. В состав чешской делегации на этом съезде входил Т. Черный, предпринявший первую попытку инициировать распространение сокольского движения в России. В этот период среди чешских националистов возникла мода на всё русское, проявившаяся в том числе в ходе ряда сокольских мероприятий. История сокольского движения также может служить подтверждением стремления чешских националистов постоянно подчёркивать свою «славянскость» посредством различных вербальных, визуальных и музыкальных символов. Таким славянским символом постепенно стал сам «Сокол», что, в свою очередь, способствовало распространению этого движения за пределы чешских земель. Это распространение означало осуществление трансфера сокольской История 247 культуры, сформированной в 1860-е гг. в специфических условиях начала массового этапа развития чешского национального движения, включая заметное влияние идеи славянской взаимности. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Во второй половине XIX в. уже не существовало особой административной связи между Богемией, Моравией и Австрийской Силезией, анахронично обозначаемыми в историографии как «чешские земли». 2. В 1867-1868 гг. данная газета печаталась под названием Narodrn noviny, что также означало «Национальная газета». 3. В чешском языке XIX-XXI вв. понятия «русские» и «россияне» не разграничивались (в отличие от, например, категорий «мадьярское» и «венгерское»). 4. Утверждение историка Франтишека Чапки о невовлечённости членов общества в дискуссии о польском восстании представляется дискуссионным [15: 35]. 5. Сравнение противоположных внешних идентификационных установок чешских и немецких националистов, проживавших в т. н. чешских землях, представляется одним из перспективных путей продолжения данного исследования. 6. Один из районов Варшавы. 7. В изучаемый период носители славянских языков зачастую ещё не воспринимали национальную идентичность в качестве главной и неизменной. 8. В 1918-1989 гг. этот марш был гимном Словении как части Королевства сербов, хорватов и словенцев и затем - Югославии, а в настоящее время используется Вооружёнными силами Словении. Его первая строка означает «Вперёд, знамя славы», однако также она могла восприниматься как «Вперёд, знамя Славии» (славянства). 9. Ф. Чапка (или переводчик его статьи) неверно интерпретировал название этой организации, названной в честь южнославянского танца, как «Колесо» [15: 36]. 10. В историографии встречается неверное сообщение о том, что съезд якобы посетил член правления «Пражского Сокола» Э. Грегр [24: 34]. 12. Выходные данные этой газеты даются по юлианскому календарю, а обнаруженные в ней и других источниках имена, названия и цитаты приводятся в соответствии с новой орфографией. 12. Утверждение Ф. Чапки о том, что летом 1867 г. в «Национальной газете» сообщалось об отсутствии понимания сокольской идеи в России [15: 38], не находит подтверждения в данном источнике. рая 248 сі III 2022. № 69 Mi. ЩІ 13. То есть Йиндржиха Фигнера, возглавлявшего общество в 1862-1865 гг. 14. То есть 19 мая 1867 г. по грегорианскому календарю и 7 мая -по юлианскому. 15. За исключением Москвы все упомянутые в данном абзаце города располагались в Богемии. 16. В настоящее время - в составе города Луцк (Украина). 17. Герои «Слова о полку Игореве» и Краледворской рукописи, отождествляемые, соответственно, с русскими и чехами. 18. Её авторами были Александр Егорович Варламов и Николай Григорьевич Цыганов.
Ключевые слова
чешско-российские связи,
чешский национализм,
австрославизм,
сокольское движение,
славянская взаимностьАвторы
| Котов Виктор Викторович | | Независимый исследователь, выпускник Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (специалитет, 2011) и философского факультета Университета Масарика в Брно (магистратура, 2015). | vikvikkot@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Zpráva jednatele // Národní listy. 1863. 18.03.S. 3.
Z Prahy, 20. července // Moravská orlice. 1867. 23.07. S. 1.
Z tělocvičného spolku paní a dívek pražských // Ženské listy. 1870. № 2. S. 7.
Ze Záhřeba, 29. července // Národní listy. 1867. 01.08. S. 2.
Z Tišnova // Moravská orlice. 1869. 15.07. S. 3.
Zábava Sokolů // Národní listy. 1866. 21.12. S. 3.
Z Mnich. Hradiště // Boleslavan. 1867. 07.06. S. 93.
Z Lublaně, 23. května // Národní listy. 1869. 25.05. S. 1.
Z Lublaně, 24. července // Národní noviny. 1867. 28.07. S. 2.
Z Budyšína, 9. října // Národní listy. 1863. 12.10. S. 1.
Ve valné hromadě // Národní listy. 1862. 27.10. S. 1.
Vlček R. Ruský panslavismus - realita a fikce. Praha: Historický ústav AV ČR, 2002. 291 s.
Výlet na Radhošť // Národní listy. 1862. 19.08. S. 2.
Výlet Sokola do Hory Kutné // Národní noviny. 1867. 29.06. S. 3.
Výroční slavnost “Sokola” // Národní listy. 1863. 02.03. S. 1-2.
Výroční valná schůze tělocvičné jednoty pražské “Sokol” // Národní listy. 1872. 22.03. S. 2-3.
Telegramy k slavnosti došle // Moravská orlice. 1871. 01.06. S. 2.
Tyrš M. Náš úkol, směr a cíl // Sokol. 1871. № 1. S. 1-4.
Tyrš M. Sovremennyja Izvěstia // Sokol. 1871. № 5. S. 40-41.
Sokolům Brněnským! // Moravská orlice. 1865. 13.06. S. 3.
Solidárnost slovanská (1) // Národní noviny. 1868. 23.09. S. 2.
Solidárnost slovanská (2) // Národní noviny. 1868. 24.09 (příloha). S. 1.
Strachová M., Vostrý Z. International Relations of Sokol Brno I Association between 1862 and 1914 // Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. 2020. № 1. P. 142-153. DOI: 10.5817/cphpj-2020-000
Slavnost svěcení práporu “Sokola” // Národní listy. 1862. 02.06. S. 1.
Slavnost svěcení práporu “Sokola” brněnského // Moravská orlice. 1871. 01.06. S. 1-2.
Slovanská Praha // Národní listy. 1882. 10.10. S. 1.
Slavnost Havlíčková v Borové // Národní listy. 1862. 22.08. S. 1.
“Slavme slavně slávu Slávóv slavných”: slovanství a česká kultura 19. století: sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 24.-26. února 2005 / eds. Z. Hojda, M. Ottlová a R. Prahl. Praha: KLP, 2006. 438 s.
Sirotkina I. Cultivating the Slavic body: The Rugged Flight of the Russian Sokol // Konzepte des Slawischen / eds. T. Glanc, C. Voß. Leipzig: Biblion Media, 2016. S. 143-156.
Ruský hlas o naších Sokolech // Národní noviny. 1867. 13.06. S. 3.
Písemnictví slovanské // Sokol. 1871. № 1. S. 8-9.
Pouť hostí slovanských na výstavu národopisnou v Moskvě // Národní noviny. 1867. 22.06. S. 1-2.
První sjezd česko-západních jednot sokolských v Plzní // Národní listy. 1871. 27.09. S. 2.
První výlet “Sokola” brněnského // Moravská orlice. 1869. 09.06. S. 2.
Přípis městské rady smíchovské k městské radě krakovské // Národní listy. 1869. 11.07. S. 2.
Přípravy k uvítání hostí slovanských // Národní listy. 1867. 27.04. S. 2.
Příspěvky. Pro raněné Poláky // Národní listy. 1863. 06.06. S. 3.
Revoluce polská 1831 // Moravan. 1863. 19.03. S. 1.
Roček A. Sokol a Rusko do bolševické revoluce v roce 1917 // Sokol v české společností 1862-1938. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy, 1996. S. 185-202.
Nolte C.E. The Sokol in the Czech lands to 1914: Training for the Nation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. 258 p.
Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokola Pražského / eds. J. Müller, F. Tallowitz. Praha: Sokol Pražský, 1883. 340 s.
Od výboru tělocvičné jednoty Pražské // Národní listy. 1863. 11.09. S. 3.
Nolte C.E. Celebrating Slavic Prague: Festivals and the Urban Environment, 1891-1912 // Bohemia. 2012. № 1. P. 37-54.
Květy. 1867. № 1. 8 s.
Letno poročilo telovadnega društva «Sokol» v Ljubljani za društveno dobo od 21. decembra 1879 do 31. decembra 1880. Ljubljana: Narodna tiskarna, 1881. 10 s.
Národní slavnost // Národní listy. 1862. 20.05. S. 3.
Národní slavnost brněnská // Národní listy. 1871. 31.05. S. 1-2.
Nolte C.E. All for one! One for All! The federation of Slavic Sokols and the Failure of Neo-Slavism // Constructing nationalities in East Central Europe / eds. P.M. Judson, M.L. Rozenblit. New York: Berghahn Books, 2005. P. 126-140.
Jandásek L. Přehledné dějiny Sokolstva. Část I. Od vzniku Sokola (1862) do založení České obce sokolské (1889). Praha: Československá obec sokolská, 1936. 143 s.
Jandásek L. Život Dr. Miroslava Tyrše. Brno: Moravský legionář, 1932. 174 s.
K sjezdu sokolskému // Národní listy. 1868. 01.07. S. 3.
Kazbunda K. Pouť Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie. Praha: Orbis, 1924. 143 s.
Kořalka J. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo, 1996. 354 s.
Inventing Slavia: proc. of the workshop held and organized by Slavonic Library (Prague, November 12th 2004) / eds. T. Glanc, H. Meyer, J. Vel‘mezova. Prague: National Library of the Czech Republic - Slavonic Library, 2005. 139 p.
Havránková H. Vznik Sokola a jeho vývoj do utvoření České obce sokolské // Sokol v české společností 1862-1938. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy, 1996. S. 9-54.
Doubek V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha: Academia, 2004. 315 s.
Doubek V. Latent Czechoslovakism: a topic of politicization for nineteenth-century liberal elites // Czechoslovakism / eds. A. Hudek, M. Kopeček, J. Mervart. London; New York: Routledge, 2022. P. 37-67. DOI: 10.4324/9781003205234
Červinka V. U kolébky Sokola. Praha: Šolc a Šimáček, 1920. 105 s.
České země v 19. století: proměny společnosti v moderní době. II / ed. M. Hlavačka. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 476 s.
Чешская нация на заключительном этапе формирования. 1850 - начало 70-х годов XIX в. / отв. ред. В.И. Фрейдзон. М.: Наука, 1989. 272 с.
Biskup Strossmayer v Praze // Moravská orlice. 1863. 29.10. S. 3.
Bystrcké události // Moravská orlice. 1869. 17.07. S. 1.
Cesty na východ: Češi v korespondenci M.F. Rajevského / ed. V. Doubek. Praha: Masarykův archiv, 2006. 378 s.
Федотова О.Д., Спивак И.А., Карпова Г.Ф. Влияние панславистских идей Мирослава Тырша на просветительскую деятельность российских общественных организаций начала ХХ века // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. № 1. 10 c. URL: https://mir-nauki.com/PDF/02PDMN122.pdf (дата обращения: 04.11.2022).
Чапка Ф. Начальный этап развития физкультурного движения «Сокол» в чешских землях и славянство // Славянский сборник: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А.Н. Галямичев. Саратов: Наука, 2013. Вып. 11. С. 30-40.
Славянский вопрос: вехи истории / отв. ред. М.Ю. Досталь. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. 212 с.
Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890-1937 годы: bдейные воззрения, политическая активность, связи с российскими государственными и общественными деятелями. М.: Наука, 2006. 512 с.
Славянская идея: история и современность / отв. ред. В.А. Дьяков. М.: Ин-т славяноведения РАН, 1998. 174 с.
Павленко О.В. Панславизм // Славяноведение. 1998. № 6. С. 43-60.
Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в нач. XX века. Чехи, словаки и неославизм. 1898-1914. М.: Наука, 1984. 240 с.
Ксенофонтов И.А. Франтишек Ладислав Ригер в поисках зарубежных союзников в 1867-1871 гг. // Славянский мир: общность и многообразие: тезисы молодежной науч. конф. в рамках Дней славянской письменности и культуры, 22-23 мая 2018 г. / отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2018. С. 55-59. DOI: 10.31168/2619-0869.2018.1.4.2
Лескинен М.В. Славянское единство: от лингво-культурной классификации к политической мифологизации // Славяноведение. 2013. № 6. С. 52-61.
Главачка М. Еще раз о поездке австрийских славян в Россию в 1867 г. // Славяноведение. 2007. № 1. С. 54-65.
Котов В.В. Южнославянско-чешский культурный трансфер образа сокола как формы репрезентации нации // Люди, львы, орлы, куропатки… Антропоморфные и зооморфные репрезентации наций и государств в славянском культурном дискурсе: сб. науч. статей / под ред. М.В. Лескинен, Е.А. Яблокова. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2020. С. 61-88. DOI: 10.31168/0441-1
Киселькова Н.В. Российский фактор в общественно-политической жизни чехов в 50-70-е гг. XIX в. (по материалам архива М.Ф. Раевского) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2008. 33 с.
Дмитриев А.П. Н.П. Гиляров-Платонов и русская литература 1850-1880-х годов / отв. ред. Б.Ф. Егоров. СПб.: Родник, 2018. 912 с.
Андреев В.В. Славяне, приехавшие в Россию // Русский инвалид. 1867. 28.05. С. 8.
Белов М.В. Перекрестная история «славянской взаимности» // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. № 2. С. 3-14. DOI: 10.21638/11701/spbu19.2017.204
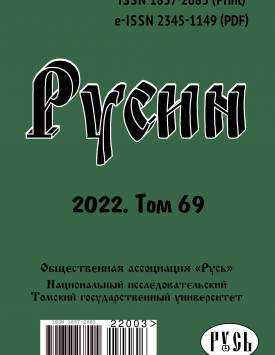

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью