На основе анализа работ известного политика и мемуариста В.В. Шульгина, опубликованных им в эмигрантских газетах и журналах, рассматриваются его взгляды на происхождение славянских народов и украинский вопрос. Стремясь доказать «русскость» населения Украины, он нередко обращался к историческим источникам, хотя использовал их как публицист, а не как учёный. Размышляя о происхождении Руси, В.В. Шульгин неоднократно пересказывал теорию, пропагандируемую генералом Г.Е. Янушевским и основанную на легенде о трёх братьях - Чехе, Лехе и Русе. Согласно этому преданию, в III в. н. э. они прибыли из римской провинции Паннонии и обосновались в Чехии, Польше и Галицкой Руси и стали «прародителями чешского, польского (ляшского) и русского народов». Отсутствие в этой легенде «брата Укра» представлялось политику серьёзным аргументом в пользу того, что украинский народ носит искусственный характер. По его мнению, термин «украинцы» был изобретён поляками в XVIII в., ранее же народа под таким названием не существовало, а сам термин использовался для обозначения жителей окраин, т. е. имел территориальное, а не национальное значение. В своих статьях Шульгин выступал против «политического украинства», стремившегося к сепаратизму и насаждению «языка Грушевского», хотя никогда не отрицал наличия местной культурной традиции. Решение же украинского вопроса он видел в признании правильности выбранного некогда Богданом Хмельницким пути.
Vasily Shulgin: Reflections on the origin of Rus and the Ukrainian question (based on the emigre journalism).pdf Василий Витальевич Шульгин - известный политический и общественный деятель, проживший поистине удивительную жизнь. Ему довелось выступать с трибуны Государственной думы, принимать отречение Николая II во время Февральской революции, стать одним из идеологов и организаторов Белого движения, а позже активным деятелем русской эмиграции. Однако перечисленные события составляют лишь малую часть его биографии. Кроме того, В.В. Шульгин известен своим богатым публицистическим наследием, которое и сегодня не теряет актуальности, активно издаётся и используется историками в исследованиях различной тематики. Многое из написанного политиком стало пророческим. В дореволюционный период В.В. Шульгин в своих статьях неоднократно обращал внимание на опасность украинского национализма, а позже продолжал раскрывать данную тему уже в эмигрантской публицистике. В 1929 г. он напишет: «Можно, конечно, думать, что украинский вопрос переживёт коммунистов. Первые изжиты больше, главным образом, потому что внешние силы их не поддерживают... Украинцев же поддерживает целый ряд внешних сил явно и тайно и будет поддерживать. Перечислять их сейчас не место, но в этом, конечно, причина, почему украинский вопрос может оказаться более долголетним, чем большевистский» [26: 1-2]. О политической деятельности В.В. Шульгина написано множество статей, затрагивающих её различные аспекты. Это работы А.В. Реп-никова [4-6], А.А. Чемакина [8-10], А.С. Пученкова [2], Д.И. Бабкова [1]. Рассмотрению точки зрения политика на украинский вопрос посвящена статья А.В. Репникова [3], в которой автор приводит краткую биографию Василия Витальевича и публикует материалы из его книги «Украинский народ». Отдельно стоит упомянуть главу из кандидатской диссертации Д.И. Бабкова, в которой исследователь на основе материалов публицистики анализирует отношение политика к данной проблеме. Стоит сказать, что ранее взгляды Шульгина на историю в политическом контексте подробно не рассматривались. Между тем именно к легендам, летописным сведениям, хроникам он обращался достаточно часто. Как отмечает Д.И. Бабков, в руках Шульгина исторические свидетельства были беспроигрышным козырем [1: 235]. Однако с этим утверждением едва ли можно согласиться, поскольку их Василий Витальевич использовал как публицист, а не как учёный (впрочем, сам Шульгин иронично замечал про себя: «Ну да, я не историк, но у История 259 меня к истории влеченье - род недуга» [14: 2]). Тем не менее сама интерпретация политиком источников, которые он использовал, прежде всего, в идеологических целях, заслуживает отдельного внимания. Размышляя о происхождении Руси, В.В. Шульгин неоднократно обращался к теории, пропагандируемой генералом Г.Е. Янушевским и основанной на хорватской легенде о трёх славянских братьях -Чехе, Лехе и Русе. Согласно этой легенде, они прибыли в III в. н. э. из римской провинции Паннонии и обосновались в Чехии, Польше и Галицкой Руси, став «прародителями чешского, польского (ляшского) и русского народов». Поскольку имя четвёртого брата - «Укра», «от которого можно было бы вести украинский народ» [18: 2], в летописи не обнаружено, Шульгин делал вывод о том, что такой народ никогда не существовал. Время появления терминов «Украина» и «украинский» политик датировал XVIII в. и полагал, что они были изобретены поляками. Обоснование этому он находил все в той же легенде, согласно которой «у брата Леха был тяжёлый спор с братом Русом», и он решил отомстить ему таким образом. Это привело к раздорам в государстве Руса, т. к. часть населения стала считать себя потомками «никогда не жившего, но “назло” выдуманного брата Укра» [29: 67-70]. До этого, как указывал политик, эти понятия использовались для обозначения «обитателей окраин (украин), безотносительно их национальности» [14: 2]. Польша же по понятным причинам стала покровительствовать «странным индивидуумам», для которых национальный признак заменён «признаком пребывания на границах государства (здесь и далее курсив В.В. Шульгина. - Е.К.)» [19: 2]. Первое издание книги генерала Г.Е. Янушевского, на которое ссылался В.В. Шульгин, было напечатано в 1923 г. Позже, в 1934 г. вышло дополненное издание этой работы под названием «Начало истории русского народа по новейшим данным», которое подверглось жёсткому критическому разбору А.В. Соловьёвым. Историк отмечал, что книга Янушевского «не даёт никаких новейших данных», а лишь «повторяет старые средневековые сказки о праотцах Чехе, Лехе и Русе» [7: 2-3]. В.В. Шульгин выпустил ответную статью, в которой вступился за работу генерала. Интересны аргументы, которые использует политик. Так, А.В. Соловьёв негативно высказался относительно интерпретации Г.Е. Янушевским «нового источника», упоминаемого им, - мраморной таблицы, найденной в городе Зальцбург, на которой имелась надпись на латинском: «...в 477 году по Р. Хр. Князь Русинов Одоакр (Odoacer rex Rhutenorum)... опустошил пограничную римскую провинцию Норик» [27: 16]. Историк справедливо отметил, что перенесение имени Рутении на Русь было филологической «путаницей средневековья», а Одоакр считался предводителем германского племени. На замечание 260 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 A. В. Соловьёва Шульгин отвечал в публицистическом стиле: «Может быть, это и справедливо, но сердиться всё же нет причины, ибо ругии с острова Рюгена - это как будто бы vieux jeu (старомодно. - Е.К.), тогда как “русская” плита... это нечто совсем модерное. Во всяком случае, это пикантно!» [28: 5-8]. В.В. Шульгин был также не согласен с тезисом А.В. Соловьёва о сказочности хорватской легенды, но своё мнение политик не аргументировал, предлагая просто дать этому преданию шанс. Он полагал, что оно может подтвердиться более поздними находками и свидетельствами, как, например, было с Генрихом Шлиманом и раскопками Трои. Отсутствие историографического обзора в работе Г.Е Янушевского B. В. Шульгин тоже не считал проблемой, поскольку исследователи вступают в споры и часто опровергают мнения друг друга. Поэтому на этот вопрос политик смотрел несколько скептически и писал, что «каждому даётся возможность судить и рядить, как ему вздумается». Интересно, что в выводах к своей статье В.В. Шульгин пишет не о научном значении книги Г.Е. Янушевского, что изначально являлось предметом спора с историком, а указывает, что генерал своей работой «зияющую пробоину залатал» [28: 5-8], продвинув нестандартную версию происхождения Руси. Пытаясь обосновать «русскость» украинского народа, Шульгин рассуждал об общности исторического прошлого Украины и России. Он считал, что «колыбелью Руси» была Волынь, которую германский племенной союз готов именовать «Ochsenland», от слова «Окс», что значит по-немецки бык, вол, и от слова «ланд» - страна». После прихода гуннов жители этой территории мигрировали в районы Киева, где часть их осела, другая же часть дошла до Карпат. В VI в. они соединились и образовали «первый в истории славян “военный союз”, некое своеобразное Волынское государство», которое вело борьбу с аварами, совершало грабительские набеги на Византию, но через 200 лет распалось. Третья часть народа, именовавшая себя россами или руссами, «пошла вверх по Днепру, перетащила свои челны в Волхов, прошла в Балтийское море и залезла в Скандинавию» [14: 2]. В.В. Шульгин также считал, что акта приглашения варягов славянскими и финно-угорскими племенами не было. События 862 г. он расценивал как «воссоединение временно разлученных, т. е. скандинавских россов с теми россами, что сидели на реке Роси» [14: 2]. Вторым местом, откуда можно было вести историю Руси, В.В. Шульгин считал Прикарпатскую Русь, куда Рус, по легенде, привёл народ из Паннонии [8: 39]. Он отмечал, что эта земля - «более древняя “домовина” русского народа» [23: 5], и в дальнейшем её население не утратило осознания своей «русскости» и всячески сопротивля- История 261 лось сепаратизму. В.В. Шульгин подчёркивал, что русским следовало бы равняться на жителей Прикарпатья и так же твёрдо, как и они, нести свой долг - «исповедывать своё русское имя...» [11: 2-3]. Родословную русского народа он также предлагал вести отсюда. Норманнскую теорию политик считал ошибочной, не видя разницы между концепцией, используемой с целью показать неспособность восточных славян к созданию своего государства, и вопросом о роли варягов в этом событии. В отношении Галичины В.В. Шульгин подчёркивал, что эта территория никогда не называлась Украиной, а была частью Руси. Для подтверждения этого довода он вновь обращался к историческим свидетельствам. Так, публицист отмечал, что князь Даниил Галицкий называл себя «королём Русским, Русским, а не Украинским» (здесь и далее выделено мной. - Е.К.) [19: 2], а в грамотах Юрия II и польского короля Казимира III эта территория именовалась Малой Русью. Интересной также представляется точка зрения Шульгина на появление русинов на этой территории. Он указывал, что местное население в середине XIX столетия было переименовано австрийским правительством из русских в русинов с целью подавления русского самосознания, полагая, что «можно “русинов” посчитать нерусскими». Позже австрийские политики поняли, что разницы между ними не существует, и стали «искать чего-нибудь поистине разделительного и нашли» [19: 2] - стали именовать население Галичины, Прикарпатья и Буковины украинцами. В другой статье он отмечал, что термин «русины» использовался во времена доминирования Киева, когда же центр русского народа переместился на север, то появилось наименование «россияне», которое «больше приклеилось к обитателям северной Руси» [22: 2]. Возвращаясь вновь к легенде о трёх братьях, В.В. Шульгин подчёркивал, что Русь является преемницей Рима и взяла от него лучшее -представление о праве. По его мнению, уже на тот момент население Восточно-Европейской равнины было знакомо с правовой традицией, которая позже найдёт выражение в правотворческой деятельности Ярослава Мудрого и первом письменном сборнике законов Руси -«Русской правде». Это обстоятельство, по мысли В.В. Шульгина, может быть опровержением представления о России как о родине анархизма и стереотипах о русской «невоздержанности» и «бесшабашной русскости» [20: 2]. В этом отношении он считал, что акт приглашения «варягов-Русь» был проявлением унаследованного от Рима правового сознания, стремлением избавиться от беспорядка. Вообще же киевский период времён правления князя Владимира казался В.В. Шульгину наиболее идеальным. Для реконструирования 262 g J Ml 'Сі III 2022. № 69 образа этого времени он использовал стихи А.К. Толстого. Идеальными Василию Витальевичу казались древнее вече, которое в отличие от европейских органов не стремится к ограничению власти князя; здравое осознание своей связи с Западом, основанное на принципе «брать от Европы всё, что может возвеличить Россию!». Импонировало Шульгину и то, что А. Толстой признавал особенности и разнообразие народов, населяющих Россию, и выступал против «пострижения всех под московский образец». Политик отмечал, что поэт, проведший своё детство в Малороссии, «умел сочетать уютный местный патриотизм с великодержавным национализмом». Думается, что при описании позиции А.К. Толстого через интерпретацию его творчества Шульгин, конечно, в большей степени писал о себе. Это выражается и в его признании местных культурных традиций народов, и в чувстве одиночества от непонимания его идей современниками, и, наконец, в надежде на возрождение России: «Пирует Владимир, со светлым лицом, // В груди богатырской отрада; // Он верит: победно мы горе пройдём, // И весело слышать ему над Днепром: // Ой, ладо, ой, ла-душко-ладо!» [25: 4-5]. Ещё одним историческим сюжетом, к которому неоднократно обращался Шульгин, была Переяславская рада 1654 г. Отмечая значимость этого события для истории, политик в то же время иронично писал о том, что «хохлы, до тех пор сидевшие спокойно, почувствовали явную потребность в самоопределении выражавшуюся в утверждении: “Они де, хохлы, народ Русский и веры Восточной, Православной, а ляхи и жиды делают им всякие притеснения и обиды, и что они на это категорически не согласны”. Поговорив так между собою на эту тему свыше пятидесяти лет, хохлы надумали, наконец, “восставать”» [12: 8-9]. Несмотря на это, фигуре Богдана Хмельницкого, которого он считал «до художественности законченным образом русского отчизнолюба» [17: 2], Шульгин уделял особое внимание. То обстоятельство, что Хмельницкий мечтал быть «самодержцем русским», а на заседаниях Переяславской Рады термины «Украина» и «украинский народ» не использовались, политик интерпретирует как наличие осознания населением Малороссии своей «русскости». Шульгин также считал ошибочным в стремлениях к «украино-угодливости» называть «Малороссию - Украиной; население Южной России - украинцами; и даже от века всем известный “малороссийский борщ”» [22: 2] вкушать как «украинский». Однако при этом неверно было бы считать В.В. Шульгина украино-фобом. Он выказывался против «политического украинства», выступающего за отделение от России, насаждение «языка Грушевского» и искусственное создание собственной истории. Однако при этом История 263 никогда не отрицал существования местной культурной традиции -малорусской. Так, он признавал наличие особого малороссийского говора, на котором говорит «35-миллионная малороссийская деревня» [15: 72-80]. Причём малорусский язык Шульгин считал более приближенным к древности, чем великорусский, поскольку первый сохранил схожесть между произношением и написанием слов. Он полагал, что оба они были говорами, которые происходили от одного «пра-русского языка», но на каком-то этапе пошли в своём развитии в разные стороны, обогащаясь словами из других языков. «Если московская русская народная речь превосходна, - писал политик, - то и полтавский народный русский говор прекрасен. Оба они выросли из одного пня и оба одинаково - русские» [2і: 2-3]. В.В. Шульгин также считал, что малороссы больше заслуживают звание «народа-пахаря», которое обычно ассоциируется с русским народом, поскольку его жизнь была в значительной степени связана с земледелием. Политик признавал также разницу в политической судьбе малороссов и великороссов. Он отмечал, что Левобережная Украина, вошедшая в состав России, после 1654 г. прекратила «свою столетнюю повстанческую практику», тогда как в Правобережной «хохлы продолжали свою вековую практику восстания ещё сто лет». Несмотря на множество различий между малороссами и великороссами, к которым Шульгин также причислял климатические, географические и кровные особенности, он видел между ними одну большую общую черту - смутное представление о своём прошлом [12: 8-9]. Именно с ней он считал необходимым работать особенно тщательно. Политик также отмечал, что у небольшой части населения Малой Руси, находившейся в поиске своих корней и прошлого, возник «некий местный патриотизм». Однако он не только не вызвал интереса интеллигенции, но и преследовался правительством. По мнению Шульгина, это в итоге привело к тому, что «беспризорные чувства» подхватили так называемые украинцы [12: 8-9]. Под «украинцами» он понимал людей, стремящихся к сепаратизму, переписывающих историю, навязывающих искусственные украинские культуру и язык. Он обращался к ним с призывом перестать «Рюриковичей называть “украинскими князьями”, ибо они называли себя князьями русскими перестать (ибо это просто смешно) “Русскую правду называть памятником “украинского правотворчества”; перестать полян, древлян и другие племена, упоминаемые Нестором, называть “украинским народом”, ибо летописец такого названия не знает; перестать, наконец, обширное государство, собранное киевскими князьями, называть “Украиной”, ибо оно самое себя называло Русью» [16: 2-3]. Он считал, что такими действиями украинцы со-'Сі III 2022. № 69 264 вершают «историческое святотатство, совершенно несовместимое с патриотическими чувствами уважения к своему прошлому». Население и территорию «от Карпат до Кавказа» политик считал наиболее русским [15: 72-80] и выступал против «самостийных» стремлений. Решение «украинского вопроса» В.В. Шульгин видел в том, чтобы твёрдо и честно отстаивать курс, принятый некогда Богданом Хмельницким. Он крайне негативно смотрел как на идею выделения данной территории в отдельное государство, так и на «федералистические проекты». Политик полагал, что во втором случае «украинцы», договорившись с Великороссией, не станут притеснять её население, а займутся «украинизацией» малороссов. Шульгин был обеспокоен такой перспективой и предупреждал, что последствия «будут грандиозно ошибочны», поэтому предлагал сначала вырвать власть из рук «украинцев», а только после разговаривать с населением. Однако стоит отметить, что В.В. Шульгин полностью не отвергал идею заключения федерации, но лишь в том случае, если у власти на Украине будут русские. При этом политик также подчёркивал, что эти люди могут даже называть себя «украинцами», но в то же время должны осознавать свою «русскость». Он предостерегал, что в противном случае украинцы станут «загнанной в тело русского народа иноземной занозой!» [24: 1-2]. Таким образом, в своих политических рассуждениях В.В. Шульгин часто прибегал к использованию в качестве аргументов событий истории. Он считал основной проблемой народа Украины забвение памяти о своём историческим прошлом, которое усугублялось сознательными искажениями и обманами со стороны их деятелей (Петлюра, Грушевский, Винниченко). Поэтому средством идеологической борьбы для Шульгина стали свидетельства прошлого, которые он считал необходимым активно использовать для противостояния «украинской лжи» [15: 72-80]. Важно при этом отметить, что политик боролся именно с «политическим украинством». Он никогда не выступал против наличия особенной местной культуры, подчёркивая её уникальные черты, однако в своих рассуждениях всегда исходил из идеи «Триединого Русского Племени» [13: 2-3].
Šulgin V. Bratři // Zahraniční rusové Československu. Sborník článků, črt, vzpomínek a pozdravů ruských veřejných a kulturních pracovníků, věnovaný československému národu k desítiletí čsl republiky / red. M.G. Michějěv, L.F. Magerovský, G.I. Senkevič. Praha-Vinohrady: Svaz Ruských Válečných Invalidů v ČSR, 1928. S. 67-70.
Янушевский Г.Е. Начало истории русского народа по новейшим данным. Брест, 1934. 115 с.
Янушевский Г.Е. Ответ профессору А.В. Соловьёву (Через редакцию белградской газеты «Русский голос»). Б.м., 1935. С. 5-8.
Шульгин В.В. Три столицы и Алексей Толстой // Голос России. 1936. 16 июля. № 5. С. 4-5; 28 июля. № 6. С. 5.
Шульгин В.В. Manu facta, manu destruo // Голос. 1929. 17 февраля. № 49. С. 1-2; 19 февраля. № 50. С. 1-2.
Шульгин В. Русский язык // Русская газета. 1925.13 января. № 222. С. 2-3.
Шульгин В. Тонкий слух // Россия и славянство. 1929. 16 ноября. № 51. С. 2.
Шульгин В. Non possumus! // Россия и славянство. 1930. 6 сентября. № 93. С. 5.
Шульгин В.В. Святогоры и Горесвяты // Голос. 1929. 24 января. № 29. С. 1-2; 26 января. № 31. С. 1-2.
Шульгин В. Первая тучка // Возрождение. 1927. 12 марта. № 648. С. 2.
Шульгин В. Русская правда и варяжская сила // Возрождение. 1927. 2 марта. № 638. С. 2.
Шульгин В. Имя русское // Россия и славянство. 1929. 19 января. № 8. С. 2.
Шульгин В. Парфянская стрела // Возрождение. 1927. 10 августа. № 799. С. 2.
Шульгин В. Да или нет? // Русская газета. 1925. 7 января. № 217. С. 2, 5; 8 января. № 218. С. 2-3.
Шульгин В. Великая правда и великая ложь // Русская мысль. 1927. Кн. 1. С. 72-80.
Шульгин В. «Мовчать, бо благоденствують» // Зарницы. 1921. 17 июля. № 16. С. 8-9.
Шульгин В. 8 января // Новое время. 1924. 17 февраля. № 843. С. 2-3.
Шульгин В. В ночь под Ивана Купала // Возрождение. 1925. 9 июля. № 37. С. 2.
Чемакин А.А. Политическая и публицистическая деятельность В.В. Шульгина в 1917-1920 гг. // Шульгин В.В. «Белые мысли». Публицистика 1917-1920 гг. / сост., науч. ред., авт. вступ. ст. и коммент. А.А. Чемакин. М., 2020. С. 17-53.
Чемакин А.А. Южно-Русский национальный центр В.В. Шульгина: идеология, деятельность и влияние на Белое движение // Вопросы истории. 2020. № 11(2). С. 29-44.
Шульгин В. «Матушка-Русь» // Возрождение. 1927. 18 февраля. № 626. С. 2-3.
Соловьёв А.В. О начале Руси по «новейшим данным» // Русский голос. 1935. 14 (1) января. № 197. С. 2-3.
Чемакин А.А. Неизвестные статьи В.В. Шульгина из газеты «Вестник Ривьеры» (Ницца, 1930 г.) // Шульгинские чтения: сборник материалов 2017-2019 гг. С. 28-52.
Репников А.В., Христофоров В.С. Василий Витальевич Шульгин // Исторические портреты. 2009. № 5. С. 155-169.
Репников А.В. Василий Шульгин и «украинский вопрос» // Актуальный архив. 2015. № 1. С. 147-171.
Репников А.В. Долгая жизнь Василия Шульгина // Przeglgd Wschodnioeu-ropejski. 2013. № 4. С. 135-168.
Репников А.В. Свидетель грозного века // Наука и религия. 2018. № 704. С. 24-30.
Бабков Д.И. Политическая деятельность и взгляды В.В. Шульгина в 1917-1939 гг.: автореф. дис.. канд. ист. наук. Брянск, 2008. 336 с.
Пученков А.С. В.В. Шульгин и южнорусское Белое движение в 1917-1918 годах // Политические партии России: прошлое и настоящее: сб. статей. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005. С. 198-207.
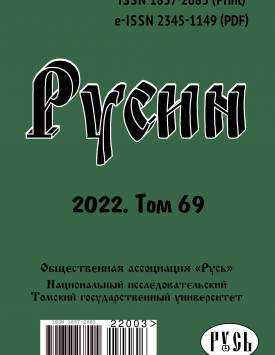

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью