Русинский вопрос в общественно-политическом дискурсе Беларуси (1990-е гг.)
Рассматриваются особенности присутствия русинского вопроса в общественнополитическом дискурсе Беларуси 1990-х гг. Отмечается, что обращение авторов к русинской проблематике было тесно связано с анализом феномена западнополесского этнополитического движения, развернувшегося в Беларуси в конце 1980-х -первой половине 1990-х гг. Отобраны и проанализированы различные по природе материалы (программные документы политических партий, публицистика, аналитические записки), в которых упоминаются русины. Определены мотивы обращения к русинской тематике различных общественных сил Беларуси (представители научного сообщества, деятели западнополесского и украинского этнополитических движений в Беларуси, пророссийские политические силы), выявлены основные механизмы репрезентации ими русинского вопроса. Наибольший интерес к русинскому вопросу демонстрировала пророссийская партия Славянский Собор «Белая Русь», что связано с желанием её активистов использовать русинский фактор для конструирования негативного образа властных элит постсоветских государств путём обвинения тех в дискриминационной национально-культурной политике. Делается вывод о слабой представленности русинской тематики в общественно-политическом дискурсе Беларуси. Пик интереса к ней пришёлся на 1991-1993 гг., после чего по мере затухания западнополесского движения внимание к проблеме снижается. К настоящему времени русинская проблематика затрагивается в научных публикациях белорусских историков (К.В. Шевченко, О.Г. Казак, А.П. Сальков и др.) и практически отсутствует в медиаповестке Беларуси.
The Rusin question in the socio-political discourse of Belarus (1990s).pdf Белорусско-русинские культурные связи, а также присутствие русинской проблематики в общественно-политическом дискурсе суверенной Беларуси являются темами, которые фактически не нашли отражения в современной историографии. Одной из немногочисленных работ, посвящённых культурным контактам русинов и белорусов и различным нюансам взаимного восприятия представителями данных народов друг друга, является статья российского русиниста М.Ю. Дронова «Из истории белорусско-русинских культурных связей (до 30-х гг. ХХ в.)» [7]. В статье О.Г. Казака «“Скрытое русофильство” русинов социалистической Чехословакии» анализируется переписка фило- 308 i ] Ml 'Сі III 2022. № 69 лога, преподавателя Прешовского университета А.С. Шлепецкого с организатором партизанского движения в Советской Беларуси в годы Великой Отечественной войны И.Д. Ветровым (1960-1970-е гг.) [12]. Данные документы, обнаруженные в Национальном архиве Республики Беларусь, свидетельствуют о желании части русинской интеллигенции, проживавшей в послевоенной Чехословакии, ознакомить белорусскую общественность со своим видением этнокультурной природы автохтонного восточнославянского населения Восточной Словакии и национальной политики властей социалистической Чехословакии в отношении этого народа. Проблематика присутствия русинского вопроса в общественно-политическом дискурсе независимой Беларуси учёными не затрагивалась (в том числе и в работах, посвящённых белорусско-украинским отношениям). В конце 1980-х гг. в Советской Беларуси зарождается западнополесское этнополитическое движение, достигшее своего пика в первые годы существования суверенной Беларуси. Данное движение, лидером которого являлся молодой филолог, поэт и публицист Н.Н. Ше-лягович, имело много общих черт с русинским движением, которое в это же время получало своё развитие на Украине и в государствах Центральной Европы. Активисты западнополесского движения требовали от властей Беларуси юридического признания западнополесского (ятвяжского) этноса, делали попытки создания отдельного языка на основе местных говоров, выступали за предоставление региону национально-культурной автономии. Большинство упоминаний русинского вопроса в общественном пространстве Беларуси так или иначе связано с анализом природы западнополесского движения. Цель статьи - оценить мотивы обращения к русинской проблематике различных общественно-политических сил Беларуси 1990-х гг. Русинская проблематика (русинский вопрос, русинская тематика и другие близкие по смыслу словосочетания) понимается как ситуация, в рамках которой активисты этнополитического движения требуют от властей Украины признания отдельного русинского этноса и предоставления ему возможностей свободного национально-культурного развития. Для реализации поставленной цели необходимо решение ряда задач, связанных с выявлением и анализом материалов, авторы которых (представители научного сообщества, активисты западнополесского движения, деятели украинского движения в Беларуси, политики русофильских взглядов и др.) прямо или косвенно обращались к русинской проблематике. Наиболее последовательно вопросом природы западнополесского движения на протяжении многих лет (с начала 1990-х гг. по настоящее время) занимается белорусский этнолог П.В. Терешкович. Этот учёный Социология и политология 309 в своих публикациях постоянно подчёркивает общие черты западнополесского и русинского движений. Так, в редакционной статье информационно-культурного бюллетеня «Форум» (1995-1996 гг.), основная часть которого была посвящена различным аспектам полесской проблематики, П.В. Терешкович назвал западнополесский и русинский регионализм «одним из конкретных проявлений постмодернистского сознания», которое при всей своей эклектичности тесно связано с «неоконсерватизмом, апелляцией к традиции, воспринимаемой в качестве антитезы социальной и техногенной утопии». Учёный отметил, что движения возникли практически синхронно, хотя не имели очевидной связи друг с другом [24: 2]. В «Программе возрождения традиционной художественной культуры Полесья», разработанной в 1994 г. по заказу Белорусского института проблем культуры Министерства культуры и печати Республики Беларусь, также упоминалось русинское движение на Украине (вероятнее всего, это связано с тем, что в состав коллектива по разработке программы входил П.В. Терешкович). В документе подчёркивалось, что «формирование западнополесского этнополитического движения -явление полностью закономерное, которое соответствует основным тенденциям развития этнических процессов народов мира». В качестве примеров подобных движений (кроме русинского) назывались кашубское движение в Польше, латгальское движение в Латвии и др. [1: 42]. Разработчики программы считали, что активисты подобных социальных движений должны сосредоточивать усилия на изучении и популяризации этнокультурной специфики своих регионов, а не заниматься политизацией этничности, которая может нести угрозу целостности государств. К русинской проблематике обращались также филологи, причём как те, кто с симпатией относился к «западнополесскому возрождению», так и противники последнего. Сотрудник Института языкознания Академии наук Беларуси Ф.Д. Климчук (уроженец западнополесского региона, с 1960-х гг. профессионально изучал местные диалекты) в одном из интервью в 1993 г. отметил, что имевшие место литературные публикации с использованием западнополесских говоров давали основание судить о формировании отдельного микроязыка. Учёный указывал на аналогичные примеры групп говоров, на основе которых выкристаллизовывались литературные микроязыки. Среди них назывались «закарпатские говоры украинского языка». По мнению Ф.Д. Климчука, «литературный микроязык обслуживает определённую часть нации, часто небольшую» [10: 3]. Об отношении Ф.Д. Климчука к феномену этнополитических движений «малых народов» сложно сделать однозначный вывод. Коллега филолога, заведующий отделом 310 i ] Ml 'Cl III 2022. № 69 диалектологии и лингвогеографии Института языкознания Национальной академии наук Беларуси В.М. Курцова в интервью автору статьи отметила, что учёный поддерживал научно-просветительскую составляющую западнополесского движения, но выступал против его политизации, «отрыва региональной культуры от общебелорусского контекста». После неожиданного прекращения западнополесского движения во второй половине 1990-х гг. Ф.Д. Климчук продолжил научное исследование полесских диалектов, опубликовал переводы на западнополесский микроязык произведений Л.Н. Толстого и книг Нового Завета, а также стал основателем общества «Загородье», которое объединило историков, филологов, краеведов. Данная организация позиционировала себя как сугубо культурно-просветительская структура, на её мероприятия Н.Н. Шелягович не приглашался [11]. Ф.Д. Климчук как крупнейший исследователь западнополесского языка принимал участие в работе созданной в 2008 г. Международным комитетом славистов «Комиссии по славянским микроязыкам», членами которой являлись в том числе специалисты в области истории и языка русинов (П.Р Магочи, М. Капраль и др.) [8: 423-424]. Можно сделать вывод, что Ф.Д. Климчук с симпатией относился к попыткам литературной обработки локальных говоров (в том числе к феномену русинскоязычной литературы), однако не поддерживал движения, использовавшие культурные особенности этнических групп для обоснования политических требований. Принципиально иной была позиция аспиранта Института языкознания Национальной академии наук Украины А.И. Скопненко, изложенная в статье для газеты «Берестейський край» («Брестский край») в 1996 г. На страницах данного украиноязычного издания, основателем которого была «Просвита Брестчины имени Т.Г. Шевченко», последовательно отстаивалась концепция украинской этнической природы жителей Западного Полесья Беларуси. Факторы, которые представляли угрозу украинскому национальному проекту, игнорировались либо характеризовались негативно. А.И. Скопненко приводил лингвистические аргументы, призванные, по его мнению, доказать, что западнополесские говоры являются диалектом украинского языка. Из этого делался вывод о том, что жители Западного Полесья являются украинцами с «неразбуженным национальным сознанием». Автор подчёркивал определённую схожесть Западного Полесья и Закарпатья - регионов, которые находились на периферии украинского национального движения. Этноним «русин» рассматривался молодым филологом как пережиток прошлого: «Во второй половине XIX в., когда утверждение современного национального сознания и кристаллизация новейшей нации охватило преимуще- Социология и политология 311 ственное большинство этнических украинских земель, Брестчина, Подляшье, Закарпатье из-за неблагоприятных политических условий и в результате нехватки значительных национально-культурных структур и сознательной интеллигенции оказались в стороне от этих процессов. Именно к этому времени восходит известный красноречивый факт непринятия нового этнического самоназвания “украинец” и бытования вместо него давнего “русин” на территориях, которые позже затронула волна национального возрождения (например, на Закарпатской Украине)». А.И. Скопненко считал, что микроязыки будут постепенно угасать, поскольку «диалект не обслуживает многих сфер общественной жизни и не может бороться с литературными языками». К подобным «исчезающим» микроязыкам автор относил русинский микроязык, при этом отметил, что он функционировал в Сербии и Хорватии и имел некоторые общие черты с «закарпатскими украинскими говорами» [21: 6]. В иных украиноязычных изданиях Беларуси, которые регулярно освещали общественно-политическую жизнь на Украине, русинская проблематика не затрагивалась. Единичные упоминания отдельных аспектов русинской культуры встречались только в контексте ситуации в балканских странах. Например, в статье «Сколько славянских языков в мире?», опубликованной в 1993 г. в газете «Украінець в Беларусі» («Украинец в Беларуси») Ассоциации украинцев в Беларуси «Ватра», шла речь о русинских диалектах в Сербии и Хорватии [20: 4]. Тем самым наличие русинской проблемы на Украине изданиями данного рода отрицалось. Филологи привлекались органами власти Беларуси в качестве экспертов по западнополесскому вопросу, часто готовили для них аналитические записки. В проанализированных документах удалось обнаружить только косвенные отсылки к русинской тематике. Так, в аналитической записке сотрудников Института языкознания Академии наук Беларуси П.А. Михайлова и А.А. Кривицкого (1991 г.), подготовленной по запросу Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета БССР, отмечалось: «Несомненно, что под влиянием так называемых литературных микроязыков у некоторых славянских народов была также предпринята попытка создания полесского (ятвяжского) литературного микроязыка». Авторы документа отмечали, что «язык - это не лингвистическое, а социальное явление»: «Высокий ранг языка на шкале иерархии структурно-территориальной лингвистической формации имеют группы и системы местных говоров или диалектов не на основе их отличия от соседних говоров, а на основании определённого высокого этнокультурного и социально-экономического единства того социума, с которым они связаны». Также подчёркивались локальные различия 312 i ] Ml 'Сі III 2022. № 69 между отдельными западнополесскими диалектами. Данные умозаключения, по мнению авторов документа, должны были обосновать несостоятельность заявлений Н.Н. Шеляговича и его соратников о существовании отдельного западнополесского языка [15: 187-192]. Подобные доводы регулярно использовались представителями научного сообщества Беларуси, скептически оценивавшими природу западнополесского этнополитического движения (например, они присутствуют в аналитической записке Отделения гуманитарных наук Академии наук Беларуси (1992 г.) [16: 102-103]). Показательно, что идентичной системой аргументации пользуются украинские учёные и общественные деятели, отрицающие факт существования русинского этноса и не признающие требований активистов русинского движения. В газете «Збудінне» («Пробуждение»), которая являлась изданием крупнейшей институции западнополесского движения - Общественно-культурного объединения «Полісьсе» («Полесье»), русинский вопрос не освещался, хотя регулярно публиковались материалы о других «малых народах» (алеуты, гагаузы и др.). При этом определённый интерес к русинской тематике у читателей газеты «Збудінне» присутствовал. В одном из номеров издания (октябрь 1992 г.) было опубликовано письмо читателя, который сообщал о своём интересе к «идее возрождения малых славянских народов - будь то западные полешуки в Республике Беларусь или русины на Украине». Вполне резонным выглядело следующее предложение читателя: «Было бы неплохо, на мой взгляд, печатать статьи о положении этих народов, попытаться проследить общие тенденции развития ситуации и взаимоотношений с окружающими “большими” народами, сравнить государственную политику в отношении “малых” этносов, возможно, в историческом аспекте» [9: 2]. Данный призыв, однако, не был услышан редакцией издания. Возможная причина этого кроется в особенностях формирования собственного исторического нарратива активистами западнополесского движения. Если во второй половине 1980-х гг. они утверждали, что автохтонные жители региона являются прямыми потомками ятвягов (балтское племя, ассимилированное славянами к XIII в.), то с начала 1990-х гг. получила распространение более реалистичная тенденция рассматривать явтягов как один из компонентов населения края, признавая очевидную славянскую составляющую этнической группы [25: 333-334]. Более того, некоторые идеологи движения объявляли полешуков четвёртым восточнославянским этносом наравне с русскими, украинцами и белорусами. Данное утверждение, в частности, содержалось в письме Общественно-культурного объединения «Полісьсе», направленном председателю Верховного Социология и политология 313 Совета БССР Н.И. Дементею и Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета (1991 г.) [15: 155]. Вероятнее всего, активисты западнополесского движения не хотели широко информировать общественность о русинах, которые также претендовали на статус отдельного восточнославянского народа. В октябре 1992 г. в республиканской газете «Звязда» («Звезда») была опубликована заметка «Русины без Руси». Статья вышла в рубрике «Сумежжа» («Пограничье»), которую вёл корреспондент газеты и активист западнополесского движения В.Ф. Калиновский, и представляла собой единственный полноценный материал на русинскую тематику в центральной белорусской прессе. Автор статьи В. Габуда отметил, что в деятельности «Общества подкарпатских русинов» имелось много общих черт с Общественно-культурным объединением «Полісьсе»: «Они (русины. - О.К.) также выработали свой письменный диалектный язык, наладили на нём выпуск газет». Особо подчёркивалось, что «национально ориентированные» представители интеллигенции вменяли в вину активистам русинского движения (на Украине) и западнополесского движения (в Беларуси) «прокоммунистичность» [4: 2]. Действительно, аргументация противников русинского и западнополесского движений была практически идентичной. Непримиримыми противниками русинского движения на Украине выступили некоторые историки, политологи, филологи из Ужгорода (О.В. Мишанич, П.П. Чучка, М.П. Тиводар и др.). Они сформулировали концепцию «политического русинства», состоящую из следующих тезисов: принятие автохтонным восточнославянским населением Закарпатья украинской национальной идентичности является исторически закономерным процессом; русинское движение является искусственным, инспирировано спецслужбами СССР и поддерживается силами, желающими подрыва единства Украины и украинского народа [2: 51-52]. Также высказывалась идея о том, что власти государств Центральной Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) поддерживали русинские организации в своих странах с целью создания почвы для ассимиляции проживавшего там украинского меньшинства и нивелирования успеха украинского культурного строительства в Закарпатье [26: 250]. Схожие аргументы использовали в Беларуси критики западнополесского движения. Например, на заседании Учёного совета Института истории Академии наук Беларуси 5 марта 1992 г. были озвучены популярные в среде белорусской интеллигенции, но не нашедшие подтверждение гипотезы: западнополесское движение было инициировано партийными и советскими органами для «торпедирования» процесса белорусского национального возрождения (В.П. Крук, Н.М. Забавский), Н.Н. Шеляго-'Сі III 2022. № 69 314 вич и его соратники выступали за присоединение западнополесского региона к Украине (М.М. Чернявский) [23: 26-29]. Данные доводы регулярно тиражировались в белорусской прессе. Наиболее последовательно русинский вопрос был представлен в программных документах и политической публицистике партии Славянский Собор «Белая Русь». Данная политическая сила выступала с идеями культурно-цивилизационного единства восточнославянских народов, которое, по мнению активистов партии, должно было воплотиться в форме глубокой интеграции России, Беларуси и Украины. В программе Славянского Собора «Белая Русь» (раздел «Национально-языковая политика») декларировался следующий тезис: «Славяно-Русский Этнос (Русский Народ) состоит из четырёх ветвей: белорусской, великорусской, украинской (малорусской) и русинской, особенность национального самосознания каждой из которых состоит в том, что собственно белорусы, великороссы, украинцы и закарпатские русины одновременно осознают себя и представителями Славяно-Русского Этноса (Русского Народа). Таким образом, самосознание Русского Народа является двухуровневым по принципу: Русский-Белорус, Русский-Великоросс, Русский-Украинец, Русский-Русин. Каждая из ветвей Русского Народа имеет свою региональную, самобытную - белорусскую, великорусскую, украинскую и русинскую - культуру, представляющую собой местное своеобразное проявление русского духа» [19: 12]. В издании партии - газете «Русь Белая» - публиковались материалы авторов, считавших русинов органичной частью общерусского национально-культурного пространства. Так, в номере издания за декабрь 1994 г. была размещена «карта западной этнической границы русской народности», впервые опубликованная в 1975 г. в газете русинской эмиграции «Свободное слово Руси», издававшейся в США. В редакционном примечании подчёркивалось: «Эта карта отражает точку зрения русинов (полуторамиллионный народ Закарпатья) на западную границу русской народности» [13: 1]. В этом же номере была опубликована статья известнейшего русинского деятеля русофильских взглядов А.Ю. Ге-ровского «Папа Лев XIII и товарищ Сталин творцы незалежной Украины» [6: 1-2]. В выпуске газеты за февраль 1995 г. было напечатано письмо, одним из авторов которого являлся деятель карпато-русской эмиграции в США М.И. Туряница, Президенту США (1981-1989 гг.) Р. Рейгану. В документе был выражен протест против поддержки властями США движения «порабощённых народов», цель которого, по мнению авторов, заключалась в стремлении «покончить с более чем тысячелетней непрерывной государственностью России и её народов» [3: 4]. Социология и политология 315 Довольно активное обращение печатного издания Славянского Собора «Белая Русь» к русинской проблематике объясняется общим критическим отношением данной партии к национально-культурной политике властей Беларуси и Украины. В вину властным элитам этих государств вменялись деструктивный национализм и отрицание общерусской природы белорусов и украинцев. В данной ситуации апелляция к русинской проблеме давала партии дополнительные аргументы для обличения дискриминационной по отношению к этническим меньшинствам политики Киева. Схожие процессы наблюдались в российском медиадискурсе после событий 2014 г.: в этот период российские средства массовой информации фактически открыли для себя наличие русинского этноса, который использовался в качестве противопоставления «плохим» украинцам [18: 302]. Показательно, что руководство Славянского Собора «Белая Русь» наладило конструктивные отношения с лидерами западнополесского движения в Беларуси. В феврале 1993 г. в газете «Збудінне» была опубликована информация о подписании соглашения о сотрудничестве между Славянским Собором «Белая Русь» и Общественно-культурным объединением «Полісьсе» [22: 1], обе организации входили в «Народное движение Беларуси» - зонтичную структуру, члены которой критиковали политику принудительной белорусизации и выступали за тесную интеграцию Беларуси и России [5: 9]. Впрочем, Славянский Собор «Белая Русь» не был влиятельной силой политического ландшафта Беларуси. Согласно данным республиканских социологических исследований, в мае 1995 г. рейтинг партии составлял 1,4 %, в октябре 1995 г. - 1,3 % [14: 117]. Ни один из членов Славянского Собора «Белая Русь» не был избран в Верховный Совет Республики Беларусь в 1995 г. В 1999 г. партия прекратила своё существование. Таким образом, русинская тематика демонстрировала крайне слабое присутствие в общественно-политическом дискурсе Беларуси в 1990-е гг. В материалах абсолютного большинства авторов, затрагивавших русинский вопрос, в качестве основного объекта анализа выступало западнополесское движение в Беларуси. К русинской проблематике обращались прежде всего филологи, которые путём сопоставления литературных процессов в среде представителей интеллигенции, идентифицировавших себя с русинами и полешука-ми, пытались засвидетельствовать (Ф.Д. Климчук) или опровергнуть (А.И. Скопненко) перспективы развития восточнославянских микроязыков. В то же время белорусские учёные, которые по запросам органов власти готовили аналитические записки, посвящённые западнополесскому движению, в лучшем случае лишь косвенно упоминали русинский фактор. Это значительно снижало исследовательский 'Cl III 2022. № 69 316 потенциал данных аналитических материалов, т. к. качественный компаративистский анализ схожих по природе феноменов (русинского и западнополесского движений) мог помочь лучше понять их сущностные характеристики. Одним из немногих учёных, которые учитывали данный подход в своих работах, был этнолог П.В. Терешкович. Сами деятели западнополесского движения в своих выступлениях и публицистике игнорировали русинский вопрос, т. к. усматривали в русинах «конкурента» в борьбе за звание четвёртого восточнославянского народа. В этом видится тактическая ошибка Н.Н. Шелеговича и его единомышленников: широкое информирование о борьбе этнической группы за свои права в соседнем государстве могло вызвать гораздо больший интерес у общественности, чем апелляция к процессам, происходившим в далёких от Беларуси странах и регионах. Наиболее широко русинская тематика присутствовала в программных документах и публицистике русофильской партии Славянский Собор «Белая Русь». При этом акцент делался на освещении творчества тех представителей русинской интеллигенции, которые считали русинов частью русского цивилизационного пространства. Однако Славянский Собор «Белая Русь» являлся довольно маргинальной политической силой Беларуси 1990-х гг. Западнополесское этнополитическое движение, несмотря на амбиции его лидеров, не имело широкой популярности даже в среде жителей региона. В июле - декабре 1992 г., когда движение находилось на пике своего развития, сотрудниками Института социологии Академии наук Беларуси было проведено масштабное социологическое исследование, которое засвидетельствовало практически полное отсутствие особого «полесского» этнического самосознания у населения края. На вопрос о возможности выделения Западного Полесья в отдельный культурно-языковой регион Беларуси положительно ответили всего 7,3 % опрошенных [17: 10-11]. Неудачей закончились попытки Н.Н. Шеляговича баллотироваться на пост Президента Беларуси (1994 г.) и в Верховный Совет (1995 г.). В 1996 г. он покинул Беларусь. Западнополесское движение, во-многом являвшееся ответной реакцией на директивную белорусизацию конца 1980-х - первой половины 1990-х гг., практически сошло на нет после референдума 1995 г. Абсолютное большинство населения Беларуси (в том числе Брестчины) высказалось за предание русскому языку статуса второго государственного языка (наравне с белорусским), тем самым выбрав более близкую для себя культурно-идентификационную модель. Полесская тематика перестала широко освещаться в республиканской и региональной прессе, вслед за этим снизился интерес и к русинскому вопросу. В 2000-2010-е гг. в белорусских Социология и политология 317 средствах массовой информации встречались лишь единичные упоминания русинов. Несколько иначе обстоят дела в научной сфере. Положению русинов в составе межвоенной Чехословакии посвящены многочисленные научные работы известного слависта, профессора Минского филиала Российского государственного социального университета К.В. Шевченко; публикации доцента Белорусского государственного экономического университета О.Г. Казака освещают вопросы национальной политики властей хортистской Венгрии в отношении русинов; русинская проблематика затрагивается в трудах крупнейшего белорусского специалиста по истории национальнотерриториальных конфликтов в государствах Центральной Европы, заведующего кафедрой южных и западных славян Белорусского государственного университета А.П. Салькова. Вместе с тем русины до настоящего дня остаются загадкой для многих жителей Беларуси. Для исправления данной ситуации необходима комплексная работа не только учёных, но и представителей культурно-просветительских организаций, журналистского сообщества.
Ключевые слова
общественно-политический дискурс,
русины,
Беларусь,
национально-культурная политика,
западнополесское движениеАвторы
| Казак Олег Геннадьевич | Белорусский государственный экономический университет | кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии | olegkazak90@tut.by |
Всего: 1
Ссылки
«Ruszin voltam, vagyok, leszek...». Népismereti olvasókönyv / szerk.: C. Fedinec, I. Csernicskó. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. 316. old.
Шевченко К.В. Кризис идентичности и возникновение альтернативных этнических идентичностей у восточных славян: полешуки в Белоруссии // Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2005/2006 / гл. ред. Б.Н. Флоря. М.: Индрик, 2008. С. 318-342.
Церашковіч П. Ад рэдакцыі // Інфармацыйна-культурны бюлетэнь «Форум». 1995-1996. № 2. С. 2-3.
Скільки слов’янскіх мов у світі? // Українець в Беларусі. 1993. Листопад. С. 4.
Скопненко О. Берестейщина // Берестейський край. 1996. Квітень. С. 5-6.
Хроныка // Збудінне. 1993. 1-28 февраля. С. 2.
Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси. Ф. 3. Оп. 1. Д. 962. Протоколы заседаний Ученого совета Института языкознания Академии наук Беларуси, приложения к нему, 1992 г.
НАРБ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 4091. Протоколы заседаний Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г.
НАРБ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 4092. Протоколы заседаний Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета Республики Беларусь, 1993 г.
Подрезов М.В., Голдовская А.В. Русинский вопрос в медиаповестке российских средств массовой информации (2010-2019 гг.) // Русин. 2019. Т. 58. С. 294-305. DOI: 10.17223/18572685/59/19
Сим победиши! Программа Славянского Собора «Белая Русь». Минск: Славянский Собор «Белая Русь»; Научно-промышленная компания «Руян», 1994. 31 с.
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 968. Оп. 1. Д. 4090. Протоколы заседаний Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета БССР, 1991 г.
Котляров И.В. Политические партии Беларуси как симулякры социального пространства (социологическое измерение) // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2014. Т. 58, № 4. С. 115-124.
Карта западной этнической границы русской народности // Русь Белая. 1994. Декабрь. С. 1.
Казак О.Г. «Скрытое русофильство» русинов социалистической Чехословакии // Аспект. 2019. № 1-4. С. 83-90.
Казак О.Г. «Западнополесское возрождение» в научных оценках. URL: http://naukaverakuljtura.com/2526-2 (дата обращения: 27.07.2022).
З пошты «Збудіння» // Збудінне. 1992. 1-15 октября. С. 2.
Заходняе Палессе - дыялектны ландшафт (Гутарка з кандыдатам філалагічных навук Ф.Д. Клімчуком // Наша слова. 1993. 3 лістапада. С. 3.
Габуда В. Русіны без Русі // Звязда. 1992. 14 кастрычніка. С. 2.
Гайдукевич С. Лихое время. На осмотрительности не выедешь… // Рэспубліка. 1993. 12 мая. С. 9.
Вечная Россия // Русь Белая. 1995. Февраль. С. 4.
Дуличенко А.Д. О ситуации со славянскими микроязыками // Славянская микрофилология / под ред. А.Д. Дуличенко, М. Номати. Саппоро; Тарту: [Б.м.], 2018. С. 415-426.
Дронов М.Ю. Из истории белорусско-русинских культурных связей (до 30-х гг. ХХ в.) // Русин. 2007. № 1. С. 108-116.
Геровский А.Ю. Папа Лев XIII и товарищ Сталин творцы незалежной Украины // Русь Белая. 1994. Декабрь. С. 1-2.
Адраджэнне традыцыйнай мастацкай культуры Палесся. Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Беларускі інстытут праблем культуры. Мінск: [б.м.], 1994. 116 с.
Веселов В.И. Русины Закарпатской области Украины: институализация и функционирование общественных организаций в 1989-2001 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2016. 188 с.
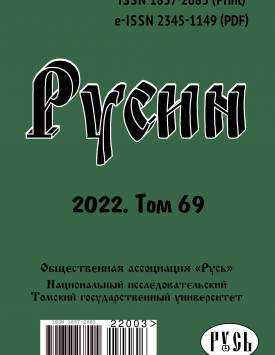

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью