В материале, подготовленным в свое время к публикации Р.Д. Мировичем, публикуется «Защитительная речь» и «Последнее слово» о. Кассиана Богатырца на Втором Венском процессе 1916-1917 гг. Выступление о. Кассиана аргументированно, он ссылается на труды известных ученых и исторические факты, показывает абсурдность расценивать принадлежность к панславизму, русофильству и православной вере как основание для обвинения в государственной измене. Материал состоит из трех частей. В первой части, написанной самим Р. Мировичем, - «Защитительная речь и заключительное слово д-ра Кассиана Дмитриевича Богатырца перед Венским военным судом - замечательный исторический документ», излагается предыстория данного процесса: информация о Львовском процессе 1914 г., репрессиях во время войны, Первом Венском процессе и о мужественном поведении о. Кассиана на Втором Венском процессе. Во второй и третьей частях приводятся полные тексты «Защитительной речи д-ра Кассиана Дитриевича Богатырца, произнесенной 6, 7 и 8 сентября 1916 года перед Венским военным судом в процессе о государственной измене» и «Последнего слова д-ра К.Д. Богатырца перед вынесением приговора, произнесенного перед Венским военным судом 25 января 1917 года». Несмотря на блестящее выступление о. Кассиана, его и еще 15 обвиняемых приговорили за «измену» к смертной казни. Ее удалось избежать благодаря амнистии нового императора Австро-Венгрии Карла I, объявленной весной 1917 г. Данная работа Р. Мировича публикуется впервые.
The defence address and concluding statement OF DR. Kassian Dmitrievich bogatyrets before a viennese military court - a .pdf Еще задолго до Первой мировой войны началось плановое, систематическое гонение, всякого рода репрессии со стороны австрийского правительства и его пособников - польских шовинистов и украинцев-сепаратистов мазепинского толка против карпаторус-ского населения Галичины и Буковины (не говоря уже о мадьярском засилии на Закарпатской, или, по тогдашнему наименованию, Угорской Руси), против галицких и буковинских культурно-просветительных и экономических обществ - вообще против любого, даже самого безобиднейшего проявления жизни карпаторусского народа. Везде и всюду «чуялась» «государственная измена», угроза Польше «од моржа до моржа» и «самостшной Украины»: и в изучении русского языка и неподдельной русской истории, в употреблении этимологического правописания (вместо фонетического, нововведенного в политических целях), в отстаивании прав православного греко-восточного обряда, даже в отстаивании своего исторического русского имени и проч., и проч. Эпилогом этих репрессий явился Львовский политический процесс о государственной измене накануне (май-июнь 1914 г.) Первой мировой войны против подсудимых Семена Юрьевича Бендасюка - публициста, православных священников Максима Тимофеевича Сандовича и Игнатия Филипповича Гудимы и студента Василия Андреевича Колдры. Процесс этот кончился оправдательным приговором присяжных заседателей, но, невзирая на это, сейчас же в начале войны М.Т. Сан-дович1 был зверски без суда расстрелян, а И.Ф. Гудима2 очутился в горьком заточении в концентрационном лагере в Талергофе, где заболел душевно и, вернувшись в таком состоянии на родину, был впоследствии убит фашистами во время гитлеровской оккупации. Остальные подсудимые - С.Ю. Бендасюк и В.А. Колдра - избежали печальной судьбы своих сотоварищей только благодаря тому обстоятельству, что в начале войны очутились за пределами австро-венгерской монархии, т. е. в России. Воистину неистовая гроза разразилась над Галицкой Русью с самого начала войны 1914 г., когда, вследствие отмены самых элементарных конституционных гражданских прав и замены их военным беззаконием, граждане Австрийской империи лишены были малейшей возможности юридической защиты и были отданы всецело на произвол австро-мадьярской военщины и ее прислужников. Бездарное австро-венгерское командование, пытаясь оправдать свои поражения и неудачи на поле брани в боях с русской армией, искало всюду причины этих поражений в мнимой «измене» галиц-кого и буковинского мужика и интеллигента и, пользуясь при этом усердными услугами польских «патриотов», мазепинских «самостийников» и еврейских прислужников, дало полную волю своим диким, зверским инстинктам с целью уничтожения коренного населения Прикарпатской Руси. Пали жертвой многие тысячи повешенных, расстрелянных и зверски замученных без суда, как тоже и на основании формально вынесенных приговоров военно-полевых судов, где не материальная, фактически доказанная истина, но злобные ложные доносы и заведомо ложные показания были достаточной причиной, чтобы лишить человека того, чего нет ценнее и чего ему ни возвратить, ни вознаградить невозможно, т. е. жизни. Заполнились заключенными тюрьмы и концлагеря Терезин, Та-лергоф, Геллерсдорф, Штейнкламм и многие другие лагеря, десятками тысяч обреченных почти на неминуемую гибель из-за отсутствия самых примитивных условий жизни даже тюремного заключения в мирное время, подверженных к тому жестокому солдатскому произволу. В итоге тысячи страдальцев-мучеников сложили свои головы в чужой, неродной земле. О материальных убытках населения Прикарпатья, о сожженных дотла селениях, грабежах имущества и других разрушениях (все это, конечно, не от руки «неприятельских завоевателей», а от руки австрийцев), превосходящих опустошения монголо-татарских нашествий, даже и говорить не приходится в сравнении с этими страшными жертвами в людях, какие перенес народ Прикарпатья. Но мало всего этого было австрийским империалистам. Они ангажировали еще два «показательных» политических процесса о государственной измене против передовых русско-народных деятелей Галичины и Буковины, чтобы придать видимость законности своим варварским, бесчеловечным действиям во время военного террора. И хотя в этих процессах были вынесены смертные приговоры, эти приговоры ни в чем не доказывают вину подсудимых, а наоборот -являются для них ареолом их патриотизма и любви к Родине, для провозгласивших же эти приговоры палачей и их пособников (доносчиков, лжесвидетелей и проч.) эти приговоры являются неизгладимым пятном на их черной совести. В первом из этих процессов перед Венским дивизионным судом, который продолжался с 21/6 по 21/8 1915 года, были приговорены к смертной казни депутаты австрийского парламента д-р Дмитрий Андреевич Марков и Владимир Михайлович Курилович, русский подданный журналист Дмитрий Григорьевич Янчевецкий, адвокаты д-р Кирилл Сильвестрович Черлюнчакевич и д-р Иван Николаевич Драгомирецкий, крестьянин Фома Яковлевич Дьяков и мещанин Гавриил Львович Мулькевич. Во втором процессе, состоявшемся перед этим же военным судом с 4/9/1916 по 17/2/1917 года, были приговорены к смертной казни: 1. д-р Кассиан Дмитриевич Богатырец, православный священник из Буковины; 2. Илларион Юрьевич Цурканович, редактор из Черновиц; 3. д-р Семен Степанович Булик, адвокат из Мушины (на Лемков-щине); 4. свящ. Роман Прислопский из Жегестова (на Лемковщине); 5. д-р Александр Гассай, канд. адв. из Мушины (на Лемковщине); 6. д-р Иван Сильвестрович Черлюнчакевич, адвокат из Скалата; 7. д-р Александр Иванович Савюк, адвокат из Сянока (на Лемковщине); 8. свящ. Николай Н. Винницкий из Галича; 9. свящ. Корнилий П. Сеник, б. деп. Галицкого сейма из Бережницы Королевской; 10. свящ. Раставецкий (в «Талергофском алманахе» - Роставецкий. - Ред.) Маркелл из Громна; 11. студ. Дмитрий Вислоцкий из Лабовой (на Лемковщине); 12. свящ. Иван Мащак из Липицы Горной; 13. свящ. Иван Станчак из Высоцка; 14. студ. Иван Антонович Андрейко из Тылича (на Лемковщине); 15. Николай Громосяк, крестьянин из Криницы (на Лемковщине); 16. Лука Константинович Старицкий, мещанин из Знесенья возле Львова. Один из подсудимых, свящ. Гавриил Н. Гнатышак из Криницы, умер в тюрьме перед вынесением приговора, а семь остальных суд оправдал. Палачам не судилось приступить к исполнению запавших смертных приговоров по причине, объявленной затем последним императором Австрии Карлом I амнистии, сама же Австрийская империя вырыла себе своей неразумной политикой угнетения своих славянских граждан давно заслуженную могилу, оставив после себя печальную память тюрьмы славянских народов. Начальное место во Втором Венском политическом процессе занимает - не зря поставлен на первом месте обвинительного заключения - подсудимый д-р Кассиан Дмитриевич Богатырец, руководитель культурной и общественной жизни вообще в Буковинской Руси, который выступил на процессе с мужественной, блестящей защитительной речью и заключительным словом. Глубокая уверенность в правоте своих убеждений, горячий патриотизм, логика научной аргументации, неустрашимость и бескомпромиссный героизм этих выступлений д-ра Богатырца, содержащие не личную защиту, а защиту тех высоких идеалов, за которые боролись, страдали и готовы были сложить свои головы галицко-русские деятели, придает этим выступлениям значение непреходящей ценности. Не пустая демагогия и рассчитанное на временный эффект пустословие, а основанная на логике неопровержимых фактов и науки истина характеризует речи д-ра Богатырца - касается ли это инкриминируемого подсудимым, которого источником и колыбелью -как доказал оратор - была именно Австро-Венгрия с её ошибочной политикой угнетения своих славянских граждан, а не погодинская идеология; или относительно исторических корней русского народа в целом; мужественная же защита православной церкви как признанного в б. конституционной Австрии основными законами ее вероисповедания и разительный протест против нанесенных этой церкви оскорблений достоин стать рядом с апелляцией Ивана Наумовича к римскому престолу о попрании прав греко_восточного обряда, которая явилась эпилогом подобного политического процесса о государственной измене во Львове 1882 года, известного под названием процесса Ольги Грабарь (матери маститого русского художника Игоря Эммунуиловича Грабаря) и товарищей, в котором главную роль сыграли просветитель Галицкой Руси Иван Григорьевич Наумович и карпаторусский общественный деятель Адольф Иванович Добрянский (отец Ольги Грабарь). В своих выступлениях д-р Богатырец не обошел молчанием и усердствующих в заклеймении «преступников» лжесвидетелей из-под знамени Мазепы, которые даже сами добровольно являлись на суды, чтобы бросить свои «распни, распни». Взять хотя бы для примера поведение на процессе тогдашнего лидера украинских националистов и председателя украинского парламентского клуба д-ра Костя Левицкого, который в полемической реплике с подсудимым д-ром К.Д. Богатырцем на заседании суда 19 октября 1916 г. выразился: «Оставьте меня со своими знаниями в покое, я лояльный австрийский украинец, а вы все являетесь государственными изменниками, которые заслужили виселицу». Даже военный суд считал возможным вынести оправдательный приговор семи из общего количества 23 подсудимых, а этот локальный австрийский «украинец» желал всех поголовно видеть на виселице. Об гнусных инсинуациях этого «свидетеля» на основании стенографического протокола процесса д-ра Д.А. Маркова и тов. находим интересные сведения в кн.: д-р А.Е. Хиляк «Виновники Талер-гофа в освещении исторических документов», Львов, 1933. Об этих «свидетелях» пишет один из узников Терезина и Талергофа Косма Николаевич Пелехатый': «Не в этом дело, что приговоренные были * Косма Николаевич Пелехатый (1886-1952), б. узник Талергофа и Терезина, был арестован в 1914 году как член редакции газеты «Прикарпатская Русь» во Львове. В Талергофе подвергался пытке подвешивания по прика-позже помилованы, но в том, что свидетели эти не надеялись того, и они употребили всевозможные средства, чтобы только как можно быстрее дождаться смертного приговора самых лучших сынов Руси. И Русь этого им не забудет!» (см. Косма Николаевич (Пелехатый), Второй Венский процесс, в кн. «Календарь о-ва им. Мих. Качковско-го на 1920 год», Львов, 1919, стр. 137). Высокую оценку выступлениям д-ра Богатырца дали даже члены военного трибунала. Один из приговоренных соучастников этого процесса д-р Иван Антонович Андрейко говорит в своих воспоминаниях: «Бесспорно, удачно было прокурором озаглавлено наше дело, которое впредь будет именоваться "Уголовное дело Богатырца и товарищей". Д-р Кассиан Дмитриевич Богатырец - личность крупного таланта, всесторонне образованный, внешне представительный, лучший оратор, логично излагающий свои мысли. Лучшая и верная характеристика дана д-ру Богатырцу в приговоре, в котором на странице 34 сказано: "Д-р Богатырец - это прямо могущественная, величественная личность, которая своим всесторонним образованием, своим сильным, спокойным, но могущественным выступлением сумеет прямо заставить, чтобы его выслушали. Когда он говорит, его речи - это не пустые фразы"». Лучшим доказательством богатырского мужества д-ра Богатырца являются его слова, брошенные военному трибуналу перед объявлением приговора: «Легко можно предвидеть, что нас военный суд приговорит к смертной казни, но я убежден, что ту Австрию, которая сегодня приговорит меня к смертной казни, я, наверно, переживу». Этими словами предсказал подсудимый неминуемую гибель дряхлой Австрийской империи, и, если принять во внимание, что это зу мазепинца обер-лейтената Чировского за заявление о своей русской (руссиш) национальности. После возвращения из Талергофа сотрудничал в галицко-русских изданиях, в том числе в издании «Календаря о-ва им. Мих. Качковского за 1920 год» (Львов, 1919), в котором поместил ряд очерков о репрессиях на Галицкой Руси в мировую войну В последующие годы примкнул к партии «Сельроб» и сотрудничал в газ. «Воля народа». При советской власти состоял заместителем председателя Львовского горсовета и затем председателем Львовского облисполкома; был избран депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета УССР. Всегда живо откликался на нужды обращавшихся к нему земляков. Состоял членом КПСС и был награжден орденом Ленина. В 1959 году был издан Львовским книжно-журнальным издательством сборник его публицистики периода «Сельроба», причем личность автора охарактеризована довольно односторонне (ред. некий Гуменюк) и без надлежащего освещения его публицистической деятельности в целом. было сказано перед военным судом и к тому же в грозное военное время беспримерного произвола, нельзя не признать автору этих слов мужества и героизма. Вещие слова Кассиана Дмитриевича сбылись. Он пережил не только прогнившую Австрийскую империю, но и боярскую Румынию, которая одновременно с панской Польшей сошла бесславно с исторической арены. Он дождался воссоединения родной Буковины с остальной русской землей, что было его заветной мечтой. Д-р Богатырец завершил свой славный трудовой жизненный путь 26 июля 1960 года в Черновцах на 92-м году жизни. Своим мужественным выступлением в защиту народных идеалов он воздвиг себе прочный памятник, оставив благодарную память в сердцах своих земляков. Р.Д.М. (Роман Денисович Мирович) ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ 1. В июне 1914 г. решением суда был освобожден и вернулся в село Ждыня. С началом войны, 4 августа 1914 г., его снова арестовали. Также были арестованы его отец, крестьянин из Ждыни, затем брат и супруга. О. Максим просидел в тюрьме без предъявления обвинения до 6 сентября. 6 сентября 1914 г. без суда и следствия австрийская военная команда под предводительством ротмистра Дитриха расстреляла о. Максима во дворе тюрьмы в Горлицах на глазах его беременной жены, отца и односельчан. Последними словами Максима Сандовича были: «Да живет святое православие! Да живёт Святая Русь!». 14 сентября его отец, жена и брат были отправлены в концлагерь Талергоф (Талергофский альманах 1: 180-183). В 1994 г. Польская автокефальная православная церковь причислила священномученика Максима (Сандовича) к лику святых, в 1996 г. он был канонизирован РПЦЗ. 3 апреля 2001 г. Священный синод Русской православной церкви установил день памяти Собора галицких святых - 3-я неделя по Пятидесятнице. В Собор галицких святых входит и священномученик Максим (Сандович) (Суляк 2011: 132, 134). 2. Подробно биография о. Игнатия (Гудимы) изложена в материале епископа Иова (Смакоуза) (Иов 2011: 74-94). ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ Д-РА КАССИАНА ДМИТРИЕВИЧА БОГАТЫРЦА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 6, 7 И 8 СЕНТЯБРЯ 1916 ГОДА ПЕРЕД ВЕНСКИМ ВОЕННЫМ СУДОМ В ПРОЦЕССЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ Господин председатель военного суда, господа заседатели! Почти два года тому назад нас, подсудимых, арестовали, и когда мы спросили, за что нас, полноправных австрийских граждан, не чувствующих себя ни в чем виноватыми, вдруг лишают свободы, нам ответили, что это случилось по приказу свыше, по причине неизвестной. Когда же нас вывезли на запад Австрии и после короткой интернировки в Св. Мартине перевезли в тюрьму в Линце, и там спросил нас комендант тюрьмы, кто мы и за что нас прислали к нему в тюрьму, мы, назвав себя, на второй вопрос должны были ответить, что не знаем. После того как мы просидели в тюрьме несколько дней, нас привели перед следственным судьей, и только от него мы узнали, что наши имена нашли на каком-то листке, курсирующем между российскими офицерами, оккупировавшими Буковину. После некоторого времени из Линца нас отослали в военную тюрьму в Вене, и тут только мы узнали от следственного судьи д-ра Гайта, что нас подозревают в государственной измене, и что мы арестованы по приказу шефа буковинской жандармерии полковника Фишера, обвиняющего нас в государственной измене. И началось бесконечное предварительное следствие, которое продолжалось около полутора года, и только когда нам доставили обширный обвинительный акт, составленный военной прокуратурой, который вчера и сегодня нам здесь читали, мы узнали, в чем мы будто провинились. Из упомянутого акта мы и познакомились с многими событиями из нашей биографии, о которых мы ранее ничего не знали. Мы узнали, что военный прокурор обвиняет нас в пропаганде столь опасного для Австрии панславизма, что основывали по селам Буковины, Галичины и Закарпатья читальни, райфайзенские ссудо-сберегательные кассы и что пропагандировали в народе «шизму». О, святая инквизиция, о, блаженный Торквемада, какой счастливой радостью засияло бы твое лицо, если б ты узнал, что в двадцатом столетии в высококультурной Австрии нашелся ученик, который обвинит пропагаторов «шизмы» и поставит их перед трибунал sancti officii, или по-нашему инквизиции, чтобы их приговорили к смерти за ненавистную «шизму». Кроме того, и основание ученических общежитий и курсов изучения русского языка, и издание цензурируемых государством газет и журналов - всё это вменяется нам в вину, так как всем этим мы подкапываем основание могущественного австрийского государства. По крайней мере, так утверждает г-н военный прокурор. Сравнивая это обвинение с давними историческими событиями, мне припомнился славный христианский апологет, написавший несколько известных апологетических сочинений, в которых защищал христиан против гонений, инсценированных римским государством против христиан. Итак, этот апологет Тертуллиан пишет: «Если дожди не выпадут вовремя и не появится засуха, сжигающая всю зелень, если Нил не разольется и не нанесет плодородного ила, если страну навестит голод или падеж скота, во всем вы обвиняете нас, христиан, за все мы виноваты, и требуете приговорить нас ad bes^s. Да, времена повторяются. Nihil novi sub sole1, говорил уже старый Соломон. Все, что мы Ьопа fide сделали для просвещения и для поднятия культуры нашего народа, все это мы делали только во вред нашего государства. Логикой такого представления дел пусть восхищаются другие, я отказываюсь от этого. Присмотримся ближе и критичнее, в чем нас обвиняет г-н прокурор. Обвинительный акт в своей структуре состоит из двух частей: первая, очень пространная часть занимается широкими рассуждениями о панславизме, русофилизме и «шизме» (так называет г-н прокурор нашу законом признанную церковь православную, греко-восточную церковь). Г-н прокурор считает православную церковь опасной для австрийского государства, а пропаганду в ее пользу - изменой государству. В это трудно верить, но я докажу, что все это в порядке сложено в нашем обвинительном акте. Г-н прокурор в общей части представляет в общих чертах панславизм, русофилизм и «шизму», т. е. православную веру, как опасны все эти «измы», как враждебны они для Австрии, чтобы после указать на нас, будто пользующихся учениями этих для Австрии столь опасных течений, как самых завзятых врагов Австрии. Ввиду того что г-н прокурор этим своим хитрым планом намеревается выиграть дело, я постараюсь доказать на основании современной науки, что г-н прокурор построил дом своего обвинения на слабом фундаменте, на песке, что все эти фундаментальные камни не те, как он их представил, а совершенно что-то другое, и они не смогут поддержать его обвинений. У нас в Австрии привыкли к политическим процессам против славян, и каждый прокурор и обвинитель в таких антиславянских процессах исходит из того, что между славянами существует общеизвестное пугало, источник всякого зла, имеющий цель уничтожить многонациональную Австрию, а славян, австрийских граждан, оторвать от Австрии и подчинить России. Этим пугалом в данных случаях запугивали судей все прокуроры, чтобы получить приговор обвиняемых славян, а судьям дать возможность показать свой австрийский патриотизм, показать враждебных государству славян, а тем и заслужить себе похвалу, быть спасителями родины и получить награду - орден. Этим пугалом пользовались все прокуроры, почему не воспользоваться им и нашему прокурору? Он и воспользовался им очень широко, представив его, конечно, в таком смысле, чтобы оно господам судьям показалось очень опасным для государства, а нас, обжалованных «панславистов», показал лютейшими врагами того же государства. Потому-то моей задачей будет показать высокому военному суду, что такое этот такой страшный панславизм и действительно ли он такой страшный и опасный для Австрии. Здесь и имею честь заявить, что все мои вышесказанные заявления и утверждения обоснованы на современной эксактной науке, а чтобы доказать, что это не голословные заявления, я приведу всегда и научные источники, чтобы г-н прокурор убедился и мог меня сконтролировать; я приведу и авторов сочинений, на которых я буду ссылаться. В обвинительном акте представляется панславизм как изобретение русского панслависта Погодина, который в сороковых годах минувшего столетия выдумал его на то, чтобы эта его идея распространялась между численными австрийскими славянами, и чтобы затем этих славян оторвать от австрийского государства и присоединить их к России. Эта злосчастная брошюра, в которой Погодин изложил свои антиавстрийские мысли, уже сыграла свою роль в одном процессе 1882 года (процесс Ольги Грабарь и тов.). Тогдашний прокурор выкопал упомянутую брошюру из архивной пыли и на этой брошюре создал свое уголовное обвинение об измене австрийскому государству, хотя и провалился, так как присяжные судьи не признали обвиняемых государственными изменниками, а только нарушителями общественного порядка. Способ обвинения львовского прокурора чрезвычайно понравился нашему г-ну прокурору, так что он целые отрывки из упомянутого львовского обвинительного акта списал дословно в своём обвинительном акте про нас со всеми его грамматическими и орфографическими ошибками. (Здесь председатель прерывает оратора, заявляя, что такие вещи нельзя говорить против государственного прокурора.) Д-р Богатырец: - Я все мои утверждения докажу документально. У нас в Австрии, когда шло о том, чтобы какому-то славянскому народу нанести чувствительный удар, всегда прибегали к панславизму. (Председатель прерывает.) Д-р Богатырец: - И это я докажу безупречными доказательствами. Теперь я вернусь к панславизму, как он представляется в обвинительном акте, и что он такое в свете современной науки. В нашем обвинительном акте о нем говорится, что он родился в России, а оттуда перебросили его в Австрию с целью уничтожения ее. Это совершенно неверно. Наоборот. Я докажу на основании неопровержимых документов, что понятие о панславизме, как оно представляется в нашем обвинительном акте, не то, которое указывает наука. По нашему обвинительному акту панславизм основан Погодиным в России и оттуда переброшен в Австрию, чтобы там соединить всех славян, револьтировать их и затем подчинить России. Значит, цель панславизма - чисто политическая, а что оно действительно так, доказывают, по мнению г-на прокурора, ученики Погодина - Ростислав Фадеев и французский журналист Эдуард Шуасель де Гуфие (Eduard Choisel de Gouffer) в своих публикациях, в которых они требовали дать галицко-русскому населению материальную и моральную помощь, а затем их землю присоединить к России. Так вот говорит львовский обвинительный акт против Ольги Грабарь 1882 года, так дословно повторяет и наш 1916 года! (Председатель прерывает.) Д-р Богатырец: - Я всё это докажу на своем месте! На стр. 22 нашего обвинительного акта нахожу место, где сказано, что уже раньше галиц-ко-русские украинцы упрекали галицко-русских интеллигентов во враждебности к Австрии. Так, уже о. Стефанович в своей газете «Сим», № 4... Читая это место в нашем обвинительном акте, я долго не мог понять, в чем дело. Только после продолжительных студий я нашел, что о. Стефанович издавал периодический журнал «Сион», а прокурор наш, списывая такое прекрасное и эффективное обвинение, написал его так же ошибочно, как его львовский подлинник «Сим»! Господин председатель может скоро убедиться, что дело действительно обстоит так, как я говорю, если сравнит наш обвинительный акт с львовским от 1882 года. На стр. 24 нашего обвинительного акта упоминается газета «Гат-цука» («Gatzuk»), которая в львовском оригинале приводится как газета «Гатчука» («Gatczuk»), так и у нас, с той же орфографической ошибкой. По-моему, следовало бы при составлении обвинительного акта, где идет о жизни и смерти обвиняемого, более критически и добросовестно оценивать обвинительные материалы, а не списывать их без всякой критики со времени совершенно других общественных обстоятельств полстолетия тому назад! Понятия, основания и принципы панславизма в нашем обвинительном акте до того попутаны и неверны, что опровержение их не будет представлять большой трудности. Не в России, а в нашем же отечестве, в Австрии, родилось славянофильство - так назывался сначала панславизм между словаками в Угорщине. Словаки, одна часть которых перешла в протестантизм, - очень развитый народ, из среды которого вышли несколько ученых мужей, которые сыграли в латино-венгерской литературе довольно видную роль. Когда же в течение времени выработался мадьярский литературный язык и мадьяры завели во всех школах Венгрии венгерский язык, не допуская другого языка, как только венгерский, тогда в культурном высокоразвитом словацком народе возник протест против несправедливых мер, принятых мадьярским правительством, и родилась идея организовать все славянские народности Венгрии и заставить венгерское правительство допустить и словацкий язык в Словакии. Так родилась между словаками идея славянофильства. Сейчас, в начале 19-го столетия, в 1802 году в Братиславе (Прес-сбург) основана «Славянская Академия», задачей которой было не допустить мадьяризации словацкого народа, проживающего в Венгрии, и поддерживать национальное сознание словаков. Знаменитым учителем той школы был первый ректор «Славянской Академии» и профессор славянской литературы Иван Палкович. Против деятельности «Славянской Академии» выступили энергично омадьярщенные сыны словацкого народа, которых звали «мадьяронами» - известные деятели Пульский, Людвиг Кошут и граф Зай. Эта первая «Славянская Академия» имела большое влияние на национальное развитие славян, прежде всего в Венгрии, особенно между кроатами (хорватами), словинцами и сербами, которые и у себя поосновывали такие же академии. Известно, что сербский митрополит Стефан Стратимирович из Карловаца поддерживал материально сербскую «Славянскую Академию» и постоянно устраивал в своей епархии даже денежные сборы в ее пользу. Первый выдающийся славянофил из словацкой школы был славный ученый словак Иосиф Дубровский (1753-1823). Его сочинения, занимающиеся исключительно славянофильством (панславизмом), следующие: «Das Lehrgebau dе dеr bohmischen Sрrасhe» («Учебное здание чешского языка»), появилось в 1809 году; «Ethymologie dеr slawischen Sprachen» («Этимология славянских языков»), появилось в 1814 году; «Geschichte dег bohmischen Sprache und Literatur», 1791-1818 («История чешского языка и литературы»); «Geschichte von Halitsch und Vladimir», 1792 («История Галича и Владимирии»); «Geschichte dеs ungarischen Reiches und seiner Neben lander» (17971804) («История венгерского государства и его соседних краев»). Его сочинения воскресили в сердцах народа славянские чувства, а его «История Галичины» немало содействовала пробуждению национального чувства Галицкой Руси. Как видим, место рождения славянофильства (панславизма) - не Россия, а наша таки Австрия, и оно (славянофильство) было вызвано формированием мадьяризации словацкого народа мадьярским правительством. Основанием идеологии славянофильства были приведенные сочинения Дубровского, которые скоро распространились и в других славянских провинциях Австрии, а затем и за границей. Во время Дубровского проживал в Братиславе известный австрийский и немецкий историк Иоганн Христиан Энгель, к которому обратилось австрийское правительство, оккупировавшее тогда Га-личину, с предложением, чтобы он написал историко-научное сочинение о Галичине, ее жителях, кто они такие, об их происхождении, об их политическом и экономическом состоянии. Профессор Энгель обработал требуемый материал вместе с Дубровским; этот последний - со славянской точки зрения, а Энгель - с исторической. Энгель был раньше омадьярщенный немец и поддерживал ма-дьяризацию немадьярских, особенно славянских народностей. Познакомившись с Дубровским и изучив ближе славянский вопрос, он начал относиться к славянам с большой симпатией, так что в его «Истории Галича и Владимирии» он высказывается о русских жителях новоприобретенного Австрией края Галичины довольно симпатично и советует Австрии дать славянам Галичины одинаковые права с другими народами. История Энгеля нашла между галичанами и буковинцами, понимающими тогда уже довольно хорошо немецкий язык, широкое распространение, так что и галичине, и буковинцы познакомились со своей историей и славянофильством из исторического сочинения Энгеля, показывающего в своей истории единство русского народа, проживающего в Галичине, с народом русским, проживавшим за границей Галичины в русском государстве. После Дубровского развивал славянофильскую идею словацкий поэт Ян Коллар, издавший в 1824 году «Коллекцию песней» (около 600) между которыми было стихотворение «Slavy dcera» («Дочь Славии»), где славянская идея прекрасно и живо представлена. Передаю ее кроткое содержание на немецком языке, чтобы познакомить высокий военный трибунал с панславизмом австрийским: «О, Славия, как сладок каждый звук твоего имени! Много страданий ты перетерпела, не только от врагов, но также и от твоих собственных и неверных сынов. Широко ты распространилась от Урала до Татр, от Праги до Москвы, от Петербурга до Константинополя, от Дубровника до Камчатки! И в целом этом пространстве звучит славянский язык. Возрадуйтесь этой нашей великой Всеславией! Если бы славянские ветви были золото, серебро или вообще благородные металлы, я отлил бы из них грандиозный монумент, головой которого была бы Россия, плечи и руки - чехи, туловище -поляки, ноги - сербы, а прочие племена - одежда и оружие. Перед этим грандиозным монументом, доходящим до самых туч, и от шагов которого колебалась бы земля, вся Европа должна бы преклониться. Через 100 лет славянский элемент распространится по всем краям, а языком его - который немцы называют языком рабов - будут говорить в великолепных палатах, и даже враги его будут говорить этим языком. Наука потечет славянскими руслами, а наши одежда, нравы и песни войдут в моду на берегах Сены и Лабы. О, если б я вовремя родился во время славянского господства или, по крайней мере, воскрес к новой жизни!» Что Коллар высказал в поэме «Дочь Славии» в поэтической форме, то пояснил он точнее в научной студии, написанной по-немецки: «Uber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stammen und Mundarten der slavischen Nation» («О литературной взаимности между разными племенами и диалектами славянской нации»). Там говорит он, что славянство представляет собой больше дерево с многими ветвями, одна больше, другая меньше, но все происходящие от одного корня. Между славянами должны уже исчезнуть все недоразумения, ссоры, споры и недоверие, продолжающиеся целыми столетиями, чем пользуются враги в ущерб славянам. Пусть наконец водворится между славянами взаимное понимание, доверие и взаимная дружба. Славяне должны всегда иметь в виду, что только единодушие может защитить их перед денационализацией, национальною гибелью. Славяне должны стараться узнать друг друга. Они должны знакомиться со славянскими языками. Каждый славянский ученый должен знать все славянские языки или, по крайней мере, русский, чешский, польский. Славяне должны войти в духовную связь между собой, должны помогать друг другу, поддерживать друг друга, соблюдать между собой духовную общность, основывать книжные магазины, обмениваться книгами, газетами, журналами. Для изучения славянских языков следует составить сравнительные словари, распространять между собой славянские литературы и вообще предпринимать всевозможные меры, чтобы славян тесно связывать между собой. Из этой программы будущего развития славянства выходит ясно, что везде говорится не о политическом объединении, а о чисто умственном и культурном; а все-таки из-за распространения этих идей не только мадьярские, но и австрийские власти боялись сплочения славян, которые в Австрии и в Венгрии представляли большинство, поэтому и немцы, и мадьяры изобрели славянское пугало - панславизм, и все старались создать угодных себе славян, воспитывая их в ненависти к России, могучей славянской державе. И Коллара преследовало мадьярское правительство и передавало его суду, но суд, не находя конкретных преступлений за Колла-ром, освобождал его. И как раз преследование Коллара причини-лось к быстрому распространению славянофильства в народе. Как видно, у нас historia non est magistra vitae. Самым знаменитым учеником Коллара был общеизвестный и авторитетный Павел Йозеф Шафарик (1795-1861), глубоко вникнувший в идеологию Коллара. Шафарик сумел в своих сочинениях очень ясно и глубоко научно представить славянофильство и панславизм ученому миру. Его «История славянского языка и литературы» и «Славянские древности» («Geschichte der slavischen Sprache und Literatur», 1826 и «Slovanske Starozitnosti», Pest, 1836) составляют, так сказать, основание славянофильства (панславизма). Словацкие литераторы и политики, как Лудовит Штур, Иосиф Гурбан, Михаил Годжа, Главачик и другие, все ученики Славянской Академии, выступали со всей энергией против мадьяризации словацкого народа, за что мадьярские власти преследовали их со всею жестокостью. В 1836 году они (мадьярские власти) закрыли все словацкие общества, исключили словацкий язык из всех школ и протестантских церквей. Сначала распространялась мадьяризация только на католических словаков, а затем, когда инспектором протестантских церквей между словаками был назначен словак-мадьярон граф Зай, - и на протестантских. Зай заявил, что до 25 лет в Beнгрии будет только один народ - мадьярский, если судьба словацкого народа останется в его руках. Посредством сочинений Дубровского и Шафарика познакомились австрийские славяне со славянофильством. Славянская идея начала в Австрии быстро распространяться, и мадьяры испугались, что со временем на юге Австрии могла бы возникнуть из угорских славян новая славянская провинция под режимом Габсбургской династии, чего гипернационально настроенные мадьяры никак не хотели допустить. Тогда они выступили с беспощадной энергией против славянских патриотов, против распространения славянофильской идеи со всею силой и жестокостью. Они закрыли прежде всего в 1836 году славянское «Общество славянских народностей» и запретили употребление словацкого языка в школе и в церкви; этой мерой они надеялись приостановить распространение славянской идеи. Кроме того, они преследовали и всех славянских деятелей. В 1840 году назначен инспектором словацкой протестантской церкви граф Зай, который, хотя словацкого происхождения, был заядлым мадьяроном - так называли омадьярщенных лиц немадьярского происхождения, - который однажды заявил перед словацкою знатью публично, что через 25 лет в Венгрии будет только один язык и один народ - мадьярский, если судьба словацкого народа останется в его руках. Против руководителей славянского движения мадьярское правительство пустило крутые меры. Клеветнические доносы и уголовные процессы были на дневной очереди, один чудовищнее другого. Скоро поарестовывали всех руководителей и народных деятелей и посадили в тюрьмы; настал неописуемый террор. Так, обвинили в 1841 году предводителя словацких студентов Лудовита Штура в государственной измене и поставили его перед судом, который, однако, его оправдал. С таким же результатом кончился и суд над Яном Колларом. Ограничение прав словацкого народа мадьярским правительством вызвало в словацком народе глубокое негодование и сильное движение. Посыпались протесты против мадьярского террора и гнета. Поддержанные народными массами организовались словацкие деятели, и 200 словацких патриотов выступили с энергичным протестом, приложили к протесту и пространный, хорошо обоснованный мемориал, где были представлены все кривды, и беззакония, и террор со стороны мадьярского правительства, поехали в 1842 году в Вену и передали императору свою жалобу-мемориал с просьбой защитить словацкий народ перед террором и беззакониями венгерских властей. Последствием прошения было, что положение словацкого народа улучшилось, но после некоторого времени на Словаччине все вернулось к старому, мадьяры начали повторять свои тер

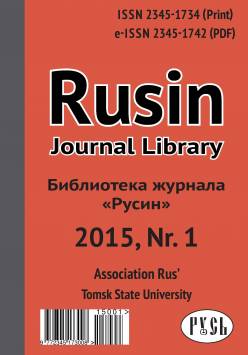
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью