Путевые заметки о долине Среднего и Нижнего Дуная
Статья представляет собой часть из отчета А.С. Будиловича о заграничной командировке 1872-1873 гг. Он посетил Германию, Австро-Венгрию, Румынию, Сербию, Черногорию, европейскую часть Турции. Командировка охватывала и славянские земли Австро-Венгрии. Особое внимание ученый уделил Буковине, Молдавии, Валахии, Трансильвании, Подкарпатской Венгрии и Хорватии. Он познакомил российское общество с русинами Буковины и Угорской Руси. Поездка имела важное значение и для личной жизни ученого. Он познакомился с видным деятелем русинского возрождения А.И. Добрянским и его семьей. Впоследствии Будилович женился на его дочери Елене.
Putevye zametki o doline Srednego i Nizhnego Dunaya [Travel notes on the valley of the Middle and Lower Danube].pdf Совершив несколько этнографических экскурсий из г. Черновиц по окрестным селениям Надпрутской долины, я отправился (29 августа 1873 года) на юг, в Придунайские княжества, с целью хотя бегло ознакомиться с общественными и народными отношениями этих стран, с их главнейшими центрами, с движением их литературы и науки. На почву румынской, или волошской народности я вступил в г. Сучаве, а оставил ее в Мармарошском Сиготе, посетив по очереди Яссы, Галац, Бухарест, Брашево1, Сибин2, Колошвар3, Дебрецин. Затем я пробыл несколько недель в среде наших ближайших заграничных соплеменников, угорских русских, в их городах: Сиготе, Гуште, Му-качеве, Унгваре, Бардееве, Пряшеве и в некоторых деревнях Зем-линской и Шаришской жупаний. Наступили затем осенние месяцы, не совсем удобные для деревенских экскурсий, вследствие чего я предпочёл провести их в городах. Рассчитывая найти что-нибудь поучительное и для себя на Венской всемирной выставке, я отправился в Вену и имел возможность более или менее внимательно изучить интересовавшие меня (археологические и этнографические) отделы. Из Вены я еще раз посетил Прагу, где собрал некоторые данные для характеристики современного общественного и экономического положения Чехии, Моравии и австрийской Силезии, а равно и некоторые другие материалы этнографического и историко-литературного характера. Из Праги я отправился затем в Пожун4, а оттуда в Пешт, где оставался более полутора месяца (4 декабря 1873 - 25 января 1874 г.), совершив оттуда две небольшие экскурсии - в Вышеград и в некоторые центры Словенской земли (Турчанский св. Мартин, Кляштор под Зниовым, Зволян, Банская Быстрица). Наконец, в конце января месяца я перебрался из Пешта в хорватский Загреб. Таким образом, вторую половину 1873 года я посвятил преимущественно изучению территории, населения и истории следующих стран: Буковины, Молдавии, Валахии, Семиградья, Венгрии (Подкарпатской) и Хорватии. Не могу сказать, чтобы знакомство мое с этими странами и теперь, после путешествия в них, было особенно полное и обстоятельное. Для этого необходимо было бы на каждую из них отдельно посвятить, по крайней мере, полгода времени. Мне же пришлось ограничиться лишь самым существенным - в знакомстве с положени- 1 Кронштадт. 2 Германштадт. 3 KLauseburg. 4 Pressburg. ем, отношениями и историей вышеназванных стран и их населения, отложив изучение частностей до другого, более благоприятного случая. Притом в настоящем очерке я могу представить лишь краткие беглые намеки на то, что будет развито в подробном описании моего путешествия, которое я надеюсь издать впоследствии. Русское население Буковины составляет до 250 000 душ, хотя статистическим показаниям центральных австрийских комитетов, равно как и показаниям народных переписей, верить абсолютно невозможно, потому что эти переписи всюду почти и притом довольно систематически направлены на преуменьшение (хотя кажущееся) населения славянского в пользу всякой другой народности - немецкой, мадьярской, итальянской, румынской. Единственное в этом отношении исключение составляют поляки, которых местная статистика не только не преследует, но даже заметно покровительствует им - за счёт русских. Вообще же можно сказать, что русский элемент даже статистикам внушает наиболее забот и заставляет их постоянно прибегать к разным приемам - конечно, фиктивного лишь - его ослабления. В Буковине это совершается с помощью румынского элемента, в Венгрии - с помощью мадьярского, отчасти даже словенского. Как бы то ни было, русское население в Буковине составляет абсолютное большинство. Границы его трудно определить, потому что они не идут по одной определенной линии, а, напротив того, во многих местах прорывают этнографическую черту румы-нов и смело врезываются в глубь их народной территории. Оттого ни Прут, ни Серет не могут быть названы пограничной русско-румынской рекой. Есть острова русские и за Серетом, на Сучаве, даже под самой Кирли-Бабой, на крайнем юго-западе провинции близ границы Семиградья. Я расспрашивал местных старожилов о том, в которую сторону раздвигается область народная, и почти все уверяли меня, что это совершается в пользу народности русской и на счёт румынской. Это тем замечательнее, что румынская народность является здесь привилегированной в сравнении с русской. В руках румынов находится большая часть крупных поземельных участков. Они имеют преобладающее влияние и в светских, и в духовных управлениях, потому что и немцы, влиятельные в местной администрации, гораздо нежнее относятся к богатой «панской» народности румынской, чем к бедной мужицкой - русской. Румыны имеют несколько гимназий, русские - ни одной. Даже в семинарии духовной, где русские решительно составляют большинство, русские ученики должны учиться на румынском языке, должны учиться на румынском языке проповедовать впоследствии в русских приходах! И, несмотря на все это, русская народность в Буковине ширится, а румынская - убывает. Что касается народного типа, то нужно различать здесь три элемента русского населения. Самый многочисленный из них - гуцульский. Этот горный тип встречается не только в горных и пограничных с румынами частях Галиции и Буковины, но и в закарпатском (венгерском) Мармароше. В этом типе замечается сильная примесь крови волошской. Не в одном только высоком росте, смуглом лице, стройной осанке и гордых приемах отражается эта примесь южной крови, но и в костюме, в песне, в музыке, в обстановке быта, в языке гуцула. Уж одна женская юбка в виде двух связанных платков (спереди и сзади) достаточно свидетельствует о румынской «моде» у гуцульских красавиц в Буковине, в округе Коломыйском и в комитете Мармарошском. Столь же родственны между собой оригинальные мотивы музыки гуцульской (коломыйка) и волошской. Замечательно, что те же мотивы составляют особенность и цыганской музыки, господствующей как в Приду-найских княжествах, так и в Венгрии собственно мадьярской. Один русский путешественник выражал мне свое удивление по поводу странного сходства музыки цыганской с персидской. Не принесли ли цыгане этой музыки из Азии (Индии, Персии), и не послужили ли румыны лишь распространителями этих мелодий в среде прикарпатских горцев? Кажется, что и евреи хлебнули из этого музыкального источника. Танцы гуцульские и волошские тоже очень сходны3. Даже «дипломатическим» языком у гуцулов при плясках служит волошский (как в цивилизованных обществах - французский)! На волов своих гуцул тоже кричит по-волошски (но относительно лошадей и собак я встречал в Буковине применение немецкого языка, как «международного дипломатического»: vorwarts, ruckwarts и т. д.). Подобно румыну, гуцул предпочитает кукурузу всякой другой пище. Мамалыга, плачента - любимые его блюда. Какая-то затем поистине волошская беззаботность и легкомыслие отличают гуцула4. Конечно, в этой последней области трудно решить, где оригинал, а где копия: русские ли от волохов или волохи от русских заимствовали свою лень, беспечность и страсть к пьянству. Или это признак их общей принадлежности к «ориенту», к «греко-славянскому» культурному миру? Несомненно только, что и мадьяры в этом отношении - наши «восточные» братья. Только у них эта лень еще величественнее, а беспечность еще первобытнее. Было бы, однако, несправедливо все общее в типе и быте русских и волохов приписывать одностороннему влиянию вторых на первых. Еще могущественнее, без сомнения, было влияние первых на вторых, что и отразилось не только в современном языке волохов, но и в массе волошских исторических памятников, писанных на русском языке. Ниже еще будет речь об этом; теперь же заметим лишь факт чрезвычайного сходства между русскими и румынами, и притом так, что подоляне русские похожи на молдаван, а горцы (гуцулы) - на волохов в собственном смысле, или «мунтян». С другой стороны, очень вероятно, что большую долю гуцулов составляют обрусевшие волохи. Это видно, между прочим, из географической номенклатуры карпатских жилищ гуцулов. Волош-ский язык запечатлелся в названиях гор и равнин на всем почти протяжении Карпат, но преимущественно в южной, гуцульской их части. Нет сомнения, что одним из важнейших деятелей в этой совершившейся здесь русификации румынов был церковнославянский богослужебный язык, лишь недавно вытесненный румынским. Нет сомнения, что и другие элементы народные присоединились к образованию этого любопытного гуцульского типа, но важнейшим, основным долженствовал быть волошский. В исторических изысканиях о том, когда, в каком веке совершилось образование этого типа, когда и как он вошёл в Буковину, поселился и все далее в ней распространился и распространяется, пускаться здесь не стану, так как это вопрос мало еще разъясненный. Буковина была, между прочим, полем борьбы Польши с Турцией, что не могло не отразиться и на населении этой области. Оно прежде было очень малочисленно и углублено в горы. Но со времени присоединения к Австрии область быстро населилась и развилась. Вероятно, в это уже время преимущественно расширилось в Буковине и гуцульское её население. Как бы то ни было, в настоящее время это самый сильный из элементов местного населения, разрастающийся, несмотря на все неблагоприятные условия. К вышеизложенным соображениям о румынской основе гуцульского типа можно привести еще одно обстоятельство, не лишенное своего значения. Все, можно сказать, буковинские гуцулы суть православные, а не униаты. Зовут же они себя и волохами5, но не русскими: русский в Буковине означает униата. Почему это? Потому, что волох действительно еще упорнее в православии, чем русский. Хотя в Семиградье есть и румыны-униаты, но в Буковине таковых почти нет: все буковинские униаты6 суть позднейшие (после Иосифа II) выходцы из Галиции. Но число таких униатов-русских в Буковине очень незначительно: для униатской пропаганды оказалась в Буковине почва равно неблагоприятная как между волохами, так и между гуцулами. Кроме этих двух частей русского населения Буковины - гуцулов и галицких переселенцев-униатов, есть там еще третья, незначительная по числу, но важная по идеям, какие она представляет, и по энергии своих членов. Это липоване, то есть великорусские раскольники, имеющие здесь, в Белой Кринице, свою митрополию - не только для Буковины, но и для всего русского староверческого мира. Я не стану распространяться здесь о религиозном направлении и значении этих белокриницких раскольников. Скажу только о той репутации, какой они тут пользуются между другими элементами населения. Каких-нибудь 5 000 душ в трех-четырех деревушках, а сколько труда, какую деятельность умеют они развить в стране! Своей особой специальностью считают они земляные работы. И действительно, значительная часть дорог и мостов, рвов и каналов - не только в Буковине, но и в смежных частях Галиции - произведены этого горстью «мужиков-инженеров». В последнее время они ходят на работы и в Бессарабию. Говорят они на чистейшем великорусском языке; живут строго, честно и зажиточно; на людей других народностей и исповеданий смотрят с недоверием, но и вместе с каким-то высокомерным сознанием своего превосходства. В последнее время между ними образовалась партия, желающая возвратиться в Россию, примириться с землей своих предков; но митрополит и его штат очень неблагосклонно относится к этой мысли, боясь потерять свое «папское» влияние по удалении их из своего белокриницкого Рима. Примирение с этими упрямыми людьми очень подняло бы авторитет России между другими заблудшими её детьми, например липованами в Молдавии и некрасовцами в дунайских плавнях и Добрудже. Известно, что этим турецким теперь русским принадлежат в настоящее время плавни, то есть гирлы Дуная. В 1853-1854 годах они составляли авангарды турецких войск; но теперь я замечал в разговорах с некоторыми из них недовольство своим положением и как бы тоску по родине своих отцов. Впоследствии в Яссах, Галаце и Бухаресте мне пришлось встретить еще другой вид русского раскола, именно скопцов; но те производят впечатление уже другого рода. Конечно, и они не потеряли русской сметки и находчивости; они трудолюбивы и бережливы, зажиточны и трезвы. Но уродство физическое кладет и на духовную их сторону какое-то темное, зловещее пятно. На гладком, равнодушном их лице читаешь невольно какую-то затаенную злобу, подавленное страдание и как бы презрение к себе и к людям. В Придунайских княжествах, вероятно, наберется до 1000 приверженцев этой мрачной секты. Большая их часть занимается извозчичьим промыслом в больших городах. Лучшие рысаки в обеих румынских столицах, самые изящные экипажи, блестящая сбруя принадлежат этим русским скопцам. Мне случалось слышать, что общество румынское потому и смотрит сквозь пальцы на вскрывающиеся по временам безобразия этой секты, что боится потерять несравненных своих кучеров-извозчиков. А кто бывал в Яссах и Бухаресте, тот знает, какую громадную роль играет в жизни этого легкомысленного общества катанье по Corso или шоссе... Скажу теперь несколько слов об интеллигенции буковинских русских. К сожалению, как и во многих других славянских землях, она далеко не соответствует своему народу - ни по количеству, ни по качеству. Особенно падает этот упрек на русское духовенство Буковины. Других интеллигентных русских сословий здесь и быть не может. Помещики - почти все румыны либо немцы, евреи и армяне. Между чиновниками хотя и есть русские, но они должны соображаться со своими начальниками, преимущественно немцами. Между учителями тоже есть русские, но они должны преподавать либо на немецком, либо на румынском языках и таить свои народные чувства. Духовенство могло бы быть более заботливым о нравственных потребностях своего народа. Нужно вспомнить, что нигде почти в Австрии духовенство не представляется столь обеспеченным материально, как в Буковине. Прежде богатства буковинского духовенства были еще значительнее. Иосиф II, закрыв здесь двадцать один монастырь (из 25), наложил руку и на церковные имущества. Из иму-ществ этих образован был так называемый Studien und Religions-Fond, который в Буковине и в настоящее время представляет до 11 миллионов в капиталах и до 10 миллионов в имениях (особенно леса, составляющие почти половину всех лесов Буковины). Как ни плохо управление этим фондом, все же духовенство буковинское получает с него более 700 000 флоринов. Имея в виду, что сумма эта распределяется на духовно-религиозные потребности народа менее чем в полмиллиона душ, можно понять, что положение православного духовенства Буковины довольно обеспеченное. Лучшим доказательством этого служит нововоздвигаемая в Черновцах резиденция православного епископа, ныне митрополита Буковины и Далмации. Это одно из громаднейших и красивейших, но вместе с тем одно из самых дорогих зданий Австрии. Более миллиона издержано уже из сумм религиозного фонда Буковины на сооружение этого здания, а оно еще далеко не окончено. Странно видеть такую расточительную роскошь в резиденции православного владыки полумиллиона (но с Далмацией все-таки менее миллиона) душ! Уже одна эта резиденция может служить достаточным указанием как на богатства буковинской церкви, так и на неуменье ее пользоваться этим богатством... Не из одного источника слышал я также о жадности некоторых, другие говорят - очень многих православных священников Буковины. Эта жадность при исправлении треб бывала даже поводом к совращению православных буковинцев в унию, духовенство которой гораздо безупречнее в этом отношении. Что касается развития народного сознания в большинстве русского православного духовенства в Буковине, то недостаточность его видна уже из того, что в его среде чрезвычайно распространено употребление немецкого языка. Это не только дипломатический, но и семейный язык значительной части русского священства Буковины. Нельзя отрицать, что есть и теперь уже несколько дельных и ревностных патриотов в среде как духовной, так и светской интеллигенции русской в Буковине, но это исключения, хотя приятные, но, к сожалению, довольно редкие. В этом отношении даже Галиция гораздо выше Буковины. Есть в Черновцах, правда, клуб «Русская беседа». Прежде было даже две: гражданская и ученическая; потом они слились воедино; но особенного оживления в местную общественную русскую жизнь они не внесли. Отношение интеллигенции румынской к русской (в Буковине) довольно верно можно охарактеризовать размерами основного фонда черновицких «бесед»: румынской, с одной стороны, и русской - с другой. Фонд первой доходил до 50 000 флоринов, а второй - едва до 1500 флоринов. Что касается влияния, какое может иметь октроированное недавно австрийским министерством иерархическое соединение Буковины с Далмацией, то оно едва ли будет вредно народным интересам славян буковинских или далматинских. Как ни противоестественна эта административная комбинация, она, однако, оказалась более неприятной румынам, чем славянам. Первые предпочли бы союз церковный с любой страной румынской, например Семиградьем и Молдавией, так как мысль о сближении разрозненных частей «великой Дакии» занимает не последнее место в голове румынских патриотов. Естественным же центром тяготения церкви буковинско-русской был бы восток, если бы этому не препятствовали многие обстоятельства внутренние и внешние. Во всяком случае, нельзя отрицать, что природа, и страны, и население приковали Буковину к славянскому востоку еще более, чем к волошскому югу, не говоря уже о задунайской Германии. Сюда, на восток, текут все реки Буковины; сюда направлены все ее торговые пути; сюда стремятся инстинкты населения. Каждое лето масса буковинских горцев спускается в соседнюю Подолию, Бессарабию и далее до Днепра и Черного моря на заработки. Лишь немногие из русских Буковины ходят в Молдавию. Во всяком случае, эта небольшая, но интересная область во многих отношениях заслуживает внимания русских ученых. Своими преданиями, своим населением, своими интересами она связана с соседними областями Южной России. От западных центров науки она слишком удалена и в прямом, и в переносном (нравственном) смысле. Оттого она очень мало еще исследована как в физическом, так и в историческом отношениях. Существующие описания Буковины7 не выходят за пределы кратких популярных очерков, особенно в исторических и археологических своих отделах. История буковинских монастырей исследована отчасти львовским ученым О.А. Петрушевичем; но, к сожалению, лишь незначительный ее отрывок был напечатан в одном исчезнувшем уже теперь черновицком периодическом издании. Очень было бы желательно побудить г. Петрушевича обнародовать продолжение своего труда; он обозрел и архивы буковинских монастырей, вследствие чего труд его должен быть очень важен для истории Южной Руси политической и религиозной, с Приднестровьем и Припрутьем. Мне удалось рассмотреть еще один рукописный труд о Буковине, именно этнографическое описание одной ее части (Бергомет над Прутом и соседние селения), со сборником песен, пословиц и т. д., составленное г. Купчанко и находящееся ныне в распоряжении Киевского отдела Императорского Русского географического общества. Этот сборник заключает немало интересных данных, но он обнимает лишь незначительную часть русской Буковины. Здесь я решаюсь высказать убеждение, что в интересах науки русской этнографии,было бы очень желательно, чтобы Русское географическое общество обратило свое внимание на этнографическое изучение и закордонных частей русского племени, то есть на русское население Галиции, Буковины и Восточной Венгрии. Это тем важнее, что значительная, а именно подгорная часть этого населения доныне осталась на довольно патриархальной ступени общественного развитая и потому представляет в живом виде много исчезнувших уже везде черт древнерусского быта, нравов, обрядов, поверий и т. д. Немалую в этом отношении услугу оказало русской науке Московское общество истории и древностей изданием сборника народных песен галицких, а отчасти буковинских и венгерско-русских И.Ф. Гловацкого. Но область эта неистощима и неисчерпаема в научном отношении. Между тем в последнее время, после многих изменений в общественных и народных отношениях австрийских народов (с 1848 года), старые условия быта сильно потрясены даже в самых недоступных культурным влияниям ущельях Карпатских гор. Пути сообщения, школы открыли туда доступ новым элементам, новым идеям: в Галиции преимущественно польским, в Буковине - немецким и румынским, а в Венгрии - мадьярским. Поэтому с каждым днем понемногу гибнет здесь народная русская старина в быте и понятиях, гибнет, следовательно, драгоценный материал для этнографа, археолога и историка. Было бы очень поэтому желательно, чтобы наши этнографические южнорусские экспедиции распространялись по возможности и на подкар-патские области русского племени. Перехожу теперь к соседней южнорусам и во многом чрезвычайно им родственной народности румынской, или волошской. Границ строго определенных эта народность не имеет. Правда, что некоторые румынские мечтатели определяют эти границы реками Днестром, Тисой и Дунаем, но на пространстве, обнятом этой линией, живёт несколько миллионов нерумынов, во многих случаях более или менее сплошными массами, как, например, мадьяры в Бихарском, Аразском, Чанадском, Ченградском, Бекешском и т. д. комитатах; сербы в западном Банате, русские в Мармароше, Угоч-ском, Сутмарском, Заболотском комитатах, в Коломыйском округе, Северной Буковине, в низовьях и гирлах Дуная. Даже внутри их собственной территории есть значительные острова инородцев, например острова зикских секляров, затем брашовских, сибинских и быстрицких саксов в Семиградье. Значительную часть городского населения в Молдавии составляют евреи, а в Валахии - болгары. Города же придунайские представляют пеструю смесь всех почти восточных и некоторых западных народов. Стоит пройтись по площадям и набережным Галаца, чтобы составить себе понятие о разнокалиберной смеси толкущихся здесь народов. Рядом встречаете вы тут и греческий фес, и турецкий тюрбан, и румынскую овчинную шапку, и швабский цилиндр, и еврейскую мыцку. Такое же смешение в языках, в лицах, в нравах. Румынская народность представляет чрезвычайно любопытное этнографическое явление. Тут повторяется то, что замечается и между евреями: противоречие между языком и бытом, формой и содержанием. Кто назовет еврея немцем, несмотря на все то, что он говорит в семье и в общественных отношениях на немецком как на родном языке? Столько же трудно назвать романцем волоха, хотя говорит он на одном из романских наречий. В самом деле, что общего с западными соплеменниками своими имеет этот волох? Что его роднит с ними: вера ли, общественный ли строй, характер или быт? Зайдите в его церковь. Правда, теперь вы уже не услышите звуков славянского языка, но увидите еще всюду славянские буквы, ибо и Куза не в состоянии был вытеснить кириллицу из церковного употребления, даже при румынском языке. А если икона подревнее, то непременно вы прочтете на ней славянскую надпись. Взгляните на этот купол, который возвышается над вами, на эти стены, разукрашенные оригинальной живописью, на стиль этих зданий, на характер этой живописи: разве это романский запад? Пройдитесь по любому волошскому городу, конечно, не немецкому только, по улицам Ясс, Галаца, Бухареста, присмотритесь к этому раскидистому простору, к этим то грязным, то пыльным улицам, к постройке этих одноэтажных пёстрых домиков с плоскими крышами: разве это не наш родной привольный, но безалаберный восток, тот же восток, который преследует вас всюду, где живет славянин, грек, турок, волох, мадьяр? Войдете вы в волошскую деревню, посмотрите на эту деревянную «архитектуру», на эти соломенные крыши, присмотритесь к домашней утвари, к их хозяйственным приборам, к узорам их тканей, прислушаетесь к мотивам их песен, приглядитесь к характеру их плясок и сколько найдете во всем этом поразительно сходного со славянским, особенно же с малорусским! Та же поэзия и та же беспечность; то же добродушие и то же отсутствие самообладания; те же величавые приемы и та же неповоротливость в обращении; та же верность своим религиозным преданиям и суеверие столь же невежественное. Даже белые украинские быки с бесконечными рогами также неизбежны в каждом почти волошском селе. Только лицо несколько смуглее, жестикуляция живее, кровь жарче. К торговле и ремеслам волох обнаруживает очень мало наклонности. За него это исправляют евреи в Молдавии, болгары в Валахии, а саксы и другие немцы в Семиградье и Венгрии. Волох столь же исключительный земледелец, как малоросс или мадьяр. Лишь в горах он пускается - и то по нужде - в промыслы. Впрочем, нужно различать - как всюду, так и здесь - волоха-горца и волоха-подолянина. Первые называются там мунтянами; а вторые иногда смешиваются с названием молдаванина. Отношение между ними почти то же, что между гуцулом или верховинцем (в Венгрии) и подолянином русским. Первый несколько грубее, суровее, но и энергичнее; последний мягче, добрее, но и апатичнее. Между первыми есть целое сословие пастухов, знаменитых волошских пастухов, распространивших свое имя и приемы пастушеского дела не только по Карпатским, но отчасти и по Балканским горам. Оттого в разных славянских наречиях и доныне слово «влах» служит почти синонимом пастуха. Не они ли разнесли волошские названия по целому гребню Карпатов до самых Татр, между которыми тоже есть одна гора Волошин? Центром и исходным местом этих волошских мунтян были, по-видимому, Альпы Семиградские - южные и восточные. Едва ли другому обстоятельству, как не недоступности этих гор, румыны обязаны своим народным спасением. И баски лишь в горах спасли свою народность в круговороте веков и тысячелетий. То же было с кельтами, албанцами, осетинами и др. К вышеизложенным чертам сходства или этнографического сродства между румынами и славянами можно присоединить еще одну печальную историческую примету. До последнего времени румыны всюду почти и в полном смысле слова были беззащитными общественными париями. Не стану вспоминать здесь вековой неволи турецкой, немало сроднившей румын со славянами общностью страданий. Приведу лишь один факт из истории семиградских румынов. Известно, что они составляют в Семиградье громадное большинство населения в сравнении со всеми другими элементами - мадьярским, секлярским и саксским. Тем не менее политический триумвират се-миградских народностей состоял из мадьяров, секляров (тоже ветвь мадьяров) и саксов! Румынов словно там и не существовало! Но еще тяжелее этого политического рабства было рабство социальное, крепостная зависимость от помещиков, имевших громадное значение как в Семиградье, так и в княжествах, значение, не вполне утраченное и в настоящее время. Правда, что румынские крестьяне эмансипированы и в Австрии (1848 г.), и в княжествах (1864 г.). Но эмансипация эта не освободила их от зависимости. Аристократический элемент слишком силен здесь не только громадными своими богатствами, но и солидарностью интересов, привычкой господствовать, превосходством образования, влиянием на правительство. Нужно при этом вспомнить, что как в Венгрии, так и в княжествах власть находится преимущественно в руках инородцев, в которых, следовательно, румынская народность не может ожидать особенного к себе расположения. Как бы то ни было, румынский народ представляется в настоящее время почти повсеместно расколотым на два очень различных слоя, между которыми мало сродства в быте и в интересах. Верхний класс - боярство, знать, и низший - misera contribuens plebs. Большая часть того, что сказано выше о румынах, относится преимущественно к последнему, низшему классу народа. Он же составляет и громадное большинство, может быть, 90 % населения, так как интеллигентный класс вообще здесь очень незначителен. Раскол между двумя классами румынского народа так силен, как, быть может, был в России некогда, при Анне Иоанновне или Петре III. Разница эта немало усиливается и тем обстоятельством, что румынская, то есть между румынами живущая аристократия в значительной части - иностранного происхождения: в Венгрии - мадьярского и немецкого, а в княжествах - греческого, турецкого, сербского. В Венгрии даже религия разделяет знать от простого народа: первая принадлежит преимущественно к протестантам (мадьяры - кальвинисты, немцы -лютеране) или католикам, а последний исповедует православие. В княжествах этого различия нет; но стремление к нему и здесь начинает пробиваться. С тех пор как между румынской интеллигенцией стал пробиваться романизм, или, лучше сказать, «галломания», появилось кое-где и стремление эмансипироваться от востока и примкнуть к западу в религиозном отношении. Первый удар направлен был на славянский язык в богослужении, второй - на кирилловскую азбуку в гражданской и духовной литературе. Но на этом пока и остановилось дело. Корни румынизма слишком глубоко всосались в почву православия, чтоб одним усилием можно было их вырвать из этой почвы и пересадить на другую. Впрочем, религиозный индифферентизм составляет уже теперь преимущественную религиозную атмосферу, в которой растет и развивается румынская «интеллигенция». Вследствие этого так сочувственно отнеслась она к тому сильному удару, который нанесён румынской церкви князем Кузой через секуляризацию церковных имуществ и упразднение всех почти румынских монастырей в княжествах. Конечно, часть ответственности за это равнодушие общества к интересам своей церкви должна пасть на голову служителей последней, слишком часто забывавших свои обязанности в отношении к своему народу и живших своими интересами, личными и кастовыми. Но, с другой стороны, значительная часть церковных доходов княжеств должна была отсылаться в патриархию и употребляться на цели, часто противоречащие интересам румынской народности. Во всяком случае, общество вправе было требовать от своего правительства, по крайней мере, употребления секуляризованных имуществ на цели религиозно-нравственные. Иосиф II также взял в казну монастырские имущества в Австрии; но он образовал из них Sudien und Religions Fond, тогда как в Румынии те имущества поступили в число государственных, употребляются на армию, пути сообщения и т. д., на вещи, конечно, нужные, но очень различные от тех, на какие они пожертвованы завещателями. После этой конфискации церковных имуществ румынское духовенство утратило и остаток своего веса и значения. Боярство не имеет в нем противовеса своим олигархическим стремлениям. Несмотря на потерю дарового крестьянского труда, румынские бояре находятся все еще в довольно блестящем материальном положении. Доходы в 50 000 или 100 000 червонцев - не редкость между ними. К сожалению, в последнее время между ними стал сильно распространяться вкус к роскоши, к разорительным путешествиям, а вследствие этого они стали входить в долги. Конечно, долги показывают развитие кредита, но здесь они служат признаком важного общественного переворота - перехода крупного землевладения и капиталов от волошских бояр к немецким спекулянтам, евреям-ростовщикам и греческим торговцам. Что выиграет от этого народ, покажет время. Вообще современное общественное состояние Румынии не представляется особенно утешительным. Не стану касаться здесь неурядиц политических и плохого состояния румынских финансов (несмотря на все выгоды естественного положения страны, на превосходное качество почвы, обилие водных путей, близость к торговым хлебным рынкам). Не стану распространяться о легкомыслии румынского общества, легкомыслии в отношениях семейных и общественных, о призрачной свободе народа, с благодарностью, но и с грустью вспоминающего о временах графа Киселева, когда господствовал закон и для сильных, и для слабых. Не буду говорить о деморализации политических представителей народа, о их готовности служить под каждым «выгодным» знаменем. Скажу лишь несколько слов о состоянии образования в княжествах. Несмотря на то, что в крае есть два университета и несколько гимназий, состояние школ в Румынии, по собранным мною сведениям, очень печально. Достаточно привести тот, например, факт, что в городе Галаце с более чем 70 000 населения существует лишь 4-классная гимназия. Кто ищет для своих детей серьезного образования, посылает их в немецкие гимназии в Брашево, Сибин или Черновцы. Аристократия воспитывает детей в разных заграничных заведениях. Лучшие профессора княжеств - те, которые вызваны из Семиградья и Буковины. Любви к литературному и ученому труду заметно еще мало. Книжные магазины Ясс, Бухареста и т. д. наполнены произведениями французской литературы. Замечательно это одностороннее пристрастие румынского общества к Франции! Немецкий и английский языки и книги здесь еще мало распространены и не популярны. По-видимому, немало содействовал этому Наполеон III, его слава, обаяние его имени, его влияние, господствовавшее здесь особенно с 1856 года; Куза немало потрудился в этом направлении. Русский язык мало кому известен в княжествах; русская книга - величайшая тут редкость. И однако все симпатии народных масс румынских, все ее надежды еще в большей мере устремлены на Россию, чем симпатии интеллигенции - на Францию. Немецкая же наука и политика пользуются здесь самым слабым влиянием и на интеллигентное общество, и на массы. Судя по всему этому, русская литература, русский язык имеют там будущность, но настоящее почти безраздельно принадлежат французскому языку и литературе. Собственно румынская литература чрезвычайно еще бедна и скудна. Сам язык литературный еще не установился, и правописание не определилось окончательно. По количеству и качеству своих произведений румынская литература не может сравняться и с сербской, не говоря о чешской, польской или русской. Любимейшую область изучения, конечно, и здесь составляют отечественная история и древности. Со времени Кантемира уже кое-что сделано8, хотя, к сожалению, много вредит румынским историкам какое-то пренебрежение их к славянским языкам и к истории соседних славянских народов, с которой румынская история переплетена самым неразрывным образом. Историк румынов и мадьяр должен быть славистом, а славист принуждён включить Румынию и Венгрию в круг своего изучения, если хочет понять историю славян, соседних с этими странами и отчасти и их населяющих. Большое преимущество перед своими товарищами имеет в этом отношении новейший историограф Румынии г. Хаждев (Hasdeu). Уроженец Бессарабии и воспитанник Харьковского университета, он имел возможность изучить русский язык и обратить внимание на другие славянские наречия. Ему обязана славистика изданием многих важных кирилловских исторических памятников, касающихся истории приду-найских стран в его «Archiva istorico a Romanici» (Бухарест, 5 выпусков). Но обширнейший и важнейший труд г. Хаждева составляет его «Istoria critica a Romaniloru», которой 1-й том вышел в прошлом году в Бухаресте. План этого сочинения, обнимающего внутреннюю и внешнюю историю всех областей древней Дакии (область между Днестром, Тисой и Дунаем), задуман очень широко, может быть, слишком широко. Автор предполагает поочередно рассмотреть территориальную, политическую, религиозную, общественную, экономическую, литературную и другие стороны румынской истории, что должно составить содержание 20 или 30 больших томов. Первый том (40) обнимает территориальную историю румынов с древнейших времен. Нет сомнения, что автору удалось разрешить немало темных вопросов из географии древней и новой Дакии, и очень желательно, чтобы наши слависты обратили внимание на этот труд. Я имел возможность лишь бегло перелистывать это сочинение и потому воздерживаюсь от критики, хотя не могу умолчать, что мне показались неуместными многочисленные экскурсии автора в область исторической методологии и философии, которые лишь затрудняют и автора, и читателя, а нисколько не относятся к специальному предмету его исследования. Г. Хаждев редактирует еще румынский ежемесячник по части истории и критики «Троянова колонна», не лишенный интереса и для славистов. Лучший топографический обзор княжеств составлен г. Фрунеле-ску (Dictionaru topograficu Zi Statisticu alu Romanici, 1872). Самый значительный сборник народных румынских песен составлен известным румынским поэтом Александри9. Есть еще сборники Пом-пилиу (Balade populare Romane. Jassi, 1870), Wartha (Dorulu. Бухарест, 1873) и др. Из работ еще не напечатанных упомяну об обширной истории Молдавии, составляемой г. Гармазаки в Черновцах. Архимандрит Ав
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 164
Ключевые слова
А.С. Будилович, славяне, русины, Австро-Венгрия, Буковина, Угорская Русь, A.S. BudiLovich, Slavs, Rusins, Austro-Hungary, Bukovina, Hungarian Rus'Авторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Будилович Антон Семенович | Санкт-Петербургская академия наук | русский филолог, славист, публицист, редактор, общественно-политический деятель, популяризатор славянофильских идей, профессор историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине; профессор |
Ссылки

Путевые заметки о долине Среднего и Нижнего Дуная | Библиотека журнала «Русин». 2017. № 1 (6) . DOI: 10.17223/23451734/6/2
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 973
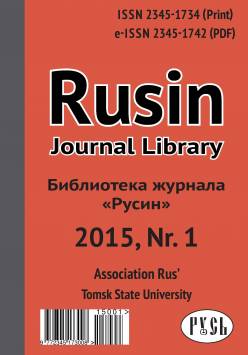
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью