Галицко-русская политика последних лет
В статье А.С. Будилович передает содержание книги Н.И. Антоновича, видного деятеля галицко-русского движения, в которой автор предлагает свое видение деятельности этого движения в Галиции. Даная книга была конфискована австрийской цензурой.
Galitsko-russkaya politika poslednikh let [Galician Russian politics of the last years].pdf В числе нынешних общественных и политических деятелей Галицкой Руси одно из первых мест занимает учитель перемышльской гимназии и посол Львовского сейма д-р Ник. Антоневич. В прежнее время, когда в Галиции действовали Яхимович, Куземский, Ковальский, Наумович, Антоневичу не приходилось быть представителем так называемой «святоюрской», или старорусской партии; но в последние годы обстоятельства постепенно выдвинули его на первое место в ряду нынешних общественных деятелей Галицкой Руси. Это особенно выразилось со времени наступления так назыв. «новой эры», после того как осенью 1890 года учитель львовской гимназии и депутат сейма Романчук выступил с программой примирения русских галичан с поляками и с правительством на началах довольно близких к польской и украинофильской программе. Антоневич первый от имени галицко-русского народа выразил протест против этой программы и с тех пор сделался как бы представителем исторического русского направления в Галичине. Это особенно обнаружилось во время январского веча во Львове, на котором появление Антоневича вызвало небывалую овацию и единодушное заявление, что его знамя является национальным для русских галичан. Тем интереснее узнать мнение о галицких событиях последнего времени такого компетентного лица и деятеля. Мнение же это изложено им в особой брошюре, озаглавленной «Галицко-русская политика. Записки посла д-ра Ник. Антоневича». Львов, 1891 г. Она напечатана в конце истекшего года, но конфискована еще до выхода в свет по требованию прокуратуры. Эта конфискация была затем подтверждена львовскими судами первой и второй инстанций, так что брошюра эта как бы не существует в печатном виде, а может рассматриваться как рукопись. Это обстоятельство заставляет нас несколько подробнее ознакомить читателей с ее содержанием, которое вместе с тем представляет последний фазис в развитии русско-польских отношений в Галиции. А. Б. Изложив в начале брошюры некоторые обстоятельства своей служебной деятельности и отразив распространенные врагами упреки в оппортунизме и пристрастии к полякам и шляхте, которые достаточно уже опровергаются одним фактом 25-летнего служения столь выдающегося лица на одном и том же скромном учительском месте, г. Антоневич переходит к общественным и политическим отношениям в Галиции последних лет. Автору брошюры приходилось беседовать с сотнями галицко-русских патриотов, и он убедился, что так называемая «новая эра» принесла с собой весьма печальные результаты и вызвала нынешнее невыносимое положение русских патриотов. Но народ русский не поддался на эту удочку, и, несмотря на восхваление «новой эры» в многочисленных адресах, вызванных то приказами и угрозами, то просьбами и обманом, намерение сокрушить «русофильскую» партию потерпело полное фиаско. Даже генеральное собрание младо-русской «Народной рады», которое должно было пропеть этой партии «вечную память», не имело успеха, что весьма огорчило устроителей этого собрания и протекторов «новой эры», а Романчуку поневоле и по внушению свыше пришлось примириться с неудачей. Партия «старых» оказалась сильнее «молодых». В настоящее время ни для кого уже не тайна, что все эти обещания уступок «для блага Руси» были лишь сплошной комедией и обманом. Это сознавал и сам Романчук, который после злосчастного 13 (25) ноября 1890 г. «пожелтел, почернел и трясся всем телом», так что даже ободрения брата наместника, «сердечного» гр. Ст. Бадени, не могли его успокоить. Романчук оправдывался тем, что его «втянули» в последний момент; он согласился, ибо верил в обещанные уступки, «а если этих уступок русским не будет, - говорил он, - я сложу с себя посольский мандат и больше не буду заниматься политикой». Не одобряли поведения Романчука и его единомышленники. При начале последней сессии сейма (в 1890 г.) гр. Ст. Бадени сообщил русским послам, что интерпелляции их, очень внимательно прочитываемые императором, раздражают наместника, и советовал им не вносить больше подобного рода заявлений, дабы снискать себе расположение последнего, «который много может сделать». Антоневич и Герасимович обещали представить этот вопрос своему клубу. Это не понравилось графу, и переговоры с ними на этом и кончились. Вскоре, однако, они узнали, что переговоры ведутся дальше. Разошлась весть, что министр Залеский посетил депутата Телишевского. На запрос в клуб д-ра Короля о целях этого посещения Телишевский наивно отвечал, что он дважды был у наместника по делам своего турецкого уезда, не застал его дома, и Залеский только отвечал ему визитом. Никто, конечно, кроме Романчука, не удовлетворился этим ответом. При таком положении дел в русском клубе не заметно было прежней деятельности, хотя в начале сессии русские послы обещали продолжать свои интерпелляции и предложения. Все ограничивалось обещаниями. Замолк и Телишевский, вносивший за год перед тем такое обилие запросов. В 1889 г. членами русского клуба было сделано множество самостоятельных предложений и интерпелляций, между тем в 1890 г. число их значительно сократилось. Сами заседания стали реже и ограничивались прениями по поводу устава и программы. Дуализм русского клуба становился все более и более очевидным; громко уже говорили о переписке одной части его с Министерством иностранных дел и об усиленном ходатайстве некоторых русских депутатов сейма относительно передачи издания школьных учебников из рук старорусской Ставропигии младорусскому Обществу имени Шевченко. В это время Телишевский, поддерживавший связи с польским обществом, вступил в какие-то переговоры, о которых, однако, русский клуб не был уведомлен. О проекте соглашения, жертвой которого сделались русские «старой» партии, стали говорить и многие из депутатов-поляков. Таким образом, Галицкая Русь удостоилась нового «соглашения». Для ближайшего объяснения последовавших затем событий автор считает необходимым остановиться, хотя и «с отвращением», на жалкой манифестации 13(25) ноября 1890 г. Автора упрекали в том, что в своей речи он восставал против народных читален и порицал всю украинскую литературу, между тем он в ответ на восхваления о. Сечинским западной культуры заявил только, что влияние Запада сказывается и на русских читальнях в виде распространения в них женевских изданий, грозящих подорвать религиозность и нравственность русских галичан. Что касается речи Романчука, то автор возражал против нее прежде всего потому, что она была явным нарушением клубного устава и шла вразрез с его солидарностью. Сверх того, Романчук в партийном ослеплении обвинял первых га-лицко-русских писателей за заимствования из языков и славянского, и «российского», благодаря которым их язык, «не будучи еще российским, перестал-де уже быть русским». Отсюда следовало-де неизбежно и признание общерусского национального единства, что выражено-де было еще в 1866 г. одной из «русских» политических газет («Слово»). В нападках этих Романчук дошел до того, что стал обвинять самого себя, так как и он немало содействовал «русификации» галицкого наречия как бывший сотрудник «Слова». Чтобы показать, как смотрели на этот вопрос «украинцы чистой воды», автор приводит мнения Н.И. Костомарова и А.А. Потебни, лично им слышанные еще в 1863 г. в обществе Ад.И. Добрянского, покойного С.Ф. Раевского, Маркелла Лавровского, О.Н. Ливчака и др. Костомаров, показавшийся автору рьяным русофилом, прямо заявил-де, что утверждать, будто малорусы и великорусы (Ruthenen und Russen) - различные народы, было бы слишком смело. «Есть-де различия в выговоре, однако это недостаточно для такого заключения; говорить же о двух русских языках - это просто вздор!» В разговоре по этому предмету, продолжавшемуся, по словам автора, около 3-4 часов, Потебня категорически заявил, что нет этнографа и философа, который в состоянии был бы провести границы между малорусским и великорусским населением: до того они сливаются в соседних селах. Возражения М. Лавровского, стоявшего на украино-фильской точке зрения, были-де весьма слабы и легко были опровергнуты. Порицая украиноманию, которая ведет неопытную русскую молодежь к гибели, Потебня говорил, что главными и самыми ловкими апостолами являются студенты-поляки Киевского университета. Между русскими студентами Львовского университета были даже и такие, которые мечтали об очистке «русского» языка от всех слов, употребляемых «москалями». Действительно, в это время начали «ковать» диковинные слова, вроде «шаноба», «шана», «шаниб-ный» и др., которые не могли, однако, утвердиться в языке, тем более что сочинения украинских писателей по-прежнему наполнены словами «московскими», как, напр., приказчик, денщик, семейство и проч. Изгнание общерусских слов нельзя не назвать сепаратизмом, хотя некоторые считают это «борьбой за самостийность русско-украинского языка». Ничтожные результаты, достигнутые такими деятелями, лучше всего характеризуют цену этих усилий. Соглашаясь вполне с Романчуком, заявившим, что галицкое наречие развивалось быстро благодаря трудам первых галицких писателей, автор добавляет, что 1860 год в этой деятельности был кульминационным пунктом. Достаточно-де упомянуть о трудах Б.А. Дедицкого, Устиановича, Федьковича, Гушалевича, Лисикевича и др. Победа над проектом гг. Иречка, Евтс. Черкавского и Голуховско-го, желавших навязать галицким русским латинскую азбуку, одержанная в 1859 г. Куземским, Головацким, Лозинским, Малиновским и Дедицким, еще более укрепила силы галицко-русских патриотов. Тогда Голуховский и комп. выдумали для Руси новую орфографию, или, вернее, какографию, против которой опять единодушно восстала вся Галицкая Русь. В 1864 г., познакомившись во Львове с советником Юлианом Лавровским, автор и от него услышал мнение, что галичанам не следует допускать общерусского единства, хотя бы в этнографическом лишь отношении, ибо в таком случае ни правительство, ни поляки им «ничего не дадут». «Нам следует действовать дипломатически, - говорил Лавровский, - если мы желаем принести пользу для всей Руси». Автор отвечал ему на это, что в Вене сов. Суммер сделал еще более радикальное предложение, а именно - образовать из галиц-ко-русского наречия три языка: гуцульский, подольский и лемков-ский, чтобы таким образом совершенно отделить галицких русских не только от «москалей», но даже и от украинцев. Что касается упомянутой какографии, то она все еще не исчезла, а живет доныне, пожалуй, даже в худшем виде, с уродливыми «пи-кельгаубами», и называется «школьной правописью»! Нет сомнения, что со временем выйдет и третье ее издание, а в конце концов она распадется сама собой, ибо правописание, которого никто, кроме газетки «Учитель» и издателей школьных учебников, не придерживается, не имеет прав на существование. Характерно-де и то обстоятельство, что поддерживаемые правительством газеты «Вестник», а позже и «Мир» употребляли хороший язык и старое правописание, хотя уже тогда существовала какография. Поборником литературной отдельности малорусского «языка» в последнее десятилетие был особенно проф. Э. Огоновский, хотя раньше, до 1860 г., он тоже держался старых преданий в языке и правописании. Перемена в этом отношении совпала с назначением его профессором Львовского университета, которое вызвало сильное негодование среди тогдашних украинцев. С этого времени проф. Огоновский отрекся от прежних убеждений и стал во главе украинского направления в галицко-русской литературе. В начале 1872 учебного года он прочел торжественную речь, в которой высказал свои взгляды на историю славянских языков, особенно же русского, все более и более настаивая на полной самостоятельности малорусского языка, или «мовы». Г. Антоневич опровергает его положения собственными же словами Огоновского и теми противоречиями, которые незаметны лишь для официальных славистов Австро-Угрии. Далее автор указывает на столь же странные противоречия в намерениях поляков на галицко-русские отношения в последние десятилетия, именно с тех пор, когда национальные идеи стали учитываться и в галицком обществе. Считая это пробуждение народного сознания пустым капризом, поляки в унисон кричали: «Niema Rusi!» и стали доказывать, что галицко-русский говор есть только «наречие образованного польского языка». Когда же это наречие в дальнейшем развитии стало быстро приближаться к языку «российскому», тогда они обозвали этот диалект московским и в употреблении его стали видеть и преследовать чуть не государственную измену. Польские дипломаты стали внимательно следить за стилем русских галичан, разделяя их на «москалей-русофилов» и на «истинных русинов», смотря по процентному отношению общерусских или местных терминов и форм в языке галацких писателей. Есть, однако, и между польскими учеными люди, которые не любят галичан за желание оставаться такими, какими создал их Бог и сделала история. Так, проф. Львовского университета Л. (проф. Лиске?) в беседе с Ан-тоневичем сказал ему однажды: «У вас есть прекрасная земля, способные люди, есть определенное будущее, если только вы сумеете заткнуть тот мешок, из которого постоянно сыплются перекинчики». Далее автор доказывает, что между Малой и Великой Русью не было никогда этнографического различия, причем ссылается на летописи и даже польские хроники. Со времен Иоанна III последние даже перестали употреблять термин «Московское царство», заменив его названием «Русь», «Россия». Потому-то и первые польские учебники всеобщей истории, излагая события XVI и XVII вв., всегда говорят: «wojny russkie», «stosunki russkie». Также выражался-де г. Леванель, не подчинявшийся шовинистическим взглядам польских эмигрантов. Исторические права русских галичан, говорит далее автор, основываются на том факте, что Галичина присоединена была к Австрийской монархии не как польская провинция, но как исконно русский край, как Галицко-Владимирское королевство (Regnem Galiciae et Lodomeriae). Но судьба заставила их жить вместе с другим славянским племенем, поляками. Для этой совместной жизни необходимо найти какой-нибудь modus vivendi, если уже невозможно полное согласие. Насколько, по мнению автора, русские галичане обладают всеми необходимыми для искреннего и прочного согласия данными, настолько у большинства поляков замечается отсутствие таковых. Самые горячие русские патриоты, любя свой язык, свою церковь, дорожа своими национальными идеалами, уважают и то, что дорого полякам; они читают и говорят по-польски. Между тем польский горячий католицизм явно переходит-де в ультрамонтанство, а патриотизм - в шовинизм. Для значительной части поляков русская церковь в русский язык кажутся чем-то низким; понятия русский человек, холоп, варвар для них синонимы. Неудивительно поэтому, что в прочное и искреннее соглашение с поляками всем как-то мало верится. Печальным надо признать и тот факт, что один из послов Державной думы, сам славянин, открыто заявил, что для него славянство не стоит и понюшки табаку. Еще печальнее то, что этим шовинизмом увлекаются и некоторые русские политики, мечтающие, быть может, на этом фундаменте да на взаимной ненависти к «москалям» заключить прочный договор. Весьма знаменательно и следующее признание гр. Мир., бывшего губернатором в Боснии, человека весьма дальновидного и образованного, с которым Ан-тоневич беседовал о примирении с поляками и которому выразил свое мнение относительно его возможности, так как среди нынешнего поколения поляков нет еще зрелого для этого материала. «Вы вполне правы, - сказал граф. - Мы, мужчины, могли бы приступить к делу, но наши женщины и ксендзы никогда не признают примирения на началах равенства!» Надо поэтому ждать других поколений или перемены воззрений польского общества. Вторая причина, по которой примирение с поляками в настоящее время невозможно, кроется-де в нынешнем настроении поляков. Веря искренне в воскресение Польши «от моря до моря» и надеясь, что оно осуществится при содействии Австрии, они считают необходимым всеми мерами усиливать польский элемент. «Всякие уступки Руси были бы ослаблением Польши, следовательно, они немыслимы!» Покойный посол Янко, горячий польский патриот-демократ, говорил автору: «Я сознаю, что вы справедливо жалуетесь на обиды, наносимые вашему народу поляками и правительством, но мы не можем делать вам уступок; вы не имеете понятия о том, какими путями и какой ценой приобрели мы от правительства некоторые из них, да и то административным путем! Наша делегация буквально поступила на службу немцам... Мы отреклись от самих себя, от наших преданий и идеалов, а вы хотите, чтобы мы поделились с вами тем, что нам так дорого досталось». Таковы были воззрения поляка-демократа, человека до известной степени беспристрастного. Как же тут мириться! С одной стороны, русофилы и чистой воды славянофилы, а с другой - русофобы, для которых все славянство не стоит и понюшки табаку (Поповский); с другой стороны, убеждение, основывающееся на истории, что Червонная Русь - искони русский край, а с другой - предрассудок, будто эта Русь - неотъемлемая часть польского организма. Однако, по мнению автора, примирение и даже не в далеком будущем возможно, ибо и сельское сословие, и большая часть мещан стоят, безусловно, за искреннее соглашение; даже среди духовенства и женщин-патриоток найдутся личности, стоящие за него. Так как несомненно, что убеждения поляков при усилении демократических идей изменятся, то и русским следует изменить свою «тактику». «Мы должны, - говорит Антоневич, - обращаться с поляками вполне откровенно, но не отступать от своих национальных убеждений; тогда среди нас не будет ни лизунов, ни перекинчиков. Притом мы должны заняться нашим народом, улучшением его материального и нравственного быта». Не следует только рассчитывать на уступки «из милости», так как их следует приобрести честной борьбой. Уже с первых дней возрождения Галицкой Руси начались попытки соглашения, которые, однако, не могли быть прочны. Русские были слабы, и поляки не могли считать их равными себе, а примирение со слабым - это только «служебный договор». Ни «соглашение» Лавровского, воодушевившее на некоторое время Галицкую Русь, ни переговоры Фомы Полянского, верившего в добрые чувства поляков, не привели ни к чему. Поляки стали требовать от Полянского, чтобы он «бросал грязью в своих», и он решил оставить политическое поприще. Так же бесплодны были и переговоры Стеф. Качалы с кн. Юр. Чар-торыским, Черкавским и др. В эпоху этих переговоров русские послы придерживались «святоюрской» политики, т.е. верно служили правительству, даже во вред собственным интересам. Вскоре, однако, все убедились, что пора изменить эту политику, что сервилизм в ней совершенно неуместен и вреден, что следует не просить милостыни, а решительно домогаться справедливости, тем более что само правительство признавало исторические права Галицкой Руси. К чести украинофилов, они первые вступили на этот новый путь. Последовал славный период народных веч, период согласного действия галицко-русских партий. Польские дипломаты встревожены были этим согласием и всеми мерами старались ослабить впечатление, произведенное вечевыми манифестациями. В Вене русских галичан ославили как анархистов и социалистов, в Риме - как тайных схизматиков и опасных русофилов. Рим решил обратить их при помощи иезуитов в искренних католиков и отдал иезуитам Добромиль, а с ним и русское монашество; известный ультракатолик митрополит Иосиф был удален за свою преданность народу; начался ряд социалистических процессов и, наконец, знаменитый Hochverrathsprocess 1882 г. Но все это ни к чему не привело. В Вене, благодаря «высоким покровителям», убедились в непоколебимой преданности русских галичан престолу, в их верности и преданности своей церкви. Энергическая «рейхсратная троица» - Ковальский, Кулачковский и Озар-кевич - много содействовали укреплению такого убеждения, и это обстоятельство привело к новому «соглашению» 1883 года. Переговоры начались по желанию министра Земялковского, который заявил о. Николаю Виницкому, что гр. Альфреду Потоцкому поручено переговорить с виднейшими русскими патриотами. По предложению о. Виницкого, старавшегося первоначально привлечь к этому делу сов. Ковальского, который отказался от участия в нем, не надеясь на успех переговоров с поляками, был избран для ведения переговоров Антоневич. Он написал обширное письмо (как было условлено) по адресу о. Виницкого, в котором развивал свои взгляды на возможное соглашение. Письмо это, написанное по-польски, предназначено было собственно для министра Земялковского; но оно произвело, по уверению о. Виницкого, прекрасное впечатление и на гр. А. Потоцкого, а также на нового наместника Залеского. Когда гр. Потоцкий потребовал от Антоневича список лиц, с которыми следует вести переговоры, то он предложил в члены совещания о. Петрушевича и о. Павликова из своей (старорусской) партии, а д-ра Ал. Огоновского и Юл. Романчука - из украинской. Все приняли предложение гр. Потоцкого, тем более что, как скоро обнаружилось, он был посредником не поляков, а центрального правительства и, вероятно, самого государя. При таких обстоятельствах соглашение с гр. Потоцким представляло для Руси более гарантий, чем так назыв. «новая эра». Это «соглашение», сохраняемое до сих пор в тайне, в высшей степени замечательно. Деятельное участие в составлении его принимал Романчук. Вот почему трудно простить ему роль в «новой эре», которой он уничтожил и свое собственное дело. Наиболее замечателен финал этого «соглашения». Принимая от русских депутатов готовый доклад, покойный граф произнес памятные всем слова: «Этот документ будет странствовать, поедет в Вену, вернется во Львов и снова в Вену; вы получите то, что вам следует, но не сразу, а постепенно. Правительство должно, однако, удовлетворить вас, ибо вы доказали, что у вас есть сила!» Этой силой, по замечанию автора, является народ. С этим согласился и гр. Потоцкий. «Поэтому вся наша деятельность, - заключает Антонович, - должна быть направлена на то, чтобы солидарностью снова приобрести силу; мы должны заботиться не только о просвещении, но и о материальном и нравственном возвышении нашего народа. Это начало и конец нашей политики». Польская дипломатия, как мы уже заметили, усиленно старалась умалить значение «соглашения» с гр. Потоцким, а так как им интересовался сам император, то русских галичан представляли ему как «схизматиков», социалистов, анархистов, москвофилов и т. д. Все же, благодаря этому именно «соглашению», открыты были русские параллельные классы при перемышльской гимназии, и получено было место одного члена в областной управе; этим же обусловлено было распоряжение министра юстиции (от 9 июня н. ст. 1891 г.) относительно ведения ипотечных книг на русском языке. Русские послы считали своим долгом и дальше путем интерпелляций и предложений требовать других уступок, рассчитывая и впредь на сочувствие верховной власти. В сеймовых кружках и за сеймом рассказывали следующую историю, или, скорее, легенду, которая как нельзя лучше характеризует положение русских. При императорском дворе и бедная Русь име-ла-де своих покровителей. Самым влиятельным из них был покойный наследник Рудольф, всегда горячо защищавший Галицкую Русь, особенно после поездки по Галичине. Император, внимая заступничеству любимого сына, потребовал основательного разъяснения га-лицко-русского вопроса, что возложено было на одного из венских гофратов, считавшегося знатоком галицких отношений. Он должен был представлять императору точные рапорты о польско-русских отношениях в Галичине. Оружие враждебной польской дипломатии тупело, и желаемый эффект не был достигнут. Дошло до того, что, как гласит легенда, одному высокопоставленному защитнику польской дипломатии было замечено: «Вы, наверно, смотрите на галицкие отношения через ваши специальные очки!» Польская дипломатия убедилась теперь, что возведенное интригами здание скоро распадется вдребезги. Между тем русские послы проявили замечательную деятельность как в сейме, так и в Державной думе и на львовском вече 1889 г. Наиболее замечательна памятная интерпелляция их в сейм 16 ноября 1889 г., «поразившая интригу в самое сердце». Автором ее был собственно посол Кулач-ковский, Романчук же занялся лишь ее окончательной отделкой и первый подписал ее, принимая, таким образом, на себя ответственность за ее содержание. Эта интерпелляция была, без сомнения, не на руку областному управлению; лучшим доказательством этого служит тот факт, что русские послы М. (Мандычевский?) и О. (Озаркевич?), считавшиеся всецело правительственными, не хотели подписать ее. Сильное впечатление должна была произвести она и в Вене. В интерпелляции этой было сказано, что поляки, желая подавить национальное, культурное и экономическое развитие Галицкой Руси, представляют «русских», трудящихся на этом поприще, революционерами и социалистами, раздувая единичные и самые ничтожные факты до неимоверных размеров. Эта интерпелляция, а также решительный и солидарный образ действий русских послов на сейме 1889 г. вызвали в русском клубе мысль об изготовлении общей программы, которой в будущем руководилась бы вся Галицкая Русь. Изготовление ее поручено было Романчуку как председателю посольского клуба. 13 (25) марта 1890 г. созваны были Романчуком доверенные лица из Львова и провинции, одобрившие набросок его программы примирения и стремление к разделу Галичины, предложенное самим Романчуком. Но ни проект соглашения, ни политическая программа Галицкой Руси, ни адрес императору с жалобами на состояние Галичины не были готовы к сроку (к маю 1890 года). Когда осенью 1890 г. снова собрался сейм, Романчук вместе с послами Кулачковским и Рожанковским снова принялся за изготовление программы общих действий. Замечательно, что программу эту Романчук обсуждал еще за несколько дней до произнесения так на-зыв. «своей программой речи» в сейме, и это обстоятельство служит лучшим доказательством, насколько неожиданна была эта речь для членов русского клуба. Но и на всех галичан она произвела чрезвычайно тягостное впечатление. Как школьники или грешники исповедали Романчук с К0 свое «credo» перед теми, кого никто не считал образцом лояльности. Еще страннее было подобное исповедание политической веры в устах митрополита, произнесенное перед либералами и жидами Львовского сейма. Что в этом не было никакой надобности, подтверждается заявлением правительственного комиссара в сейме (24 окт. 1890 г.) о твердой вере правительства в лояльность русского народа к австрийской монархии и ее династии. Еще меньше оснований было для исповедания религиозного, ибо в Австрии свобода вероисповедания обеспечена основными законами. Чтобы исправить все это зло и восстановить добрые отношения между галицко-русскими партиями, автор считает необходимым; 1) Совершенно забыть о «новой эре», а тем из послов, выборы которых состоялись «известным» всем способом, сложить с себя свои мандаты или, по крайней мере, отречься от служения своим протекторам. 2) Литературные и языковедные споры предоставить ученым и писателям, в компетенцию которых входит и вопрос об образовании литературного языка. 3) Остерегаться всякого нигилизма как в литературной, так в особенности в политической жизни, где он, как доказала «новая эра», действует самым разрушительным образом. 4) Заняться просвещением народа, улучшением его материального и нравственного быта. 5) Для достижения этой цели необходимо учреждать читальни, общественные склады хлеба и разных товаров, организовать общества трезвости, созывать веча и т. п. Тогда поляки, убедившись в нашей силе, перестанут мешаться в наши дела и оставят свои «сердечные указания» для себя.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 191
Ключевые слова
А.С. Будилович, Галиция, русины, Австро-Венгрия, русинское возрождение, A.S. BudiLovich, GaLicia, Rusins, Austro-Hungary, Rusin RevivaLАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Будилович Николай Иванович | Санкт-Петербургская академия наук | русский филолог, славист, публицист, редактор, общественно-политический деятель, популяризатор славянофильских идей, профессор историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине; профессор |
Ссылки

Галицко-русская политика последних лет | Библиотека журнала «Русин». 2017. № 1 (6) . DOI: 10.17223/23451734/6/4
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 973
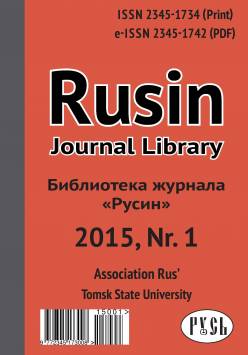
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью