О задачах славяно-русской археологии по отношению к областям и народностям нынешней Венгрии
В статье А.С. Будилович поднял вопрос об изучении истории славян Венгрии. В то время венгерские власти пытались ассимилировать все невенгерские народности, «убрать» славянство из истории своей страны. Исследователь предлагает российским ученым активизировать изучение этой темы.
O zadachakh slavyano-russkoi arkheologii po otnosheniyu k oblastyam i narodnostyam nyneshnei Vengrii [On the objectives .pdf Хотя местная прибалтийская археология не может не считаться основной задачей Археологического съезда, собравшегося в г. Риге, тем не менее часть его внимания как съезда общерусского должна, конечно, быть обращена и на другие важные задачи русской археологии, отчасти же и тесно с ней связанной археологии общеславянской. В этом предположении я позволяю себе обратить внимание на вопрос, который, выходя за рамки археологии прибалтийской, составляет, однако, органическую часть археологии русской, особенно для древнейших периодов русской жизни, когда она протекала параллельно с жизнью прочих славянских народов, отчасти и в тесном взаимодействии с последними. К тому же нельзя упускать из виду, что даже для тех русских археологов, которые склонны ограничивать задачи своей науки исследованием доисторических и исторических древностей в пределах Русского государства, превращая, таким образом, археологию из науки этнологической в науку государственную, не может быть совершенно чуждой археология венгерская, или угорская, в частности же археология угрорусская и т. д., ибо в противном случае они были бы лишены возможности изучать русскую археологию сравнительно с русскими родственными ей отделами археологии европейской, т.е. были бы лишены того сравнительно-исторического метода, который оказался столь плодотворным в языковедении, мифологии, этнологии, социологии, даже вообще в истории и прочих науках гуманитарных, в том числе и в общей археологии. Но и независимо от этих методологических соображений археология областей и народов нынешней Венгрии не может быть для нас безразлична и по своему содержанию. Не разделяя высокомерного взгляда на эту землю местных - старых и новых - патриотов, выраженного в известном латинском двустишии: Extra Hungariam non est vita: Si est vita, non est ita, мы не можем, однако, не признать, что по своему географическому положению, племенному составу и культурно-историческим отношениям страна эта имеет особую важность для научного изучения вообще, а археологического в частности, особенно в системе археологии славяно-русской. В самом деле, Венгрия - это как бы мост от областей русских к чехо-словенским, с одной стороны, а сербохорватским и словинским - с другой, в более же широком смысле - от мира восточного, сарматского, потом греко-славянского, к миру западному, римскому, романо-германскому. Такое значение принадлежит Венгрии не в настоящее лишь время, но еще более - в прошедшем, во всяком же случае, с той отдаленной поры, когда, по словам нашей Начальной летописи, «сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне земля угорьска и болгарска». То обстоятельство, что в середине Венгрии и на её юго-восточной окраине живут довольно плотной массой народы неславянские, именно мадьяры и румыны, вовсе не лишает этой страны значения серединного узла всего славянства, ибо названные инородцы настолько смешались со славянами в смысле физическом и нравственном, что являются ныне как бы полуславянами и, след., законным предметом изучения в славянской этнологии, истории, археологии. С другой стороны, чудское происхождение мадьяр делает их территорию, предания, быт, важным подспорьем для чудского отдела нашей археологии, в которой они должны занять место наряду с эстами, финнами, корелою, мордвою и другими нашими инородцами чудского корня. Чтобы видеть всю важность для славяно-русской археологии вопросов, решение которых невозможно без основательного изучения вещественных и бытовых остатков угро-славянской старины, достаточно напомнить хоть некоторые из этих вопросов, например, о времени поселения славян за Карпатами и расселения их оттуда; об отношении угорских и дакийских славян к дакам и гетам, иллирам и языгам, кельтам и германцам, римлянам и валахам; о происхождении и древнейших границах Закарпатской Руси; о местоположении и племенных соотношениях Белой Сербии и Белой Хорватии; о древнейших племенных отношениях славян фрако-болгарских с одной стороны, а панноно-хорутанских - с другой; о племенных отношениях и дальнейших перерождениях гуннов и авар, угров и печенегов, половцев и узов; о племенном составе и культурном наследии Великоморавского государства; о первоначальной площади распространения кириллицы и глаголицы; о пан-ноннизме в церковнославянской письменности в связи с историей Задунайской Венгрии; о времени и обстоятельствах распространения христианства между подкарпатскими славянами; о роли Венгрии в культурной борьбе мира латино-немецкого с греко-славянским и т. п. При изучении «Славянских древностей» Шафарика на каждой почти странице можно заметить, сколь важным подспорьем было для него при разработке этого сочинения близкое знакомство с географией, этнографией и историей родной ему Венгрии. Потому-то позволительно высказать предположение, что слабая разработка угро-славянских древностей является главным тормозом в дальнейшем развитии славянской археологии и истории. Но, быть может, нам стоит лишь подождать, и все упомянутые, равно как и другие, смежные вопросы угро-славянской древности будут постепенно решены местными силами, в частности же мадьярскими учеными учреждениями и обществами, в каковых нет недостатка в Будапеште и многих других городах нынешней Венгрии? Ведь имеются же там археологические общества, музеи, коллекции, производятся раскопки, исследования, издания, словом, живёт и развивается мадьярская археологическая наука, в интересах которой организована была и выставка древностей в составе общей будапештской милленарной выставки 1896. Конечно, все это имеется в Венгрии, и на содействие местной мадьярской археологии можно до некоторой степени рассчитывать по вопросам археологии доисторической, а также по археологии эпох римской, кельтской, до некоторой же степени и готской, гуннской, аварской, мадьярской, половецкой, турецкой. Но по отношению к археологии угро-славян-ской на труды учёных и учреждений мадьярских мы рассчитывать никак не должны. Со времени возникновения и постепенного развития в Венгрии мадьяризма как национально-политической тенденции, задавшейся целью заглушить все немадьярские народности Венгрии и переплавить их в народность мадьярскую, перестали появляться в ней ученые, которые, подобно старым Белю, Вагнеру, Бортоло-Мендесу, Катоне, Фейеру и н. др., не игнорировали вполне и славянства в своих исследованиях и изданиях. Теперь началось систематическое замалчивание в прошлом всего славянского, так что уже мадьяры являются главным героем венгерской истории, хотя всем известно, что не они, а славяне были господствующим народом Венгрии не только при Арпадовичах, но и в позднейшие века, при Корви-не, Заполье, Раковском, вплоть до Кошута и Деака, вследствие чего история Венгрии настолько же славянская, как и история Хорватии, Чехии, Польши и вообще западного славянства. В дальнейшем своём развитии мадьярский шовинизм дошёл до того, что задался целью вытравить все это славянство не только в настоящем, но и в прошлом Венгрии. Наглядным доказательством того служит упомянутая милленарная выставка, на которой в историческом отделе собрано много остатков старины мадьярской, отчасти и латинской, немецкой, румынской, но почти ничего славянского. Единственное исключение сделано для хорватов и сербов-босня-ков, которые, впрочем, не входят уже в Венгрию и имеют особую историю и особые стремления, тяготея в смысле и национальном и политическом вовсе не к Будапешту, а к Загребу и отчасти Белграду. Мы не должны, впрочем, удивляться указанному смешению в нынешней мадьярствующей Венгрии задач научных с политическими. Более или менее это заметно и в других австрийских землях, например в Галичине, Чехо-Моравии, Словении, Далмации. Да и вся Габсбургская империя опирается скорее на историческом, чем на естественном праве, более на традициях, чем на народных желаниях и интересах. Потому-то и в истории возрождения австрийских славян чуть ли не главными деятелями пришлось быть археологам и историкам, каковы, напр., Добровский, Добнер, Шафарик, Палацкий, Томек, Эрбен, Воцель и др. Даже Коллар в своей знаменитой поэме «Дочь Славы», которая признается чуть не евангелием всеславян-ства, признал нужным опираться главным образом на археологические данные. Отсюда понятно, почему мадьярские шовинисты, воздвигнув гонение на славян современных, должны были принять меры, чтобы уничтожить их в венгерском прошлом - закопать их, так сказать, в землю и прикрыть эти могилы монументами мадьяриз-ма. В этих именно видах и сооружают они теперь такие монументы в семи пунктах, якобы прославленных в истории Арпада, фальсифицированной по анонимному нотарию короля Белы. В числе этих семи пунктов находится, между прочим, урочище Собор под Ни-трой, в самом названии которого ясно выражается связь с церковной историей славянской, а не мадьярской. Таким образом, мадьярская археология при нынешнем её направлении является не сотрудником, а скорее врагом археологии угро-славянской, которая вследствие того должна действовать совершенно самостоятельно, если желает разрешить хоть часть основных своих задач по отношению к этой стране и её населению. Такая самостоятельность тем необходимее, что в нынешней Венгрии более или менее успешно развивается лишь политическая литература, в частности же, публицистика. Историография же сильно поотстала, как видно из существующего в ней культа легендарной хроники упомянутого анонима Белы. Полумифический рассказ последнего о событии, столь отдалённом от него, как прибытие в Венгрию Арпа-довой или вообще мадьярской орды, считается в этой историографии как бы догматом веры, который по случаю милленарнаго юбилея скреплён санкцией обеих палат и включен в свод законов. По отношению к нынешней мадьярской филологии тоже подтверждается незаконченным еще спором последователей Буденца, с одной стороны, а Вамбери - с другой о чудском или тюркском происхождении нынешних мадьяр. Много ли можно ожидать славяноведению от такой истории, археологии, филологии, этнологии? Самостоятельные разыскания в области угро-славянской археологии представляются тем более настоятельными, что количество её источников с каждым годом не увеличивается, а убывает. Я не имел возможности проверить нарекания местных славянских учёных на тенденциозное сокрытие мадьярскими археологическими институтами следов и остатков угро-славянской стороны; но упрёк этот представляется не невероятным ввиду общеизвестного факта насильственного закрытия мадьярским правительством Словенской матицы в Турчанском св. Мартине с её библиотекой, архивом, музеем, которые если и не погибли еще, то стали совершенно недоступны для изучения. Столь же насильственным представляется упомянутый уже выше тенденциозный подбор предметов, выставленных в историческом отделении будапештской выставки 1896 г. Никто не поверит, что в государственных и частных древохранилищах Венгрии, а отчасти Австрии, Турции и других соседних стран ничего не осталось от многовековой жизни и деятельности угорских славян. Очевидно, остатки эти упрятаны на задних планах музеев и архивов, если вообще они не исключены, так сказать, из описей по негодности. Если к этому прибавить, что в нынешней Венгрии систематически вытесняется славянский язык из употребления не только официального, но, по возможности, и частного; что административными мерами и официальной картографией постепенно вытравляются славянские названия городов, селений, рек, гор, урочищ и т. п., заменяясь испорченными или новосочинёнными названиями мадьярскими, вроде, например, Балатон вм. Блатно, Каса вм. Кошицы, Бартфи вм. Бардеев и т. п.; что даже в фамильных названиях всё славянское искусственно и насильственно заменяется мадьярским; что вследствие такого гнета со стороны государства постепенно замирает и в народном употреблении словаков, угрорусов, угросербов, угро-хорватов и т. п. славянская речь, песня, сказка, словом, все живые предания славянской старины, то нельзя не признать, что по истечении нескольких десятилетий не может не сократиться материал угро-славянской археологии, а в некоторых случаях и совершенно исчезнуть. А с тем вместе затруднится или даже исчезнет возможность решения многих основных вопросов славянской древности, так или иначе обусловленных изучением вещественных и бытовых её остатков в Венгрии. В несколько лучшем положении находятся в этом отношении земли угро-румынские, а именно те части Семиградии, Баната, Буковины, которые входят в племенной район археологии румынской. Последняя имеет сильные центры и в самой Венгрии, где еще сохранилась часть румынской аристократии и богатого духовенства, и еще более в Румынском Королевстве, ученые учреждения и общества которого принимают, наряду с богатыми частными лицами, живейшее участие во всем, что относится к истории и этнологии австро-угорских румынов. В гораздо меньшей степени могут в этом отношении опираться на заграничные научные центры угорские славяне, особенно словаки и угрорусы, ибо сербы и хорваты по нужде могут иногда пользоваться содействием учёных белградских и загребских. Словаки лишь в слабой мере могли опираться в этом отношении на соседних чехо-морован, а угрорусы еще менее - на галичан, которые сами довольно беспомощны в борьбе с враждебными стремлениями не только в жизни, но и в науке. Правда, от времени до времени в Венгрии появлялись и наши славяноведы, например, Надеждин, Срезневский, Ламанский, Грот, Кочубинский, Филевич и н. др., которым наука обязана некоторыми важными вкладами в угро-славянскую историю, этнологию, археологию; но подобные частные поездки, предпринимаемые обыкновенно в одиночку и со скудными средствами, не могут восполнить тех громадных пробелов в указанных областях славяноведения, для устранения которых необходимы коллективные усилия богатых материальными и нравственными средствами учреждений и обществ - вроде, например, тех, какие были в последние годы направлены в России на изучение археологии и этнологии Кавказа, Крыма, Средней Азии. Необходимые для этнологического и археологического исследования Венгрии силы и средства можно бы, полагаю, собрать, если бы во главе подобного научного предприятия стало русское Археологическое общество, которое могло бы в этом случае обратиться к содействию археологов червонорусских, чехо-словенских, сербохорватских, румынских и др., при посредстве соответственных заграничных учреждений и обществ. Можно бы, кажется, рассчитывать при этом и на содействие нашей Академии наук, Императорского Географического общества, летописца Нестора и др. Это было бы предприятием, достойным нынешнего положения русской науки вообще, а русской археологии в частности, ибо не может же последняя ограничить свои исследования древностями скифскими, чудскими, тюркскими и другими инородческими, оставляя на заднем плане древности славянские или славяно-русские, если они находятся за нынешними, случайными пределами Русского государства. Правда, экспедиция в нынешнюю Венгрию, хотя бы даже столь невинная, как археологическая, могла бы возбудить разные подозрения в мадьярском или мадьяронском обществе и, следов., вызвать некоторые затруднения для участников. Но затруднения эти не могли бы быть столь значительны, как те, с которыми приходилось бороться Пржевальскому, Станлею, Нансену и побеждать их под знаменем науки. В данном случае славянские археологи могли бы, полагаю, рассчитывать на содействие и русской дипломатии, которой было бы нетрудно исходатайствовать у местных властей разрешение для членов экспедиции производить раскопки, изучить музеи, библиотеки, архивы и т. п. Но если коллективное предприятие этого рода оказалось бы невозможным по тем или другим причинам, то, быть может, найдется в России частный любитель археологии, который на собственные средства снарядит подобную экспедицию, как это сделал недавно мадьярский граф Зичи, изучавший в России родину мадьяр и составивший значительную коллекцию, фигурировавшую на Будапештской выставке 1896 года. Подобная даже частная русская археологическая экспедиция, направленная в страну, которая, по нашей Начальной летописи, была именно колыбелью славянства, могла бы не только дать важные научные результаты, но и поддержать дух угрославян, укрепить их народную память, хранящую столько остатков «живой старины», следов., спасти от гибели хоть часть последней. На основании изложенного я просил бы съезд выразить пожелание, чтобы наши археологические учреждения и общества включили Венгрию в круг своих исследований, от времени до времени снаряжали бы туда научные экспедиции и оказывали содействие частным лицам при изучении и издании хранящихся в ней остатков славянской древности.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 171
Ключевые слова
А.С. Будилович, Венгрия, славяне, русины, мадьяризм, A.S. BudiLovich, Hungary, SLavs, Rusins, Magyarism/Авторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Будилович Антон Семенович | Санкт-Петербургская академия наук | русский филолог, славист, публицист, редактор, общественно-политический деятель, популяризатор славянофильских идей, профессор историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине |
Ссылки

О задачах славяно-русской археологии по отношению к областям и народностям нынешней Венгрии | Библиотека журнала «Русин». 2017. № 1 (6) . DOI: 10.17223/23451734/6/6
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 973
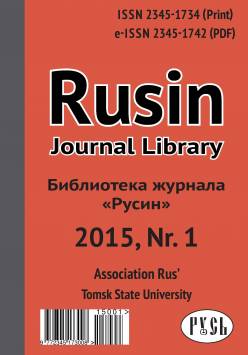
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью