В материале приводятся показания профессора Венского университета доктора В. Вондрака, извлеченные из стенографического протокола заседания военного дивизионного суда ландвера в Вене, где рассматривалось дело депутата австрийского парламента, доктора Д.А. Маркова и его 6 товарищей. Первый Венский процесс проходил с 21 июня по 21 августа 1915 г. «Вина» подсудимых заключалась в том, что после объявления всеобщей мобилизации они состояли членами «Русского народного совета» и других русских обществ и в качестве основателей «Карпаторусского освободительного комитета» занимались «подстрекательством» и вели «русофильскую агитацию». Обвиняемыми в государственной измене выступали 7 чел. В ходе процесса было исписано 40 с лишним томов стенографических отчетов, и все подсудимые были приговорены к смертной казни через повешение. Только благодаря ходатайству испанского короля (Испания в ходе войны представляла интересы России в Германии и Австро-Венгрии) казнь заменили на пожизненное заключение В. Вондрак как эксперт высказал свое мнение по вопросу о происхождении и роли русского литературного языка и его отношении к отдельным русским наречиям. Предлагаемые научные показания были представлены на 15-м заседании суда 7 июля 1915 г. и были извлечены из стенографического отчета (т. VI, стр. 1420-1468). Они были подготовлены и выпущены с параллельным переводом на русский язык в 1924 г. во Львове известным деятелем русского движения Галиции Ю.А. Яворским отдельной брошюрой.
Vopros ob edinstve russkogo yazyka pered avstriiskim voennym sudom v Vene v 1915 godu. Nauchnye pokazaniya prof. d-ra V..pdf Предисловие Общерусская национальная идея и ее естественный внешний символ и выразитель - литературный русский язык - подвергались издавна и планомерно среди русского населения Прикарпатья всевозможным преследованиям и гонениям со стороны бывших австро-венгерских властей, причем происходило это, конечно, не вследствие каких-нибудь внутренних предосудительных или вредных их свойств или тенденций вообще, а просто и исключительно только благодаря тому, что тут же, рядом, в качестве властно и неизбывно притягивающего национального центра существовала могучая, единокровная этому населению Россия, по отношению к которой разрушенная ныне Габсбургская тюрьма народов всегда испытывала поэтому непримиримую, ревнивую вражду и слепой и неистовый страх. Помимо постоянных и систематических частных преследований русской речи, печати, культуры и даже самой мысли по себе, достаточно припомнить в этом отношении хотя бы только такие более выдающиеся и яркие случаи общих судебно-политиче-ских репрессий, как, например, известные процессы Ольги Грабарь и тов. 1882 г., братьев Геровских 1899 г. или, наконец, уже непосредственно накануне войны, С.Ю. Бендасюка и тов. 1914 г., на которых в качестве главного подсудимого привлекался именно общерусский национальный принцип и литературный русский язык, чтобы составить себе об этом уродливом и нелепом извращении австро-венгерской государственной мысли надлежащее понятие вообще50. Но если все-таки в нормальных и более или менее сдержанных условиях мирного, конституционного режима это изуверское извращение и оставалось еще с грехом пополам в пределах известного правового метода и порядка, то с момента разразившейся вдруг в 1914 г. всемирной войны, сразу же направившейся со стороны обезумевшей Австро-Венгрии почти исключительно против России, проявилось оно уже в такой дикой и безудержно-яростной форме, что трудно даже поверить, чтобы в наше правовое и культурное время был еще вообще возможен по отношению к своим собственным, мирным и ни в чем неповинным гражданам такой беззастенчивый и гнусный государственный произвол и разбой. Тут уже, помимо всеобщего и полного истребления всей общественной и культурной русской застройки и жизни в крае вообще, всякого внешнего русского признака и следа даже с лица родной земли, начались такие неистовые и дикие оргии, такой сплошной чудовищный кошмар слепой и поголовной травли и хулы, как это могло иметь место разве в самые мрачные и лютые моменты каких-нибудь изуверских судорог отдаленнейших старых времен. И многие-многие тысячи безвинных мирных людей, все преступление которых заключалось единственно в том, что они признавали себя русскими и оставались верными своей заветной национальной правде и мечте, были вдруг объявлены, как государственные изменники и враги, вне всякого закона и щита, а вслед за тем и подвергнуты сразу самым лютым и бесчеловечным надругательствам, гонениям и мукам - до массовых арестов и мытарств по всевозможным лагерям и тюрьмам и, наконец, бесчисленных и беспощадных избиений и казней, виселиц и расстрелов включительно51. В ряду самых возмутительных и злостных случаев чудовищной австро-венгерской расправы с мирным и невинным карпаторус-ским населением особенно выделяется известное венское военно-судное дело по обвинению в государственной измене семи га-лицко-русских общественных деятелей с депутатами парламента д-ром Д.А. Марковым и В.М. Курыловичем во главе. Представляя, в сущности, - хотя, впрочем, и в более крупном и ярком масштабе -только обычную точную копию с бесчисленного количества других подобных дел тех жутких дней, оно в то же время является особенно замечательным и характерным в данном отношении потому, что происходило оно ведь не в суетных и произвольных мутях какого-нибудь глухого, захолустного застенка, не в какой-нибудь случайной и угарной обстановке дикого и буйного разгула рассвирепевших жандармов или просто пьяной солдатни, а именно, словно в резком и явственном фокусе, на самом виду, в самом центре государственной политики и жизни, в полном блеске столичной мишуры и культуры, во всеоружии державного правопорядка и суда. Производилось это гнусное дело - или так называемый Первый венский русский процесс - перед военным дивизионным судом ландверы (Landwehrdivisionsgericht) в Вене, в продолжение полных двух месяцев, с 21 июня по 21 августа 1915 г., при председателе (Vorsitzender) оберсте Карле Петцольде, докладчике-руководителе (Verhandlungsleiter) оберлейтенанте-аудиторе д-ре Роберте Пей-тельшмитде и военном прокуроре (Militar-Anwalt) оберлейтенан-те-аудиторе д-ре Рудольфе Вундерере, обычное же по тем лютым и безумным временам обвинение в государственной измене было направлено против следующих арестованных в первые же дни военной мобилизации семи лиц: депутатов парламента д-ра Д.А. Маркова и В.М. Курыловича, присяжных поверенных д-ров К.С. Черлюн-чакевича из Перемышля и И.Н. Драгомирецкого из Золочева, корреспондента «Нового времени» Д.И. Янчевецкого и крестьян Фомы Дьякова из Вербежа и Гавриила Мулькевича из Каменки Струмило-вой. Если уже само внешнее и случайное объединение всех этих лиц различных групп, кругов и местожительств под одним и тем же обвинением достаточно ясно свидетельствует о том, что последнее было наведено искусственно, вырывочно и зря и, стало быть, никаких конкретных и фактических оснований не имело, а относилось главным образом только к общей и свойственной всем подсудимым национальной русской идее и сущности вообще, то на поверку из целого хода этого позорного судилища, несмотря на все ухищрения и подвохи самого обвинения, становится уже совершенно очевидным, что тут ни малейшего признака или замысла даже не то что настоящей государственной измены, а хотя бы только какого-нибудь мелкого и косвенного политического проступка и в помине не было и быть не могло. Таким образом, именно в бессильном сознании полного отсутствия какого бы то ни было состава преступления и весь ход самого разбирательства дела вращался, собственно говоря, впустую, вокруг одних только общих идеологических вопросов относительно русской национальной идеи и литературного русского языка вообще, а естественной приверженности к ним или т. наз. «русофильства» подсудимых в частности, причем вместо каких-нибудь документов, вещественных доказательств и других подобных улик на нем фигурировали одни только безобидные русские газеты и книги, с одной стороны, а частные письма или даже открытки с видами России - с другой. А впрочем, ничего больше и не нужно тут было для слепого и тенденциозного австрийского правосудия войны, так как все дело сводилось в конце концов к тому, - как это сразу же и прямо установлено было на самом суде, - что в пределах Австро-Венгрии не было, нет и быть не может никакого русского народа, а есть только один верноподданный «украинский» народ, ввиду чего, конечно, всякий, кто лишь признает себя русским и считает литературный русский язык своим родным, уже тем самым совершает государственное преступление и является для государства заведомым предателем и врагом. И, как это ни невероятно и дико, этот злостный и коварный принцип, заменив собой все отсутствующие факты и улики, являлся именно тем главным и основным мотивом, на котором уже заранее было построено и которым настойчиво орудовало все время обвинение как в лице военного прокурора и членов суда, так и со стороны неизбежных свидетелей - доносчиков из бессовестного Каинова отродья - «украинских» общественных кругов. «Кто употребляет русский язык, не может быть хорошим австрийцем», - эта нелепая и изуверская дилемма, цинически откровенно и прямо формулированная одним из пресловутых «украинских» свидетелей-экспертов, адвокатом д-ром Ф. Ваньом из Золоче-ва, несменно проникала все дело с начала до конца, в особенности же подчеркивалась на все лады применительно к отдельным подсудимым в свидетельских показаниях почти всех других достойных соратников последнего, как-то депутатов д-ра К. Левицкого, д-ра Е. Петрушевича (впоследствии «захидноукраинского диктатора»), В. Будзыновского, о. С. Онышкевича, В. Яворского и С. Витыка, профессоров д-ра К. Студинского и д-ра А. Колессы, адвоката д-ра Ф. Кор-моша, сов. В. Ясеницкого, редактора «Дта» Я. Весоловского и других. А в результате всего этого явного и заведомого политического произвола, шантажа или бреда - «семь повешенных» в виду, семь смертных приговоров, которые только экстренно и случайно, благодаря своевременному и энергичному личному ходатайству испанского (!) короля, не были тут же проведены, как в других подобных случаях, до страшного, рокового конца52... Не задаваясь здесь широкой целью сколько-нибудь использовать или отобразить весь этот чудовищный военно-политический процесс сам по себе, что уже ввиду громадного его размера - около 40 объемистых томов машинного письма самого стенографического отчета - является пока, конечно, совершенно непосильной и праздной мечтой, мы считаем все же своевременным и нужным, по крайней мере, полностью извлечь из него для всеобщего сведения один частный, но, бесспорно, самый существенный и важный эпизод, вокруг которого к тому же, как уже было указано выше, беспомощно вращался и весь этот процесс вообще, а именно - обстоятельную научную экспертизу авторитетнейшего представителя славяноведения в Австрии профессора Венского (ныне Брненского в Чехии) университета д-ра Вацлава Вондрака по вопросу о сущности и роли русского литературного языка вообще, о его отношении к отдельным русским наречиям в частности. И хотя глубокая и блестящая экспертиза эта, являющаяся в общем последним и неоспоримым словом научного познания и суда, и прозвучала вчуже, в безумной и жестокой обстановке военной грозы совершенно напрасно и зря и, увы, не образумила нимало ничем не убедимых судей-палачей, то, может быть, все-таки ныне, в более уравновешенных и чутких условиях вновь воспрянувших культурных ценностей и основ, она и возымеет в данном отношении решающий и действенный успех. Тем более что она, идя совершенно вразрез со всей общей и заведомой тенденцией не только австро-венгерских властей вообще, но и самого даже суда - не в пример угодливым и безответственным наветам и подлогам добровольного «украинского» сыска - представляет вместе с тем также и благороднейший образец высокого научного и гражданского мужества и нелицеприятия, которые дорого могли обойтись самоотверженному ученому в те грозные, беспощадные дни, но зато не оставляют уже ни малейшего сомнения в том, что каждое слово этого смелого присяжного показания было продумано и произнесено им в высшей степени искренне и правдиво, не за страх, а за совесть, за научный и нравственный долг. Предлагаемые здесь научные показания профессора Вондрака, представленные им на 15-м заседании означенного суда 7 июля 1915 г., извлечены нами полностью и буквально из стенографического отчета о последнем (т. VI, стр. 1420-1463), причем в видах большей достоверности и точности текста, с одной стороны, а самой широкой доступности его как для русских, так и для инородных читателей - с другой, воспроизводим последний параллельно - в немецком оригинале и в возможно точном переводе на русский язык. С признательностью следует отметить, наконец, что этот подлинный немецкий текст был специально для настоящего издания любезно просмотрен и выправлен самим же автором, который, кроме того, снабдил его также еще особой вступительной заметкой, придающей ему, без сомнения, сугубо устойчивый и живой интерес. В общем, эти знаменательные показания выдающегося славянского ученого, обстоятельно и всесторонне излагая простыми и ясными словами всю сложную сущность вопроса, не нуждаются, конечно, ни в каких особых пояснениях и дополнениях по существу. Можно бы, пожалуй, там и сям несколько более выдвинуть или распространить тот или другой отдельный момент, следовало бы, быть может, в некоторых случаях усилить показательность примеров и углубить их значение и фон, но это все уже лишь частные детали и черты, которые ничего не прибавили бы по сути к стройной и неотразимой убедительности и силе научных выводов и положений автора самих по себе. В крайнем случае, тут оставалось бы только так или иначе пополнить естественный внешней пробел данного изустного текста, допущенный, конечно, в связи с особыми условиями его происхождения и назначения для суда, а именно совершенное отсутствие в нем научной литературы и цитат, ввиду чего мы и позволяем себе, кстати, хоть в общих чертах указать в примечаниях на важнейшие научные труды как по некоторым частным, затрагиваемым попутно его моментам, так и по самому этому главному и основодержащему вопросу вообще. Ю. Яворский Введение В настоящем политическом споре перед лицом сурового военного суда наглядно отражается все то, что можно наблюдать и в других случаях в жизни народов. Приверженцы какого-нибудь языка или наречия, не употребляющегося еще в качестве литературного языка, считают уместным - происходит же эта мысль обыкновенно из среды их интеллигенции - возвысить свое родное наречие до степени литературного языка. Могут быть представлены для этого те или другие основания, могут даже на самом деле существовать для этого весьма важные причины, которых нельзя уж так легко отвергать. И все-таки это такой шаг, над которым стремящиеся к нему интеллигенты должны бы раньше призадуматься с величайшей осмотрительностью и всесторонне. Обладать готовым литературным языком, который не совсем чужд родному наречию, так что ему легко можно выучиться в школах, который имеет свою традицию и свою литературу, является огромным удобством и неоценимым сокровищем, так как все то, что написано на этом языке, представляет вместе с тем также достояние всех, кто пользуется им в качестве литературного языка. И можно ли так легко принять на свою ответственность отказ от подобного сокровища? И сознают ли все те, кто стремится к введению нового литературного языка, все трудности, с которыми соединено его создание? Сколько усилий потратится зря, например, на одно только образование новой научной терминологии, так как ведь и она тоже должна быть совершенно новой и, сохрани Бог, чтобы хоть сколько-нибудь напоминала прежний литературный язык, по отношению к которому создается вдруг, большей частью - искусственно, какая-то антипатия и вражда. И если даже в конце концов и образуется кое-как этот новый литературный язык, то народ остается тут все же в убытке. Самонадеянно кичась своим новым приобретением, он не принимает во внимание того, что им утеряно при этом, не соображает, что он безрассудно завалил себе камнями путь, который прежде привольно вел его к неоценимым старым сокровищам. Огромная ценность такого общего языка, стоящего над частными, даже довольно крупными наречиями, видим наглядно у немецкого народа. Сколько здесь противоречий между севером и югом, востоком и западом, в вероисповедании, характере, традиции и т. д., а все-таки все эти разнородные и расходящиеся врозь частицы крепко соединяет единый литературный язык, который все изучили в школах, - литературному же языку везде должно учиться в школах. Люди, владеющие одним лишь своим наречием, - если бы подобные невежды нашлись еще среди немцев вообще, - вовсе даже не понимали бы его. А если бы здесь все-таки возникла какая-нибудь распря, то таковая была бы только скоропреходящей - эту трещину тотчас опять склеил бы могучий литературный язык. Такая-то волшебная сила литературного языка с богатыми традициями и великой мировой литературой! Hic disce! Брно, 15 ноября 1923 г. Вацлав Вондрак Извлечение из стенографического протокола заседания военного дивизионного суда ландверы в Вене по делу д-ра Д. А. Маркова и тов. от 7 июля 1915 (т. VI, стр. 1420 - 1463) Перевод Докладчик-руководитель д-р Пейтельшмидт: Вопрос, о котором тут идет речь, заключается в существенных чертах в следующем: следует установить соотношение и представить краткий исторический обзор образования русского языка вообще, а его раздробления на различные наречия и нынешних отношений между велико- и малорусским, а в особенности галицко-русским языком в частности. Прошу высказаться об этом. Эксперт д-р Вондрак: Вопрос этот неоднократно рассматривался в последнее время в науке. Лучше всего можно представить его с помощью карты. Достаточно указать здесь на языковые области. То, что отмечено зеленой краской, представляет русскую языковую область вообще. Одна часть зачерчена перпендикулярными зелеными линиями, другая - горизонтальными, причем та часть, которая зачерчена перпендикулярными линиями, представляет малорусскую, ру-тенскую или южнорусскую языковую область. Вопрос в том, составляла ли первоначально вся эта область одно целое, употреблялся ли здесь один тождественный язык? Тут расходятся мнения. Большинство славистов утверждает, что здесь действительно существовал единый язык, и они приводят целый ряд признаков, которые это доказывают на самом деле1. В этом отношении следует в особенности привести так называемую группу tert и tort. Вот схема: г может быть заменено посредством l, а t посредством каждой согласной, за исключением j. Когда эта группа появилась в восточнославянском языке, произошло изменение, которое одинаково присуще целой этой области и имеет место только в этой области, а больше нигде. Например, Przemysl звучит по-русски Перемышль. Характеристической чертой является здесь то, что гласная остается перед плавной; она не изменяется. Вместе с тем, после плавной развертывается вторая, однозвучная с предыдущей гласная, так что получаются две гласные: Перемышль. То же наблюдается и в других словах, напр. голос, в малорусском hолос. В других славянских языках этого нет, там гласная переставляется. В западнославянских языках имеем тут glas (hlas, glos), в южнославянском так же само (glas). Гласная не осталась нигде больше в таком полнозвучном виде, только в одной этой единоцельной области. Это такой характерный признак, который показывает, безусловно, что все эти племена жили когда-то в тесной общности друг с другом и имели, очевидно, один общий язык. Кроме этого признака, существуют еще и другие, напр., также замена глухих ъ и ь. В праславянском языке существовали две глухие, который отличались своей краткостью. Обе были различны, и различие их в данных областях сохранилось еще в том, что одна передается посредством о, напр. горло, другая же посредством е, напр. сердце. В других славянских языках этого нет. Эти последние производят это иначе; они развернули слоговое г и l, затем также сопроводительные гласные, как перед, так и после плавных, но, подобно тому, как в русской области, это здесь места не имеет. Дальше, напр., характерно отношение к праславянскому tj и dj: tj переходит в ч, а dj в ж, напр. хочу и урожен. В частности, в малорусском языке перед это ж стало еще д, так что из уродjен получилось уроджен. Но это произошло уже позже под влиянием тех форм, в которых не последовало замены. В более древних источниках везде было только ж, как в малорусском, так и в великорусскому языке; оно присуще им в одинаковой мере. Затем следует отметить ударение. Ударение тут замечательно. Как в малорусском, так и в великорусском языке замечается передвижное ударение, то есть оно переносится в различных формах с одного слога на другой. В малорусском вода ударение падает на а, в винит. падеже воду - ударение перешло на о. В великорусском языке наблюдается то же самое; ударение осталось здесь такое же, как было в праславянском языке. Иногда здесь сохранилось праязыковое ударение: жена или жона, с ударением на а. Так было уже в праязыке, что ударение падало на последний слог, как и в этимологически одинаковом греческом слове yvvy, где ударение тоже падает на последний слог. Здесь ю дается то же самое. Вот прежде всего то, что касается звуковой стороны вопроса. Существуют еще и другие признаки, которые точно так же говорят в пользу единства, но они должны быть представлены письменно, чтобы их можно было в точности уразуметь. Совершенно так же и словесный материал данной области в значительной степени один и тот же, причем обнаруживаются весьма замечательные явления, доказывающие это близкое родство. Напр., слово «40» в других славянских языках выражается посредством выражения «4 десятка» - cetyre (i) desqte (i). Здесь этого нет; как в малорусском, так и в великорусском языке говорится сорок, очевидно, заимствование из греческого. Дальнейшее такое образование - «90». Там говорят «9 десятков», а в малорусском и великорусском - девяносто. Это весьма замечательное образование, отличающееся от всех других славянских языков. Но эта область, бывшая первоначально единой, уже рано раскололась диалектически на различные части. Книжный язык, который здесь употреблялся, был прежде всего церковнославянский. Христианство пришло с юга, а с ним и церковнославянщина - и на этом языке затем и писалось все на Руси. Но скоро стали проникать в эти памятники и местные черты. Имеем памятники из XI века, напр. Остромирово Евангелие 1056-1057 г., затем Изборник 1073 г. и памятники 90-х годов. В этих памятниках, язык которых был церковнославянский, находятся черты, обнаруживающие русское происхождение, а именно прежде всего та группа, о которой было упомянуто раньше; напр., вместо церковнославянского trat из tort мы встречаем здесь неоднократно tornt, а teret вместо tert. Имеются здесь и другие признаки: напр., е заменяется уже рано посредством и, что является характерным признаком малорусского или южнорусского элемента. Это проявляется прежде всего на данной почве. Но также и в одной части великорусской области встречается тот же самый звуковой процесс, который повторяется здесь. С течением времени это противоречие между отдельными наречиями развивалось все сильнее - и это относится в особенности к малорусскому наречию. Этому содействовали различные политические обстоятельства, как, напр., владычество Польши, которое продолжалось значительное время. Если посмотреть на карту, то можно заметить также и на малорусской языковой территории громадное количество желтых пятен. Это просто польские колонии или большие помещичьи владения; они так многочисленны, что напоминают усеянное звездами небо. Это не осталось, конечно, без влияния тоже и в отношении языка, и мы видим, что именно в малорусской области словесный состав не остался ненарушенным. В малорусском языке имеется множество слов, которые вовсе не встречаются в великорусском или попадаются в нем лишь редко, а должны быть отнесены только к влиянию польского языка. Конечно, обязательно можно заметить при этом, что они появляются гораздо позже, что вполне понятно. Как интересный пример могу привести слово пан - «господин», которое появляется в малорусских памятниках с XVI в.; но это же слово появляется также в некоторых великорусских памятниках, так как польское влияние проникает даже туда. То же слово встречаем также в литовском языке, как pons; оно заимствовано. Форма pan не первична; этимологически она находится в связи с праславянским zupan, что обозначало должностное лицо определенного рода. Это слово сохранилось еще в отдельных славянских языках, где получило значения разных оттенков. Из него возникло в западнославянской области pan, а именно в посредствующей форме hpan. Как образовалось оно, прямо ли от zupan или из предполагаемой второй формы gpan, это спорный вопрос, но этимологическое родство между zupan и hpan или gpan несомненно. В то время, когда в чешском языке можно отметить здесь переходную ступень, в малорусской области это не имеет более места. Тут имеется просто пан; это слово появляется здесь в более поздней форме, которая показывает, что оно проникло сюда под влиянием западнославянских языков, а в частности - польского. Польское влияние обнаруживается здесь также в целом ряде других слов; малорусский словесный состав перетравлен вообще весьма сильно польскими словами. В великорусском говорится иной, в малорусском часто - иншый; это ничто другое, как сравнительная степень. Возьмем, напр., слово нибы; оно проникло в малорусский язык тоже из польского, точно так же, как и ним и т. д. В малорусском языке встречаем целый ряд подобных слов. Под конец XVIII в. начинает малорусский элемент заметно проявляться также и в литературном отношении. Появляются памятники, литературные произведения, написанные на употребляемом здесь наречии, а именно прежде всего на Украине, в России. Основателем был Котляревский со своей «Энеидой», которая является первым того рода произведением на малорусском языке. Имеются, правда, также памятники более старого времени, которые показывают, что подобные попытки имели уже место и несколько раньше. Этот язык вводится затем все интенсивнее в употребление, появляется все больше памятников подобного рода, писателей, представивших вполне замечательные произведения, как, напр., Кветка Основья-ненко. Затем следуют отдельные известные поэты, как, напр., Шевченко. Однако в половине прошлого столетия центр развития этого языка был перенесен в Галичину, так как в России это не было вполне возможно, в Галичине же, т. е. в Австрии, мог этот язык развиваться и развертываться дальше. Но здесь замечается у малорусских писателей определенное направление: они делают усиленные попытки вытравлять отдельные слова, существовавшие до тех пор в малорусском языковом составе, и заменять их другими, а именно преимущественно польскими словами. В Галичине это, конечно, понятно, так как ведь связь между польским и малорусским элементом здесь тесная, в виду чего они и обратились прежде всего к польскому языковому материалу. Это имело определенную цель: малорусским писателям прежде всего шло о том, чтобы показать, что их язык самостоятелен, что он не имеет ничего общего с русским. Это они стремились выразить то же и в своих произведениях, а потому они прежде всего стали вытравлять все слова, которые встречаются и в русском языке, и заменять их польскими. Ту же тенденцию, которая распространяется все дальше, можно проследить и в «Вестнике державных законов». В этом «Вестнике» с 1848 г. употребляются еще церковнославянские буквы и слова, и это продолжается затем и дальше. У меня имеется здесь пример из «Вестника» 1888 г. относительно закона об обеспечении рабочих. Тут сказано в заглавии: в державной думе; затем у меня есть номер от 1907 г., в котором уже говорится: в раде державной, - следовательно, слово дума уже устранено, так как оно находится и в русском языке, а заменено словом рада, которое имеется в польском. Точно так же говорится еще в «Вестнике» 1888 г. издано,- а в 1907 г. уже видано, значит, опять-таки другое (польское) образование. В номере от 1888 г. - за согласием, в 1907 г. - уже за згодою,то есть просто принято польское zgoda. Того рода тенденция во всяком случае не может быть признана правильной, так как язык подвергается опасности, что он в качестве литературного языка просто не будет понят малорусами на Украине, потому что он не обладает ведь таким количеством слов, как местные слова, родственные или тождественные с великорусскими. Против подобного образа действий поднимались уже предостерегающие голоса; особенно следовало бы вспомнить Ягича, который предостерегал перед этим2. В статье «Osteuropaische Literaturen und die slavischen Sprachen» в журнале «Die Kultur der Gegenwart», изд. П. Гиннебергом, Берлин, 1908, стр. 18, - известной публикации - он выразился следующим образом: «В настоящее время переживает малорусский язык в Галичине настоящий период бури и натиска. Производимая почти с лихорадочной стремительностью выработка его, даже применительно к отдаленнейшим областям прикладных наук, прежде чем налицо оказались крупные таланты для отдельных специальностей, вызывает вопросы, удачное разрешение которых не всегда легко. Язык нагружается слишком поспешно бесчисленными новообразованиями, подвергаясь опасности потери своей естественности и народности. Он удаляется все больше от безукоризненных украинских образцов. Стремление к возможно сильному выражению языковой индивидуальности и самостоятельности малорусского языка по отношению к великорусскому увлекает некоторых писателей к всевозможным искусственно, по польским и немецким образцам придуманным новообразованиям, каковым дается преимущество перед древним общерусским наследием, чтобы только создать что-то новое, отличное от великорусского языка. Подобных крайностей, противоречащих правильно понятым интересам естественного развития малорусского языка, никоим образом нельзя одобрить». Это слова проф. Ягича, под которыми я мог бы подписаться, безусловно. Некоторые из малорусских ученых признают это единство. Я могу здесь указать, напр., на проф. Колессу. В своей речи в парламенте от 8 июня 1908 г. он признал принадлежность малорусского языка к великорусскому; в находящемся передо мной издании, стр. 371, он говорит: «Славянская ветвь распадается на три группы: во-первых, южнославянскую языковую группу (болгарский, сербохорватский и словинский языки), во-вторых, западнославянскую языковую группу (польский, чехословацкий и кашубский языки) и, в-третьих, русскую, или восточнославянскую языковую группу. Последняя обнимает: а) великорусско-белорусский язык и б) малорусский (украинский, рутенский) язык. Эта восточнославянская языковая группа образует одно целое не по отношению к каждому славянскому языку в отдельности, а только по отношению к южнославянской языковой группе, с одной стороны, а к западнославянской языковой группе - с другой, причем она тесно объединена некоторыми внутренними чертами». Итак, он признает, по крайней мере, что это принадлежит к одному целому, к русской языковой группе3. Другие малорусские филологи отрицают уже какую-нибудь связь с великорусским языком вообще. Так, напр., читал я в 1913 г. малорусскую грамматику проф. Смаль-Стоцкого, в которой делаются попытки доказать, что малорусский язык вообще не имеет ничего общего с великорусским, причем он пытается привести его в связь прежде всего с южнославянским, а даже желал бы его просто отнести к сербохорватскому - начинание, которое филологически никак не может быть оправдано. Я уже раньше отметил отдельные признаки, которые этому противоречат. Конечно, кое-что встречается такое, что напоминает южнославянские языки, - явление, которое наблюдается неоднократно в случае соприкасания языков. Так, напр., в данном случае в малорусском нет смягчения согласной перед е: в то время как в великорусском не произносится как нье, здесь звучит не, как и в южнославянском, но это образовалось только с течением времени. Имеются древние памятники XI века, написанные, вне всякого сомнения, в нынешней малорусской области, в которых мы замечаем, как, напр., в Изборнике 1073 г., что писец смешивал не и нье. После н он писал ь, что явственно показывает, что он смягчал согласную, которая в то время произносилась еще в малорусском языке как нье, и что это смягчение с течением времени затерялось. Данное сочинение Смаля-Стоцкого встретило с многих сторон осуждение за то, что в нем заключаются взгляды, которые обоснованы быть не могут4. Что касается отношения того малорусского языка, на котором говорят в Галичине, к украинскому языку, употребляемому в России, то, конечно, родство их самое близкое. Даже те самые слова, которые проникли сюда из польского, встречаются в изобилии также и здесь, на Украине, хотя в Галичине их все же больше; в последней имеется гораздо больше слов с польского, чем на Украине. Поэтому все-таки замечается некоторое разноречие. Следует отметить также, что малорусский язык на Украине часто распадается на дальнейшие говоры, которые, в свою очередь, выказывают также различия, в особенности, напр., в отношении i. В Галичине i произносится по большей части как е, между тем как в украинских говорах оно имеет другое произношение. Вот все, что в общих чертах можно было бы сказать об этих отношениях. Можно бы, конечно, привести гораздо больше признаков и материалов, но это завело бы нас слишком далеко. Докладчик: Каков же результат экспертизы? Д-р Вондрак: Результат следующий: малорусский язык тесно связан с великорусским; он составлял с ним, очевидно, одно языковое целое, отражения которого проявляются еще и ныне. С течением времени однако в малорусском языке, главным образом под польским влиянием, обнаружилось разбежное развитие. Но не под одним только польским влиянием - отдельные черты развились сами собой, как, напр., переход е в i, - так что, благодаря этим двум обстоятельствам, возникли все-таки довольно значительные различия между малорусским и великорусским языками. Тем не менее однако эти различия далеко не таковы, чтобы можно было утверждать, что оба языка не связаны друг с другом, так как и ныне еще видно, что это вполне родственные языки, которые принадлежат один к другому. Докладчик: Какой же язык считается в России литературным? Д-р Вондрак: Целая русская языковая область разделяется на три главные части: южную - малорусскую, затем северо-западную, или белорусскую и великорусскую, которая составляет самую значительную часть. Все они имеют свои определенные признаки. Великорусский язык распадается, в свою очередь, на две крупные группы: так наз. северновеликорусскую и южновеликорусскую части. Они отличаются, напр., тем, что в северновеликорусском языке о перед ударением сохраняет свое произношение как о, напр. вода, между тем как в южновеликорусском это о перед ударением произносится как а: вада. Это замечается особенно в Москве. Что же касается литературного языка, то в нем наблюдаются черты, которые в своей совокупности не являются ни северновеликорусскими, ни южновеликорусскими, так что он представляет компромисс между обеими этими группами. Итак, в нем осталось еще а, напр., вада,- это относится к южновеликорусским чертам; но отдельные черты принадлежат к северновеликорусской группе, как, напр., отвердение т в окончании третьего лица ед. числа: ведёт, которое произносится просто как т, - это характерная черта северновеликорусского наречия, между тем как в южновеликорусском это т смягчается: ведёть; в литературном же языке сохранилось твердое произношение. В таком же роде имеются здесь и другие черты из обеих групп. Таким образом, следует признать, что русский литературный язык является просто компромиссом из южновеликорусского наречия, которое более всего получило в нем выражение, - оно составляет московское наречие - и северно-великорусского, из которого тоже проникли в него некоторые черты. Докладчик: И этот литературный язык распространяется вообще на все, что говорит по-русски, также и на малорусскую область? Д-р Вондрак: Да. Докладчик: А существенно ли отличается этот литературный язык от того русского языка, который употреблялся в Австрии перед обновлением, о каковом говорит проф. Ягич? Д-р Вондрак: Есть диалектические различия; некоторые из них очень стары, как, напр., переход е в и, - это в малорусском языке очень старая черта, которая не встречается в великорусском, разве только в наречиях крайних северно-западных областей. Докладчик: А как обстоит дело, чтобы представить это понятно для непосвященных, с возможностью понимания между теми, кто употребляет литературный великорусский язык, и теми, кто говорит на употребляемом в Галичине малорусском языке? Д-р Вондрак: Они могут понимать друг друга. Отдельные слова - те же самые. Всего они не поймут, но сущность содержания поймут во всяком случае. Докладчик: А в какой степени сделался употребляемый в Галичине малорусский язык литературным вообще, или он не сделался таковым? Д-р Вондрак: Первые начала вышли из Украины в России, там появились первые произведения. Докладчик: Котляревский? Д-р Вондрак: Да. Произведения, которые были написаны по-малорусски. В России встретились препятствия, но в Австрии можно им было развиваться. Язык стал вырабатываться дальше, в таком духе, как мы отметили выше. Докладчик: Это мероприятия в России 1876 и 1881 гг.? Д-р Вондрак: Уже и раньше встречались затруднения. Отдельным малорусским писателям не разрешалось писать так, как они хотели, им приходилось в России часто бороться с большими затруднениями. Затем в России последовали строгие мероприятия 70-х годов. Позже только обратились в Петербургскую академию наук с предложением высказать свое мнение, причем последнее замечательным образом оказалось для малорусского языка довольно благоприят-ным5. В этом мнении была признана известная самостоятельность малорусского языка. Однако, к сожалению, оно не было подписано проф. Соболевским, который прежде всего должен бы быть принят во внимание, так к

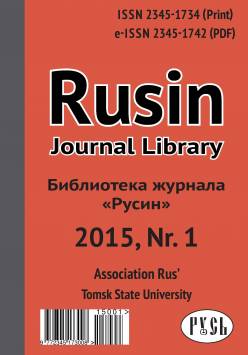
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью