Статья представляет собой дополненный доклад на VII Археологическом съезде в Ярославле. А. Кочубинский проводит параллели между финно-славянским Залесьем Верхней Волги, где русские славяне ассимилировали финно-угорские племена, и Дунайским Залесьем (Средний Дунай, Трансильвания, Семиградия), где русский элемент выступил «в пассивной роли поглощенных нами финнов Волжского Залесья». Автор приводит многочисленные топонимы, гидронимы, орографы, свидетельствующие о давности проживания русского населения (русинов) в Трансильвании. Своим докладом исследователь хотел обратить внимание русских ученых на «забытое» Придунайское Залесье. Изучение истории русского (русинского) населения Трансильвании поможет объяснить историю происхождения этнонима «русский» и понятия «Русская земля»
O russkom plemeni v Dunaiskom Zales'e [Regarding the Russian Tribe in the Danubian "Lands Beyond the Woods"].pdf 1 В стране, где так осязательно слышится двуязычие топографических имен, немых свидетелей двух чередовавшихся племен (а с тем и культур) - автохтонного, финского и пришлого, славянского, естественно остановиться вниманием на области исторической этнографии. «Е Linguae vestigiis gentis origines vestigare» - заповедь эту, заповедь новую в науке, завещал потомству Лейбниц, и эти vestigia, добываемые из гидрографических имен здешнего края (конечный слог га: Вол-га, Тол-га, Моло-га и пр.), свидетельствуют, и вполне безобидно, что первое, хотя и слабое, но все же исторической жизни зерно положено было финнами; анализ же местных в тесном смысле имен (место - поселение, город) указывает, в свою очередь, на раннюю смену первичного населения более энергическим и более приспособленным арийским элементом в лице славян. Только такие имена, как Суздаль, редчайшими оазисами попадаются среди славянской массы и нарушают гармонию в топономии края18. Таким образом, не знавшая города финская жизнь сменилась городовой, славянской; мы, рано вторгшись в северную территорию аборигенов Европы - финнов, дали ей иной характер, внесли в нее жизнь высшего типа. Этот простой вывод из обзора топографических имен Верхнего Приволжья остается непоколебимым, как бы богаты ни были в будущем детальные исследования былой жизни края, как бы разнообразны ни были частные заключения. Из финно-славянского Залесья Верхней Волги перенесемся в иное, далекое Залесье Среднего Дуная, чтобы здесь попытаться е vestigiis linguae местной топономии извлечь былой этнический характер края, воскресить народность его первообитателей. Мы говорим об обширной, но полутемной доселе Трансильвании (Trans-silvania). Здесь мы встретимся с нашей же картинкой - сменой двух народностей, двух культур, но при той оригинальной особенности, что здесь жизнь высшего типа сменилась низшей: но здесь мы, русские, славяне, найдем себя в пассивной роли поглощенных нами финнов волжского Залесья. Не везде, не всегда история дает плюс - явление известное. 2 Валах, румын, как он сам себя называет, т.е. романец, романизованный славянин, как нам думается, - вот господствующее, и в крупных массах, население Дунайского Залесья, иначе Трансильвании. Последнее название обязано канцелярскому латинскому языку старой Венгрии: в грамотах ее то «ultra sylvas», то «trans sylvas»; отсюда перевели мадьяры свое «Erdely» - из erdo - лес и частицы el - далее, чрез (ср. erdontuli - по ту сторону леса находящийся, т.е. transylvanus); от мадьяр уже взяли румыны свое Ардеал19. Что же касается нашего Ceмиградия, то это рабский перевод немецкого Siebenburgen, а этот термин, в свою очередь, образовался, по народному недомыслию или осмыслению местных немцев, из велико-мадьярского имени главного города Трансильвании, Германштадта - Сибин, по речке того же имени (Szeben): сначала Ssiben-burg, затем Sieben-burgen. Сплошной валашский фон этнографической картины современной Трансильвании слегка варьируется оазисом немецких поселений на юге около Германштадта, на севере по реке Быстрице (Feistritz у немцев, Bestersze у мадьяр и в грамотах XII-XIII столетия) и пятном густых поселений мадьяр-секлеров (последнее имя в связи с мадьярским глагольным корнем szek, откуда szekeb - жить, обитать, szek-hely - обиталище, следовательно, поселенцы, колонисты) на востоке, по самой границе с Молдавией. Болгары, сербы, армяне, греки, цыгане составляют такую ничтожную крупицу, не только в отдельности, но и вместе, что в этнографический расчет входить не могут. Ничтожны эти элементы были и в прошлом столетии, как свидетельствует, напр., того времени знаменитый историк-этнограф Иосиф Benko в своей классической «Transsylvania» (о ней ниже). То же должно сказать и о собственно мадьярах - немногих помещиках, чиновниках. Немецкие поселенцы - это пришлецы с половины XII века, именно с нижнерейнских краев, отсюда в современных грамотах их титул «plantatio flamaniensis» - из Фландрии. Секлеры - с X-XI столетия, ибо только в конце IX сами мадьяры утвердились в Паннонии, на Среднем Дунае, в исторической епархии св. Мефодия, предстоятеля славянской церкви Мораво-Паннонской, и отсюда уже могли пройти за горы, за леса, в Erdo-el20. Ввиду указанного распределения этнографических элементов в современной Трансильвании естественно полагать, что валах, основной слой населения сегодня, был с тем же характером и лет, например, за тысячу назад. Но этого и не было. Если мы даже, вопреки популярной, но сбитой кое-как теории Рёсслера, допустим более вероятную, более правдоподобную гипотезу о присутствии на Северном Дунае валашской стихии в эпоху свв. Кирилла и Мефодия (мы не касаемся размеров, количеств ее), то тем не менее не только о бок с этой стихией, но элементом доминирующим тогда мы должны, безусловно, признать иной элемент, воскрешаемый е vestigiis топографических имен края. Этим элементом были славяне. Таким образом, валах доминирует в жизни страны, славянин - в ее топонимии. Орография (в порядке азбучном): Бык - вершина на с.-востоке. Быстричора, откуда вытекает река Быстрица. Волкан (на юге). Вуран - Верх (или, как обыкновенно произносят валахи, - Верф). Дед, у мадьяр Det-hegy, где hegy значит хребет, гора. Дел (у валахов deаlu ибо е = еа в их устах). Ср. в Карпатах, у русских - Дия, с е = и, гора, хребет21. Обрина (ср. в старослав. яз. обр - gigas, в чешском - ов, obrovsky -чудовище, чудовищных размеров). Прислоп (Priszlop). Русска, т. е. гора (Ruszka у мадьяр, Russberg у немцев) на юго-западе, откуда Черна, приток Мароша. Стол (у мадьяр Astalko, от astal из слав. стол). Темного происхождения Batra, Batrina (хотя, несомненно, -ина славянский суффикс и прямо Батрина - прилагательная форма от Батра; последнее не от ватра ли, со значением огонь?), Sarmas, Bumasza, Sakedat. Гидрография: Быстрица (Feistritz, Beszterche), главный приток Самоша. Где славянин, там и Быстрица. Вспомним и наше быстрина, синоним старослав. бръзина fluentum. Думбрава (Dumbrava), буквально = старослав. джкрлкл. В уменьшительной форме приток Дуная, на котором лежит Букарешт -Dumbovita. Вспомним массу местных имен в нынешней Румынии - гор, поселений, долин, в основной или ласкательных формах: Dumbrava - 8 раз, Dumbravita - 6 раз, побочные: Dumbravu - гора и долина, Dumbraveni - 5 раз, Dumbravesci - 2 раза1. Уже само присутствие этого славянского имени в топономии бассейна Нижнего Дуная говорит о его старине. Злата, небольшой горный поток, слева в Марош. Заключаем по этому славянскому названию притока в виду: 1) имени его у мадьяр, которые буквально перевели Aranyos (так он теперь слывет), от arany - золото; 2) имени некогда славянского города, горнопромышленного поселения: у мадьяр Zalatna, у румын Zlanka, у немцев Schlaten и Goldmarkt, в старом официальном языке - Auraria. Мадьяр, румын и немец, каждый сообразно с требованием своего языка, сделал перемену, но столь малую, что первоначальный славянский облик просвечивается ясно. Красна, приток Самоша наверху. Лопушник, приток Мароша, отыменное имя от лопух, а в связи с лапа, литовским lapas ein BLatt am Baum и пр. Ср. румынское laba из славянского лапа. Поток - в названиях поселений Sar-Patak, Koros-Patak и пр., естественно, по местным речкам - потокам: славянское имя поток в мадьярских устах patak. Топлица, в различных местах страны. Название в связи с особенными свойствами воды. Ср. Теплу, на которой лежит знаменитый Карлсбад, не замерзающую у последнего и зимой. Черна, горный приток Мароша и тот знаменитый приток Дуная, на котором стояла CoLonia Csernensis императора Траяна. В то время как небольшие реки (притоки, ручьи) крещены были от славянского языка, три главные реки, прорезывающие альпийский край Залесья от востока на запад - Aluta-Olta, Марош и Самош, названиями своими относятся к эпохе до Рождества Христова, как первые две или как Самош - темного происхождения, хотя крупный приток его наверху носит славянское имя - Быстрица. Сохранение же старых имен за главными реками и новая славянская топономия для вод побочных говорит о направлении или этапах постепенно усиливавшейся славянской колонизации - от низу к верху, от долины к горе и в горы. Таков общий закон заселения альпийских краев. 3 Но если в Залесье Верхней Волги автохтонный финский элемент ограничивается гидрографическими названиями, то в Залесье Дунайском заступающий его элемент славянский ограничения этого не знает. И названия населенных мест с различными культурно-историческими напоминаниями и указаниями здесь того же славянского характера, и само число их поразительно. Оговариваемся наперед, что эти названия или звучат чисто по-славянски и сегодня, или легко узнаются под современной их мадьярской и румынской формами, или предлагают простой перевод со славянского. Если археолог справедливо дорожит каждой безделушкой, вырываемой из тысячелетней могилы, то с тем возбужденнейшим чувством относится испытатель языка к топографическому материалу полумифического края. Он равнодушным быть не может, когда перед ним из-под мертвых имен встает целый живой народ, когда (да извинят вольность!) его лингвистический заступ выносит на свет из мрака веков целую цивилизацию. Но неравнодушие его усиливается сознанием, что из-под могил этих заговорят к нему родным языком. 1) Начнем с простых невзрачных поселений при двух названиях: официальном мадьярском и обыденном румынском, причем из массы их выбираем немногие, например сохранившие ринезм. Domb, рум. Dimba; Dombro, рум. Dumbrava - оба от ст.-слав. джкъ. Ср. выше. Golumba и Galamb-falva, от годжбь. Gombacz, от гжкл. Glimboka, от прилаг. глжкъкъ. Gerend, вал. Grind, от грждл. Lunka, от лжкд, восемь поселений. Deva, мадьярск. Dyeva, от дева. Pester (s = ш) от пештера. Strazsa (zs = ж), от стража. Ternavizca, от трьнъ (в выговоре терн). Cserna, от прил. чрьнъ и др. 2) Города Fejer-var Dobra, что у немцев бесцветный Karlsburg: мадьярский термин - буквальный перевод славянского Белград, почему по-ла-тыни Alba-Carolina. Vaszar-hely, но у валахов Гредиште и Градиште. Kapnik-banya, т. е. Копник, копальня, место добычи металла или минерала, как это и объясняется второй частью и также славянской - banya: ban'a в словацком языке Erzgrube, Bergwerk, в галицко-рус-ском - рудокопня тож. Kolos-var, у немцев Klausen-burg. Раньше, как показывают латинские грамоты XIII столетия, название этого города звучало Klus-var или просто Klus (читай Клюш) - из слав. ключ. Память этой именно связи мы усматриваем в латинском имени города - Claudio-polis, где первая часть - Claudio, по лживому народному осмыслению, вместо Clavi, при clavis - ключ,подставлено собственное личное имя на место нарицательного ключ22. Kraszna. Прибавим еще немецкие города: Bistritz на севере и Reussmarkt на юге, между Германштадтом и Белградом. Reussmarkt иначе пишется Reissmarkt, Russmarkt и в старину Forum Ruthenorum, т.е. Русский Торг, Торжок. Следовательно, у немца буквальный перевод. Мы выключаем чисто мадьярские города, напр. у секлеров, хотя и звучат они чисто по-славянски как Pentek, Csek-Szereda, просто Szereda у Градишта (на карте Кипперта и других немцев грубые ошибки: Schereda - по незнанию, что в мадьярской графике именно sz = s, славянскому с), ибо у мадьяр и сегодня названия дней недели или чисто славянские, живущие в их устах непосредственно от эпохи св. Мефодия, взятые из языка его, именно от среды по субботу: szereda, ctdtortok, pentek, szambath (сръдл, ч^тврАтъкъ, плтъкъ, сжсотл), или образованы по типу того же славянского языка как kedd - вторник из ket - два. Следовательно, те города могли начать свою жизнь уже и позже, с эпохи мадьяр. Возьмем ли карту расселения славян в IX веке, мы найдем массу Белградов. Ограничимся югом: Белград, что ныне Аккерман (турецкий буквальный перевод) у устья Днестра, Белград сербский, Белград венгерский (Stuhlweissenburg, Fejer-var) и даже Белград на территории теперь уже итальянской, на Адриатическом море. Вероятно, крупные укрепления и земляные, в противоположность старым деревянным укреплениям и старым небольшим городищам (вспомним деревянные укрепления даков на колонне Траяна), послужили поводом к этому столь популярному славянскому названию. Но старее Белградов и важнее для исторических соображений градища, городища; старее Залесского Белграда - Гредиште = Vaszarhely, в глубине страны, на Мароше. Самое название говорит ясно о значении этого места в ту эпоху, когда Градиште населяли не румыны, а те, в языке которых это имя имеет общее знаменание укрепленного пункта - славяне. Не лишено для историка особенного интереса то обстоятельство, что именно на месте этого Градишта (Vaszarlehy) стояла знаменитая Сермигетуза, укрепленная столица полумифических даков, причем второго Градишта не имеется. Переходим теперь к местным именам особенно культурного значения. Эти имена произведены от немногих славянских слов, но слов высоколюбопытных, а самих имен много. 4 Если в настоящее время Восточные Карпаты - центральный пункт добычи каменной соли в Европе, снабжающий этим дорогим минералом массу земель на север к Балтийскому морю, то это культурно-торговое значение их идет от глубокой старины. Каждый из нас знает лично или понаслышке знаменитые соляные копи Бохни и Велички, но не ими началась добыча соли в Карпатах. Они с XII и XIII столетий. Величка известна с половины XII столетия: часть соляных доходов ее шла на первые монастыри старой Польши; Бохня же основана только в 1253 году, когда князь Болеслав выдал привилегию на соляной промысел здесь некоему Николаю из силезского Лигница23. Много раньше их их современное торгово-промышленное значение имел альпийский край в тылу -наше Залесье. Возьмем карту собственно Венгрии. В углу, образуемом Средним Самошем, на меже с Трансильвани-ей, лежит комитат - венгерский Szolnok (Kozep); на том же Само-ше, но уже в Трансильвании, лежит другой комитат того же имени - BeLso Szolnok. Это имя за обоими смежными комитатами идет от старинных документальных свидетельств, напр. грамот. В местных грамотах это имя пишется многоразлично: Zonnuk (1197 г.), Zaunuk (1199 года), Zanogh (того же), Zonukien (1213 года), и только в грамоте 1238 года почти правильно: ZoLnuk24. Это мадьярское имя. SzoLnok (sz = нашему с) сами мадьяры ведут из славянского языка, именно szolnok - необходимая по свойству вокализма мадьярского языка переделка славянского сольник, первое значение которого - место добычи соли, соляная россыпь, fodina saLis. Валахи сохранили то же славянское слово в своем языке, но с вторичным суффиксом: рум. солнице значит соляная россыпь. Прибавим, что и само слово для соли мадьяры взяли от славян: соль по-мадьярски so, отсюда soakna SaLzwerk, SaLzgrube (об akna - ниже), sobanya с тем же значением (о banya - ниже). Долгое о в so - память опущенного l, как и в сербохорватском, где также со (=соо) из соль25. Усвоение и утверждение мадьярами навсегда соляного имени из славянского языка за целыми двумя комитатами говорит ясно, что разработку здесь соли застали мадьяры при появлении своем в Карпатах, и что промысел этот находился в цветущем состоянии, а хозяевами его были местные славяне. Начало же соляного промысла падает в седую старину - это ясно из предыдущего. Но еще любопытнее сольника второе соляное название в топо-номии края с тем же значением saLifodina и того же славянского происхождения. Карта Трансильвании унизана местным названием Akna - в устах мадьярских, Оkna - в устах румынских. 2 города и 6 поселений носят это название и, как показывают грамоты XII-XIII века, с очень старого времени26. О нарицательном значении самого термина мы можем догадываться уже из названий тех же мест у немцев: Akna у них то Salzburg,то Salzgruben,то Salzdorf. Поселившиеся с половины XII столетия немцы переводили существовавшие названия. Выражения грамот только что в сноске указанная переводятся «соляные копи, что называются Akna». Но обращаемся к самому мадьярскому языку. Akna - мина, подкоп, яма в земле; отсюда aknasz- сапер; alaaknaz - везти мины В сложении: so-akna - соляная копь. Откуда же это слово, столь укоренившееся в мадьярском языке? Заметим, что при заимствовании мадьярами славянских слов гласная о с ударением или без него меняется на а: поток - patak; сжкотл (в носовом о гласный) - szambat и пр. Ввиду этого и нарицательное akna, и собственное имя Akna есть славянское окно [окьно]. Что это действительно так, свидетельствует то же местное имя в устах румын: Okna. Но справка с румынским языком важна в другом отношении - в твердом установлении нарицательного значения термина Akna, О^а. Здесь есть слово okhw (окнъ), и значит, именно saLis fodina - соляная копь, россыпь. Но akna в языке мадьяр, о^а и окнш в языке румын имеют один общий источник - славянский, славянское окно, побочная форма от око с суффиксом н и с общим значением дыры, отверстия, ямы в чем-либо, потом с значением более узким - дыры в земле, где разрабатывается соль, соляной копи. Наконец, от славян то же слово вошло и в среднегреческий язык - окиа - foramen doLij27. Седая же старина самого слова окно указывается не только грамотами XII стол., но и глубоким водворением его в языке мадьяр и румын Для истории же семасиологии слова око вспомним и развитие значения того же слова в литовском: akis - око, глаз; но то же akis - и дырка, отверстие в сыре и пр. Ввиду всего вышесказанного можно безошибочно утверждать, что, где название Akna, ОЫа встречается в стране, там были действительным добычи соли; повторяемость же самого названия говорит о широком распространении в стране соляного промысла. Уже почти излишне упоминать, что этот драгоценный в быту минерал - каменная соль «saL terrestris» грамот28 - в «окнах» добывался славянскими руками, руками тех людей, из языка которых и получили те места свои названия Akna, О^а, которые познакомили с этой отраслью горного дела зашедших в X столетии мадьяр и формировавшихся в среде их румын. «Повсюду в целой Трансильвании и Валахии, где существовали или существуют и теперь соляные копи, мы, - говорит известный мадьярский этнограф, проф. Гунфалви, - встречаем славянские имена Szolnok, Slanik, Akna»29. Естественно, если ученики славянских «доисторических» солекопов повели добычу соли далее, открывали их в новых местах столь богатой солью Трансильвании. Выгодный же промысел при легком обложении налогом рано из добычи соли сделал государственную монополию. Так, новые соляные россыпи у Торды жалуются от короля Стефана на корм главного капитула Трансильвании «ecclesiae beati Michaelis Transylvaniae»: «Volumus igitur quod ipsa salifodina de Torda, - говорит в подтвердительной грамоте своего отца Стефана король Владислав в 1276 году, - capitulo per kariss. patrem nostrum donata et ex nom per nos confirmata adeo sit libera et exempta ab omnibus officialibus nostris et woywodis..., quod nullo tempore ipsa salifodina et laborantes in eo possint uel debeant per eos impediri et quod Sales in ea incisi, tam in уе1^е, quam in estate sint liberi omnino et quod per aquas et per terras descendant libere ас secure»30. Церкви разрабатывали, рубили («incisi») соль свободно своими людьми «populis» под надзором своих officiates31: «volumus et concedimus, - говорил король Андрей в грамоте 1233 года, - quod ecclesie libere portent sales suos ad acclesias ipsas, et ibi sub sigillo salinariorum et prelati ellius ecclejiae, in qua sales deponuntur, qui pro tempore fuerint deponantur, depositique seruentur usque ad octanas S. Stephani vegis et tunc ab illo du usque ad natinitatem В. V. Marie (след. до начала осени) solnatur eis argentum pro salibus... secundum estimationem inferius adnotatam...»32. Таким образом, торговая манипуляция с солью была приблизительно такая же, как нынче с табаком в Австрии. Цена на соль была невысока: «pro salibus yero terrestribus dabimus inam marcam pro centum zuanis». В городах были соляные склады, именно сольники. В самих же местах добычи соли король Андрей приказывал не продавать дороже, «quam antiquitus vendi consuenerint ecclesiis, que consuenerunt emere sales». Таким образом, соляной промысел, начатый antiquitus - из эпохи домадьярской, развивался все более и более. Но о богатстве соляных копей в краю, о богатстве добычи свидетельствует низкая цена на соль еще в прошлом столетии. «Только за кусок в 80 фунтов, -говорит известный австрийский статистик того времени, - работник получал половину гроша; если же кусок менее весом, то не получал ничего»33. Прибавим, что и в глазах этого статистика разработка неисчерпаемых соляных залежей в Трансильвании должна идти более тысячи лет34, и что мы известное свидетельство Фульдской летописи 892 года о просьбе немецкого короля Арнульфа, обращенной к князю болгар, не снабжать мораван солью (буде об этом действительно пересылка была), можем понимать только в одном смысле - что речь шла о каменной соли из копей, из Окон Трансильвании, но не так, как объясняют это известие историки. Этнографу нередко приходится идти в дисгармонии с историком, противоречить «историческим» свидетельствам и выводам из них35. О старине добычи и вывозе карпатской соли и торговли ею мог бы сказать кое-что прелюбопытное и литовский язык своим оригинальным словом для соли - dшshаs; но об этом когда-нибудь будет речь отдельно. Параллельно добыче каменной соли «salis terrestris» шла в Трансильвании и добыча, разработка второго горного богатства - металлов, и параллельно соляному термину в топонимии Залесья -Окно - идет металлический термин - Баня. Действительно, такой альпийский край, как Трансильвания, славен не одной солью. Целый кряж гор, тянущийся от Дуная на северо-восток и составляющий границу Венгрии и княжества Семиградско-го, носит имя Рудных гор: у немцев - Siebenburgisches Erzgebirge, у мадьяр - Erc-hedyseg (здесь eгс из нем. Erz - металл, руда, hedy - гора, кряж). Здесь, по восточному или трансильванскому склону этих Рудных гор, расположены теперь и располагались (как надеемся доказать) от праседой старины рудники, процветает и процветало горное рудное дело, бойко шла добыча разных металлов - от железа и до золота. Известно, что императорские римляне ссылали в нашу Трансиль-ванию ad metaLLa, т. е. каторжников: но мы не позволяем себе думать, чтобы эти «художники» были первыми учителями туземцев в металлургии, Фовелами их, ибо уже сам Геродот отметил агафюрсов как утопавших в болоте. Чаще чем соляные города и поселения, чаще чем Окна, мы на карте Трансильвании встречаем сельбища рудокопные, встречаем названия: у мадьяр - Ваnуа (читать - баня), у румын - Baja (т. е. с пропуском мягкого и), а именно: 9 населенных мест с именем Ваnуа, 3 в уменьшительной форме - Banyjka, Banyiczka (суффикс urka -славянский) и 2 с тем же именем в сложении - Banyabuk, мадьярское население Baja-de-fjer, т. е. железный рудник, валашское. Эти горнозаводские пункты расположены, как замечено выше, густой цепью по склону рудного кряжа вдоль его быстрых, горных потоков. Но что за имя рудокопен Ваnуа, Baja, откуда оно? Нарицательное значение имени Ваnуа, как и повод к появлению его в топонимии края, уже просвечивается в названиях, под которыми слывут некоторые из тех пунктов у местных немцев. Так, Banya-Buk у них Buch-grub, где первая часть Buch - грубое, механическое осмысление второй части мадьярского названия Buk, и это из слав. бык, как называется известная гора. Так, Baja-de-fjer у них же - Eisen-hammer, где вторая часть - Hammer, собств. молот, - подобное же осмысление из старого немецкого же имени - Kammer, рудник. Но вполне ясно значение имени Banya в мадьярском языке: Banya или в сложении - e^banya, это немецкое Erz-grube; отсюда banyasz. Bergmann, рудокоп. Первая же часть в er^banya, ere, немецкое слово Erz. Уже ввиду этого последнего обстоятельства - что для понятия вообще о руде, металле в мадьярском языке нет своего слова, а взято из немецкого (хотя мадьяры и вышли из-под рудоносного Урала), позволительно предположить, что и термин banya, рудник - не мадьярского происхождения. Действительно, слово banya - происхождения славянского. В словацком языке bana именно рудник, рудокопня, banske mesto Bergstadt; в чешском bane тоже Erzgrube, Bergwerk, затем Thurmknopf, KuppeL (макушка башни, купол). Замечательно, что все эти чешские значения слова баня имеет и язык русских, что в Карпатах Галичины: баня - минеральная или металлическая копь, затем купол. Общепринято, что столь распространенное в славянских языках слово баня есть, в свою очередь, позаимствование из кельтского языка, из седой эпохи доисторических сношений славян и кельтов. Что же касается до семасиологической связи между русским словом баня - место мытья и тем же словом в языке словаков, чехов, русских в Карпатах, bana - рудокопня, то она дается в представлении о месте для промывки нечистой руды, снабжавшемся каким-либо нехитрым деревянным приспособлением. Но могут возразить: согласны в относительно славянском происхождения мадьярского слова banуа - рудник; но мадьяры могли позаимствовать как первые сведения в горном деле, так и слово banуа от словаков в Венгрии и затем уже лично открыть горное дело в Трансильвании, где оно было заброшено и забыто в вихре так назыв. переселения народов, в период (мифический) гепидов, после римлян. Следовательно, частая встреча слова Banуа в топонимии Трансильвании еще ничего не говорит о принадлежности этого местного названия эпохе до мадьяр, а потому и известности рудного дела того времени. Ведь аналогичное толкование мы сами допустили раньше для местных названий Szereda, Pentek... Но в защиту туземности и имени Banуа, и горного дела, им свидетельствуемого, мы обращаем внимание на следующие обстоятельства: 1) Если в Трансильвании был развит соляной горный промысел - а именно такую картину культурной жизни застали в стране мадьяры при своем появления сюда в X-XI столетии, то было бы непонятно, каким путем могло быть совсем неизвестно в крае, столь богатом металлами, рудное дело. Кто раз пошел в утробу земли и сек там соль, тот не мог пройти мимо металла, руды. 2) Совершенно чуждые металлической культуры, чуждые не только добычи и элементарной техники производства, но и простейших орудий и принадлежностей домашнего обихода из металла мадьяры научились ценить употребление металла и его производство уже по водворении своем среди славян, но славян с юсами в языке, а не словаков. Имея свои термины для обоих благородных металлов: arany - золото, ezust - серебро, а для железа - vas (если не немецкое заимствование), мадьяры пользуются чужим словом для олова, т. е. для археологических металлов по преимуществу из своего обычного источника - славянского языка: олово - olom (и с удержанием ударения). Правда, мадьярские ученые готовы отбросить это отождествление36: но оно слишком ясно. Темновато происхождение мадьярского термина для меди (и в славянском языке соответствующий термин представляет загадку), именно rez: может быть, он в связи с славянским ржа, режда - aerugo? Для обозначения металла вообще взято немецкое erz - ere и славянское руда - rud. Но обратимся к металлургическим терминам в мадьярском языке и к словам для самых обыденных предметов из металла, чтобы видеть, кто был Фовелом мадьяр. а) Слова, относящиеся к обработке металла: држгъ, в польск. drag - рычаг: dorong - палица, шест. клада: kaloda Block. клеп: kelepeld, kelepld - клепач, клепало; kalapacs - молот (с специальной усиленной вокализацией). ковать: гаvacsol, с массой производных от славянского корня коу ков. копать: kopal, карas Graber, кара - мотыга, кирка; отсюда и местное название Карnic-Вanуа, т. е. копальня, рудокопня. лопата: lapat. молот: kalapacska (небольшой); но большой молот - kovacs-kalapacs; здесь два славянские корня: ков и клеп (см. выше). мотыга: кара, от слав. корня коп (см. выше). чекан: csakany Keilhane, Hammerbeil; csakany kalapacs Spitzhammer, словацкое oskrd. «Csakany, - говорит г. Баласа, - kann sowohl aus dem turk. сaкan, als aus dem sl. cekan kammen (op. c., p. 279). Но здесь одно совпадение. щипцы: сsipдvas, собственно клещи. б) Слова для орудий в домашнем обиходе. бритва: borotva, borotvatok. Основная форма в славянском, вероятно, брить. грлдьль: gerendely Wellbaum, Walze; в словацком - hriadel. ключ: kulcs, kulcsbl - запирать ключом. подкова: patko, patkol - подковывать. Ср. и румын. podcova, potkovescu. коса: kasza, kaszal - косить. котел: katlan. круг, кружка: korso. Но г. Баласа ведет из турецкого kolcag. лемеш (чресло): csoroszlya pflugeisen; в болгарском чирисло, в словацком cereslo. Источник заимствования неясный: возможен и словацкий. скоба: eszkaba, то же, что csakanykapocs. секира: bard, acs-bard из слав. брады; ср. в чешском bradatice. цеп: cseplo; csepel - молотить цепом. в) Слова, относящиеся к вооружению. корда: kard. Впрочем, для г. Баласы отношение обратное: пер-сид. kard - сабля вошло в турецкий язык и «von hier haben wir es genommen, das slav., когда ist aus dem Magyarischen entlehat» (op. c., p. 280). лжштл: landzsa laucea. Ср. и в румынском - ланче. нож: noszirom Schwertel; но просто нож - kёs. окржУъ: abroucs. палаш: pallos. палица: palca. праща: parittya. Старорус., хорут. mapra = щит: tarcsa. шип (стрела): csipke-bokor. шишак: sisak. шлем: szelemen. Таким образом, знакомством с главным обиходным металлом, с обработкой металла и с массой предметов обиходных из металла или в которых участвует металл, мадьяре обязаны славянской культуре. Владея языком, выросшим при условиях кочевой грубой жизни (отсюда свои слова для примитивного оружья: ij - лук, in -тетива, nyil - стрела), мадьяры даже ковать коней своих научились уже в Европе, по водворении среди славян, от этих последних. Тому же искусству научились и пастухи-валахи от славян. Все указывает на славянскую образовательную школу, и, заметим в скобах, сами мадьяры в лице лучших своих научных представителей, к чести своей, не тяготятся признанием этого важного факта в своей истории, не идут по пути наших братий по вере румын, которые даже такие архиславянские слова, как дУнгъ, грех, в своем языке дивным образом силятся провести из латинского языка... Если г. Баласа указывает, что мадьяр. rud - металл идет из средненем. ruote, а славянское руда (у него rudo!) имеет своим источником мадьярский язык (ор. с., р. 281), то это дело патриотического вкуса автора. Сами же юные воспитанники славян в рудном и вообще металлическом деле не могли учить страну, в которой разработка металлов связывается еще со школой римских каторжников и полумифических агафюр-сов, металлическое богатство которой было баснословно, особенно что касается золота и серебра, и именно по восточному склону Рудного кряжа. Вековые традиции прерываются только в книгах. Один из глубоких, еще старых знатоков Трансильвании, туземный деятель первой половины XVI века Георгий Рейхерсдорф, ученый секретарь импер. Фердинанда II, описывая свою родину, приходил в какое-то умиление пред ее великими сокровищами нутра земли. Послушаем же его. «Ab aLba JuLia (т. е. Tejer-voz, Белград) ad Occidentem, - говорит автор, - sunt montes et aLpes axceLsissimae..., in quibus situantur civitates montaneae auro et argento praestantes, inter quas veL precipua est Abrug-banya37... venfs metaLLicis CeLebris, ubi magna auri vis assidue colligilur...» И далее Рейхерсдорф повторяет то же о том же кряже: «Sunt montes auri et argenti ditissimi, utpote Abrug-bania, ZaLathnia, Keres-bania, et quibus magna vis auri et argenti sumitur»38. Но и самые горные реки были золотоносные: «Hinc auri venique ferax Bistritia surgit», - разражается гекзаметром ученый трансильванец. Но все эти соображения против всякой мысли о занесении горного дела в металлоносную Трансильванию уже мадьярами и в пользу глубокой старины этого высококультурного промысла - из эпохи домадьярской, а именно славянской, находят особенно решающую поддержку в 3) судьбах трансильванского города Zalatna, как он называется мадьярами, Златна или Злакна, как в устах румын. Судьбы эти глубоко интересны при воскрешении былой жизни некогдашнего Залесья: была культура - и культура славянская. К западу от Fejer - Белграда (CarLsburg), на притоке Мароша Ом-полье, лежат два городка одного имени - Zalatna, один близ другого. По-видимому, не славянское название. Но мы видим, что его славянизм выдает сейчас же нынешний житель и городов тех, и их окрестностей румын своим Злакна или Златна. Первое же а в мадьярской форме - необходимая, согласно духу языка, вокальная вставка. Что имя Златна - прилагательное от сущ. злато, ясно само собой. Но это свидетельствуется и латинским названием мест -Auraria, т. е. просто перевод, и названием их у немцев: Schlatten или Schlattendorf для большой Златны (Nagy) и Goldenmarkt, Золотое местечко - для малой (^s). Золотое местечко, Златна, было и осталось истинно золотым долом, откуда всегда извлекалась «magna vis auri», хотя до самого последнего времени совсем примитивно. Вот как описывает этот золотой промысел венгерский географ XVIII столетия известный Матвей Бел. «В Златне, которую валахи считают митрополией своего племени, в базарные дни, - говорит автор, - стекаются массы народа, и тогда правительственный чиновник, назначив известную плату, покупает у валахов и мадьяр золотой песок, собираемый ими в реках; и промывка золота - их главное средство к жизни»39. Но та же золотопромышленная жизнь и, конечно, с теми же приемами имела место и раньше, два века назад до Белы, как это мы видим из рассказа Рейхерсдорфа, и при той же обстановке золотого города кругом, широко и далеко, жил главным образом всемогущий, всепоглощающий румын с немногочисленными немцами в самих городах. Говоря о горах, которые «auri et argenti ditissimi» - у Abrud-banya, Zalatna, Рейхерсдорф о последнем городе категорически замечает, что «nunc Valachi incolunt». Об этих обитателях золотого угла этнограф XVI столетия, как и естественно ожидать, самого дурного мнения. «Кереш-баню, Абруд-баню, Златну, - говорит Рейхерсдорф, - занимают немцы, перемешанные с валахами; только места эти очень небезопасны от постоянных грабительств со стороны валахов. Но, несмотря на это, именно здесь "magna vis auri et argento summitur", именно здесь "Camerae Regine (т. е. казне) pro cudendis tam aureis, quam argenteis monetis applicatur"»40. Не иная картина жизни, но иная этнографическая картина была в этих полудиких, уже валашских в XVI столетии горных ущельях тогда, когда жили здесь те, которые от своего языка дали имя золотому углу страны - славяне. Они должны были здесь жить, но когда? Для них, для славянского периода в истории золотого угла мы не имеем (или мы лично не знаем) не только таких точных исторических показаний, как показания Рейхерсдорфа о диких валахах, но и вообще каких-либо. Но в этот безвестный период бросают некоторый луч света соображения общего характера41. Небольшое валашское в XVI столетии местечко Златна (Auraria major) «некогда (oLim) было, - говорит Рейхерсдорф, - громаднейшим городом (maximam urbem), как это явствует из старых вещественных памятников». Тогда, продолжает он, Златна особенно славилась своими aurifodinis - золотыми россыпями42. Прежде чем идти дальше за рассуждениями Рейхерсдорфа, отметим некогдашний этнографический характер страны вокруг Златны, насколько он может быть воскрешен при помощи местных имен. Здесь, в этих местах, должны были жить, и сплошными массами, те, о которых в первой половины XVI столетия уже не было и помину, - славяне: о славянах, о славянском «oLim» гласят местные имена окрестностей золотого местечка. Так, по направлению к северу от Большой Златны (или Abrud-banya): Бучешты, Быстра, Gerend, Мункешты и др.; по направлению к западу: Brad, Lunka, Rebitza, RescoLiza, Ternava, Trestia (трость); по направлению к югу: Grad, Pojana (поляна), Szirb (среб), Csertes (ср. Чертиж в Венгрии) и др. Все эти названия не выбраны нами, а взяты прямо с карты, подряд, но в азбучном только порядке. Но куда же приурочить это славянское «oLim» Златны и ее края, эпоху невидимых для истории славянских золотарей, богатырей земли? Для Рейхерсдорфа его «oLim» Златны, эпоха ее цветущей золотопромышленной жизни вкладывается в рамки весьма определенного времени. Это эпоха римской оккупации Дакии, нашего Залесья: отсюда у него идет и само начало нашей славянской Златны. Златна, объясняет он, - город, основанный во времена императора Траяна, некогда знаменитый своими золотыми россыпями. Здесь и сегодня еще имеется нисколько надписей, вырезанных на мраморе, и одну из них, достойную памяти, мы и прилагаем тут»43. Конечно, не на основании каких-либо летописей ничтожного уже в XVI столетии городка, глухого памятника былой славы, Рейхер-сдорф своей Златне приписывает такую седую древность, как эпоха пребывания римлян в Трансильвании (до конца III в. по Р.), а в виду монументальных показаний и общих соображений. Мы, без сомнения, далеки, чтобы разделить убеждение трансильванского ученого половины XVI столетия о начальной эпохе загадочной Златны, не будем сводить на очную ставку славян золотого угла Трансильва-нии с императорскими легионерами Рима и римских памятников, вскрываемых из-под фундамента Златны, не будем относить к славянскому народу, историей не знаемому, золотого местечка и его окрестностей. Для нас имеет исторический интерес современное убеждение в самой Трансильвании XVI века, связывающее эпоху возникновения Златны с Римской империей; важно то обстоятельство, что когда-то славянская, но уже в XVI веке валашская Златна всегда «aurifodinis insignis» стояла на месте римского города, что какого-либо посредника, какое-либо третье лицо между Златной и временем римской оккупации Дакии современная память не знала. Если же время римской оккупации и не видело, не знало еще славян в стране, не звучало еще тогда Златна, хотя и славилась ее золотая почва, где была «maxima urbs», то едва ли мы ошибемся, положив, что славянский период в судьбах Златны не отстоял далеко от римского; вторжение же мадьяр должно было захватить еще славянскую эпоху края, о чем будет яснее ниже, когда мы убедимся, что валах XVI столетия только сидел на славянских костях. Таким образом, Златна решительно говорит о древности славянской стихии в стране, как и о высокой культуре ее славянских старо-обитателей. Но еще недавно историки требовали от нас верить, что Трансильвания в X веке это «нейтральная территория», куда только печенеги да мадьяры наезжали для свободной охоты на медведя (Hunfalvy), как это делал в наши дни пок. кронпринц Рудольф. 6 Обзор и оценка топографических имен Дунайского Залесья привели нас к твердому убеждению о существовании в нем не признаваемого историей славянского элемента в такое раннее время, как эпоха прибытия мадьяр и ранее, и элемента не некультурного. Таким образом, топономия Трансильвании, значение которой уже понимал великий дееписец славянства Павел Шафарик, дозволяет восполнить любопытным текстом лишнюю белую страничк
_6_2018_1534517518.jpg)
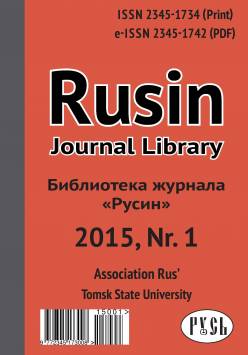
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью