Ниже публикуется глава «Национальности» из переведенной на русский язык книги «Венгрия и ее жители» английского историка и путешественника АД. Петерсона, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1873 г. В книге приводятся интересные сведения об этносах, населявших Венгрию, в т. ч. и русинам. Автор подчеркнул, что русины в Венгрии принадлежали первоначально к православной церкви, затем, примкнув к т. н. «Святой унии», провозглашенной на Флорентийском соборе, они стали «греко-католиками». Официально они назывались «католиками греческого обряда». Число русинов в Венгрии определялось различно, но во всяком случае их было менее полумиллиона. Во всей же Австрийской империи число их доходило до 2 500 000. Венгерские крестьяне называли их русскими, Orosz, а жителей Российской империи - Muszka, москвитянами. По своему положению русины занимали последнее место среди шести крупнейших национальностей Венгрии. Русины, жившие в селениях, расположенных в долинах, подверглись мадьяризации. А. Петерсон отметил также, что в Венгрии проживало довольно большое количество людей (более 100 тыс.), которые считали себя венграми, однако принадлежали к греческой церкви. Как он полагал, речь шла о мадьяризированных русинах
Natsional’nosti [Nationalities].pdf Глава XVIII Национальности Замечательная смесь национальностей. - Неудобства, отсюда вытекающие. - Близость столицы. - Правила св. Стефана. -Этнологические районы. - Перемена национальностей. - Правила и исключения. - Ценз 1851 г. - Анекдоты. - Немецкие венгерцы. -Трансильванские саксонцы. - Материковое положение. - Турецкие войны. - Латинский язык. - Консервативные воздыхания. - Мария Терезия и Иосиф II. Одна из наиболее выдающихся особенностей Венгрии, невольно бросающаяся в глаза западноевропейскому путешественнику, - это совместное существование многих различных национальностей. Не то чтобы другие государства и страны состояли из вполне однородного населения. Наш британский остров заключает в своих берегах не менее четырех резко обособленных национальностей, не говоря уже о коренных жителях Ирландии и мелких островов, составляющих британский архипелаг. Но редко или никогда не встретишь у нас того явления, которое составляет почти общее правило в Венгрии: там почти каждый комитат состоит из двух или более различных национальностей, и эти национальности не замыкаются каждая в пределах своей собственной территории, а, напротив, до того тесно смешиваются и перепутаны между собой, что нет никакой возможности составить этнологическую карту страны, которая была бы хоть сколько-нибудь близка к истине. Так, напр., из 54 комитатов и внеко-митатских округов, на которые разделяется собственно Венгрия, без Трансильвании, Славонии, Кроации и Военной границы, только 5, а именно Ченградский комитат и свободные округи Яцигии, Большой и Малой Кумании и Гайдукских городов, состоят исключительно из мадьяр. С другой стороны, только в 7 комитатах вовсе нет мадьярской национальности. В 17 комитатах она образует большинство населения; в 2, Ваше (нем. Эйзенбург) и Шопроне (нем. Эденбург), расположенных на австрийско-штирийской границе, она составляет половину населения, во всех же остальных комитатах к мадьярской национальности принадлежит только меньшинство; точно так же нет ни одного комитата или округа чисто немецкого, а в восемнадцати общинах немецкой национальности вовсе не встречается. В одном только комитате, Мошоне, немцы составляют большинство. В Шопроне они составляют половину населения, в Ваше - одну треть, в Пеште, Тольне, Барании, Торонтеле и Темеше - одну четвертую часть, а в Баче и Ципее - одну пятую. Сербы до того разбросаны, что в собственной Венгрии они образуют значительные фракции только в двух комитатах - Торонтеле и Баче: в первом они составляют одну треть населения, а во втором - одну пятую. Неудобства, вытекающие из такого смешения языков, я имел случай испытать на себе. Во время пребывания моего в южновенгерских городах один из моих приятелей пригласил меня на обед к своему знакомому. А приятель мой и я говорили только по-венгерски и по-немецки; наш хозяин говорил только по-венгерски и по-сербски. За столом с нами сидели еще два валаха с Военной границы. Из них один говорил только на своем родном языке, так что он все время только и делал, что ухмылялся и дружески кивал нам головой. Другой знал и по-сербски, и по-немецки, но ни одного слова не понимал по-венгерски. Можете себе представить, как оживлен был наш разговор и как приятно мы провели время за столом. Этнографическая путаница, господствующая в Венгрии, сказывается уже в ближайшем соседстве от столицы. Большая дорога на Эгер или Эрлау проходит по местности, которая может быть причислена к мадьярской полосе: большая часть городов и деревень, расположенных по этой дороге, населена мадьярами. Тем не менее в первой же деревне от столицы, Керепеш, вы встречаете одних только словаков, которые вообще населяют значительную часть деревень в столичном комитате. Точно так же правый берег Дуная от Буды вверх усеян на большом расстоянии швабскими колониями. В некоторых местах эти колонисты живут совершенно разрозненно от остального населения, в другом они смешиваются с мадьярами. Но при С. Андре и в окрестных с ним деревнях, лежащих на расстоянии нескольких часов от Буды, эта линия немецких селений прерывается вдруг отдельной сербской колонией. В Peleskei Notarius (нотариус из Пелескеи) - народной пьесе, описывающей жизнь венгерцев, особенно низших классов общества, волшебница на вопрос, что это за страна такая - Венгрия, отвечает: «Это страна, в которой живут всякого рода люди, даже венгерцы, и где говорят на всевозможных языках, даже на венгерском». Это определение более чем верно, и много несчастий принесло оно стране в последние годы. Однако же первый венгерский король св. Стефан, по-видимому, судил об этом иначе. В завещании, оставленном им своим преемникам, он высказывает принцип: «Unius liguae, unisque moris, regnum imbeccilum et fragile est» (при одном языке и одинаковых нравах государство бывает и слабо, и шатко) - правило, напоминающее собой пресловутое divide et impera. Несмотря, однако же, на это вавилонское столпотворение языков и народностей, я попытаюсь представить здесь краткий очерк географического положения главнейших рас, населяющих Венгрию. Для той цели, которую я преследую в моей книге, этот очерк будет вполне достаточен. По склонам Северо-Западных Карпат, от Пресбурга на Дунае до окрестностей Унгвара, обитают словаки, принадлежащие к западной отрасли великой славонской расы и родственные полякам и чехам. Северо-восточный угол страны населен русинами, или русняками, другим славянским племенем, принадлежащим к восточной отрасли этой расы и родственным с русскими. Валахи и дако-романы занимают всю Трансильванию и отсюда пустили отпрыски во все пограничные комитаты собственной Венгрии. Страна, лежащая к югу от Мароша и известная под именем Баната, населена вперемежку четырьмя различными народностями: венгерцами, немцами, сербами и валахами. Немцы рассеяны спорадически по всей стране, не составляя нигде сплошной массы. Всего гуще они сгруппированы в западных комитатах, граничащих со Штирией, в подкарпатском округе Ципше (где они образуют немецкий островок посреди сплошной словацкой массы) и в саксонской части Трансильвании. Таким образом, на долю собственно мадьяр остается только центр страны по обоим берегам Дуная и Тисы. Так как вопрос о «национальностях» составляет один из любопытнейших и в то же время один из важнейших вопросов современной венгерской истории, то я считаю нелишним сделать здесь несколько общих замечаний об этом предмете, вынесенных мною из моих личных наблюдений. Не раз приходилось мне слышать мнение, что слияние западных народов обусловилось их «расовыми» особенностями, и что по тем же расовым особенностям восточные народы навсегда должны остаться разъединенными. Эта теория по своей неопределенности имеет много привлекательного для известных умов; я же, признаюсь, нахожу в ней только пустой набор слов, под которым всегда прячется невежество. Прежде всего нужно заметить, что «Восток» и «Запад» суть чисто относительные термины. Нельзя без произвола расчленить европейские национальности на восточные и западные. К тому же (а в этом и вся суть дела) между Венгрией и остальной Европой вовсе не замечается такого резкого контраста относительно слияния рас, как это обыкновенно принимают. Сколько столетий такая незначительная горсть людей, как баски, бретонцы, валлийцы, удержали свою самостоятельность посреди западноевропейского населения! С другой стороны, в самой Венгрии мы встречаем многочисленные примеры утраты или, вернее, перемены национальности. Многие, если не большинство немецких поселений, совершенно утратили свой немецкий характер и поделались где мадьярами, где словаками, где валахами. Мне известны также случаи, где чистокровные мадьяры превратились в словаков, русинов и валахов. Наконец, есть и такие словацкие общины, которые теперь окончательно стали мадьярами. И надо заметить, что я говорю здесь не об индивидуальных случаях, а о таких, где целые приходы, деревни или общины меняли свою прежнюю национальность на другую. Эти перемены, насколько мне удалось проследить их, всегда совершались согласно известным законам, которые нетрудно вывести a priori из изучения истории национальностей в Великобритании и Франции. Когда маленькая колония поселяется посреди населения, чуждого ей, но однородного в самом себе, то она рано или поздно незаметно распускается в окружающей массе. Этот процесс обыкновенно совершается с быстротой, пропорциональной степени культурного родства, существующего между новопоселенцами и коренным населением. Процесс этот ускоряется, когда в стране господствует оживленная коммерческая деятельность, когда она снабжена хорошими дорогами, густо населена, и в особенности когда между пришлым и коренным элементами нет большой религиозной или политической розни. Но иноземные колонисты, переселявшиеся в Венгрию, - немцы, сербы, болгары - обыкновенно попадали посреди населения, неоднородного в своем составе. Средства сообщения до самого последнего времени были крайне неудовлетворительны, население - редкое, а цивилизация и образованность стояли на весьма низкой ступени. Что же удивительного, если процесс ассимиляции разнородных элементов шел так тихо? Но из этих общих правил существует, по крайней мере, одно важное исключение, которое необходимо принять в расчет. Может случиться, что некоторые специальные выгоды побуждают переселенцев крепко держаться за свои национальные особенности. Точно так же может случиться, что эти выгоды бывают такого рода, что, с одной стороны, они лишают переселенцев их собственной национальности, а с другой - мешают поглощению их окружающим населением. Подходящий пример этого мы видим в Англии. В средние века английские короли населяли фламандские колонии в Глемор-ганшире и Пемброкшире. Эти колонисты не удержали своей национальности, но и не слились также с валлийцами - они сделались англичанами. В Венгрии мы встречаем шесть различных случаев перемены национальности со стороны общин: 1) немцы делаются мадьярами; 2) немцы делаются словаками; 3) немцы делаются валахами; 4) мадьяры делаются словаками или русинами; 5) мадьяры делаются валахами; 6) словаки делаются мадьярами. Об этих переменах мне приходилось только слышать. Я сильно сомневаюсь, чтобы валахские общины когда-либо утрачивали свою национальность. Единственные, насколько мне известно, примеры онемечения не немецкой деревни представляют одно или два мадьярские поселения, расположенные в одном из немецких округов Трансильвании. Перемена эта, надо полагать, совершилась не без влияния лютеранских пасторов. На мой взгляд, эти факты вполне подтверждают выведенное выше общее положение. Всего меньше терпит от этих превращений валахский элемент, так как в территориальном отношении он образует наиболее сплоченную массу. Напротив, немецкий элемент, разбросанный спорадически повсюду, терпит больше всех. Мадьяры составляют очень компактное население в равнинах, и здесь они в самом деле поглощают собой разрозненные колонии словацкие и немецкие. В холмистой же части страны, где мадьяры рассеяны отдельными общинами, они, в свою очередь, поглощаются словаками и валахами. По-видимому, вопрос о том, которая из двух сталкивающихся национальностей поглотит собой другую, не всегда разрешается превосходством цивилизации, талантливости или индустрии, потому что в таком случае немцы и мадьяры никогда не поделались бы валахами. Трудно представить себе то глубокое презрение, которое немцы, а равно и мадьяры питают к валахам в Трансильвании. Они постоянно ругают их бездельниками, ханжами, трусами и холопами. Тем не менее очень многие немецкие деревни окончательно «обвалахились», а обвалахившихся мадьяр насчитывают около полумиллиона. Как мое общее правило, так и его главнейшее исключение лучше всего доказываются на примере «мадьяризации» немцев. До самого последнего времени вся мадьярская, или венгерская национальность считалась аристократической и дворянской, т. е. национальностью, к которой принадлежали как высшая знать, так и большинство свободных людей. После 1848 года, когда сейм уничтожил различия между дворянином и крестьянином, мадьярская национальность осталась аристократической национальностью. Название Венгрии на всех языках - Magyarorszag, Ungam, Hungaria и т. д. - выражало собою тот факт или представление, что страна эта принадлежит именно венгерской национальности, составляет некоторым образом ее собственность, что венгерцы господствуют в ней. Когда человек получал права гражданства, когда он пользовался всеми льготами, связанными с званием свободного человека, он делался «венгерским дворянином». Следствием этого было то, что все дворяне стали называть себя «венгерцами». По этому поводу я могу привести небезынтересный анекдот, который я тем охотнее повторяю здесь, что сам убедился в его верности. После революционной войны венское правительство приступило к переписи населения во всей империи. Помимо многих других прекрасных вещей, которых оно надеялось достигнуть этой переписью, правительство главным образом рассчитывало на то, что ему удастся доказать, как незначительно собственно число настоящих мадьяр, этого непокорного и жестоковыйного народа. Надо еще заметить, что никто так цепко не держится за свою национальность, как трансильванские валахи. Когда очередь дошла до деревни Иллема в Гатсегском округе, к чиновнику, производившему перепись, явился старый крестьянин и потребовал, чтобы его записали как венгерца. Ничто в нем - ни его одеяние, ни его образование - не показывало, чтобы он был дворянином, но он пользовался гражданской свободой и потому в венгерском смысле слова был «дворянин». На вопрос, какой он национальности, он ответил на валахском наречии, что «ungur». «Говорите вы по-венгерски?» «Нет!» «Как же так, вы называете себя венгерцем, а не знаете венгерского языка?» Этот вопрос сначала смутил старика, который, очевидно, теперь только в первый раз подумал об этом. Но он тотчас же оправился: «Так я же могу ему научиться». «Ну, а ваши жена и дети, они кто такие?» «Вот видите ли, - ответил он на это, - я ungur, но если вам уже очень хочется, то, пожалуй, можете записать мою жену как rumun». Этот анекдот напомнил мне другой в том же роде, за достоверность второго я также ручаюсь. Рассказывал мне его профессор одной протестантской коллегии в равнине. Нужно сказать, что эта коллегия была смешанная, т. е. не принадлежала ни лютеранам, ни кальвинистам, а содержалась на счет обеих религиозных общин. Директор был из лютеран и как лютеранин считался более суровыми и решительными кальвинистами, «жестоковыйными кальвинистами», как они себя называют, за человека, способного на всякого рода компромиссы и уступки. Как бы то ни было, директор получил в одно прекрасное утро от венского министерства строгий приказ составить список национальностей учеников, причем при определении национальностей руководствоваться исключительно показаниями самих учеников. Население города, в котором находилась коллегия, состояло почти целиком из потомков словацкой колонии, переселившейся туда в сравнительно недавнее время. Директор с лютеранской пунктуальностью исполнил приказание министерства, спрашивал каждого ученика по очереди, к какой он принадлежит национальности, и заносил ответы на бумагу. В результате оказалось громадное большинство мадьяр, несколько немцев, несколько валахов и всего три словака. Составленный таким образом список был представлен в министерство, откуда его возвратили назад с замечанием, что крайне невероятно, чтобы в таком чисто словацком городе только три ученика принадлежали к словацкой национальности; и потому училищному начальству предписывается строго-настрого переделать заново этот список с соблюдением величайшей точности, и т. д., и т. д. Получив такой строгий выговор, директор созвал на совет всех учителей, объявил им, что он не может взять на себя одного такой великой ответственности, и потому просит их присутствовать при составлении нового списка. Родители трех мальчиков, объявивших себя словаками, принадлежали, по-видимому, к той партии, которую венгерцы обыкновенно называют «панславистской»; они-то внушили своим детям, чтобы на вопрос, какой они национальности, те отвечали на словацком языке: «jo som slovinsky» - «я словак». Но этим несчастным мальчикам пришлось между тем перенести столько неприятностей и преследований от своих товарищей на гуляньях и на улице, что, когда составлялся второй список в полном сборе учителей, то только у одного хватило смелости повторить свои прежние показания, двое же других ответили по-венгерски, хотя со словацким акцентом: «En Madyar vagyok» («я венгерец»). Скрепив и запечатав этот список, учителя отправили его в Вену, уверяя его превосходительство, что, к величайшему их сожалению и удивлению, они не могли найти между своими учениками более одного словака. Большинство немцев, считающих себя венгерцами, не зная венгерского языка, обыкновенно распутывают этот национальный узел гораздо проще: «Венгерец, - говорят они, - всякий, кто родился в Венгрии; мы родились в Венгрии, стало быть, мы венгерцы». Согласно с этим, они носят венгерский костюм, высказывают венгерские политические чувства, словом, во всем, где можно, стараются походить на венгерцев. Если сами они не владеют венгерским языком, то стараются, по крайней мере, чтобы их дети знали его; таким образом, они мало-помалу утрачивают воспоминание о своем немецком происхождении и под конец сами начинают верить, что пришли в Венгрию вместе с Арпадом. В окрестностях Гиенгиеша, на полпути между Пештом и Эгером, существует целая немецкая деревня, совершенно мадьяризованная, а между тем немцы переселились туда всего только в царствование Марии Терезии. В Сегедине вам часто попадаются на улице молодцы, по своей наружности вполне отвечающие той идее, которую вы себе составили о типе мадьярского крестьянина. Но на ваш вопрос: «Как зовут этого бетиара?» вы, к удивлению своему, узнаете, что он зовется Миллер или Шмидт. В переписи, о которой я упомянул выше, один из таких господ отмечен был немцем; на это он возразил: «Az apam lelke se volt» («даже душа моего деда никогда не пахла немцем») - замечание, надо признаться, отличающееся скорее силой выражения, чем исторической верностью. Де Жирандо приводит подобные же рассказы о немцах в Прес-бурге, на самой границе Австрии, на расстоянии нескольких часов от Вены: два носильщика переносили какие-то тюки с барки на набережную: «Эй ты, немчура, осторожнее!» - крикнул один из них своему товарищу на венгерском языке, но с чисто немецким акцентом. «Сам немчура», - огрызнулся другой на том же языке с таким же акцентом. Но даже и те немецкие колонисты, которые не дошли еще в процессе мадьяризации до того, чтобы считать мадьярский язык своим языком, - даже такие немцы считают себя венгерцами. Венгрия - их «отечество». Восстановление ее конституционной свободы составляет конечную цель всех их политических стремлений. Если мои собственные наблюдения не обманывают меня, то эти немцы обыкновенно ненавидят венское правительство еще с большим ожесточением и злобой, чем те, в чьих жилах течет чисто гуннская кровь. Так, одна саксонская колония в Ципше до того прославилась своим патриотизмом - а в Венгрии патриотизм и оппозиция правительству - одно и то же, что знакомый мадьяр заметил мне раз: «Когда у нас начинается какое-нибудь либеральное движение, то вы можете наперед быть уверенным, что во главе его стоит кто-нибудь из ципшских колонистов». Надо заметить, что такие немцы называют себя «Deutsche Ungam» (немецкие венгерцы), а не «Ungarische Deutschen» (венгеркие немцы) - различие, заключающее в себе очень определенный смысл. Последнее выражение обозначало бы то, что они немцы, которых злая или счастливая судьба забросила в Венгрию. Называя же себя немецкими венгерцами, они этим выражают, что они такие же венгерцы, как и все другие, что они венгерские граждане, но немецкого происхождения. Гуляя по улицам и набережным Пешта в восхитительные майские вечера 1862 г., я часто встречал по пути немецких поденщиков, распевавших на немецком языке песни в честь венгерских девиц и венгерского вина, клянясь, что никакая страна, как бы ни была она велика, как бы ни была она богата, не побудит их покинуть дорогую Венгрию. Mag mein Ungarn nicht vertauschen u. s. w. (Ни на что не променяю я свою Венгрию и т. д). Все сказанное здесь о мадьяризации немцев в Венгрии показывает, что этот процесс совершается согласно установленному выше закону. Исключение из этого закона составляют те случаи, когда немецкое поселение или группа немецких колоний в течение многих столетий удержали свою национальность. Подобным исключением являются так называемые трансильванские саксонцы, с которыми мы еще познакомимся ближе впоследствии. Но надо заметить, что их национальность уже с самого начала была ограждена особенными привилегиями, дарованными этим Domini Hospites Hungariae: отдельной муниципальной самостоятельностью, отдельной территорией и, наконец, во времена реформации отдельной духовной организацией. Ни один не саксонец не мог занимать муниципальной должности в саксонских городах и селениях, и ему всячески старались затруднять приобретение поземельной собственности в пределах их территории. Как рассказывает д-р Эразм Швабе, немецкие бюргеры в Северной Венгрии пытались было принять такие же меры для ограждения своей национальности, но могущество немецкого элемента в этой части страны окончательно было подорвано преследованиями, которым они в качестве протестантов подверглись со стороны изуверного венского правительства во время так называемой контрреформации в семнадцатом столетии. Мне могут заметить: если на слияние национальностей в Венгрии действовали те же законы, что во Франции и Англии, то почему же результаты получились такие противоположные? Для объяснения этого явления я могу указать три причины: во-первых, различие в географическом положении; во-вторых, недавние переселения после турецких войн; и, в-третьих, политическое верховенство, которым латинский язык пользовался до самого последнего времени. Последняя причина, конечно, также не оставалась без влияния, но, как мне кажется, она гораздо меньше, нежели первые две, содействовала вавилонскому столпотворению, господствующему в современной Венгрии и Трансильвании. Географическое положение кельтийских национальностей во Франции и на Британских островах таково, что вопрос об их окончательном исчезновении есть только вопрос времени. Они занимают уединенные пункты, бесплодные острова и прибрежья, отрезанные от всякого сообщения между собой и, теснимые с фронта более могущественными и более цивилизованными народами, встречают с одной стороны бесплодные равнины океана, а с другой - батареи Нью-Йорка, на воротах которого можно бы написать: «Стряхните с себя всякую национальность, вы, которые вступаете сюда». Тогда как из шести национальностей, населяющих Венгрию, а именно мадьяр, или собственно венгерцев, немцев, валахов, или румынов, словаков, или северо-западных словенцев, русинов, или северо-восточных словенцев, и южных словенцев, только первая национальность не имеет своих представителей по другой стороне границы. Наиболее восточные немецкие колонисты, трансильванские саксонцы, находятся в постоянном общении с «великим отечеством», как они называют Германию. Трансильванские валахи имеют своими ближайшими соседями валахов Придунайских княжеств. Точно так же и словаки непосредственно соприкасаются с поляками в Галиции и чехами в Моравии, которых языки отличаются от словацкого только как одно наречие от другого. Русины, или, как их иначе называют, малорусы, живут по обеим сторонам Северо-Восточных Карпат и тянутся непрерывной полосой через Польшу в Россию. По обеим сторонам пограничной линии между Австрией и Оттоманской империей живут родственные племена: кроаты и сербы. Обыкновенно говорят, что границы между разнородными национальностями образуются не реками, а горными цепями; но на этнографические границы Венгрии не имели влияния ни те, ни другие. Другая причина, произведшая тесное и пестрое сплетение национальностей в Венгрии, состояла в занятии страны турками. Варварские опустошения, произведенные последними, главным образом обрушились на наиболее плодородную и доступную часть страны - большую равнину, которую мадьяры избрали центральным своим местожительством. По изгнании турок в страну были призваны колонисты из всех стран, отчасти правительством, отчасти крупными землевладельцами, для обработки опустошенных полей, возобновления городов и деревень, которые турецкие варвары не раз предавали огню и под конец совершенно обезлюдили. Одна часть этих колонистов пришла из гористых частей Венгрии, занимаемых словаками, другая состояла из беглых райев из турецких провинций; но гораздо большая часть переселилась из Германии - той многодетной Германии, которая теперь, как и в древности, есть мать народов, не носящих ее имени. Как я уже заметил выше, многие из этих колоний окончательно поглощены теперь коренным населением; но время их колонизации еще слишком недавнее, чтобы это поглощение могло распространиться на всех. Наконец, говоря о сохранении национальностей Венгрии, надо принять также во внимание особенное положение и истории латинского языка в этой стране. В течение средних веков во всех западных христианских государствах латинский язык был языком богословия, науки, поэзии, законодательства, дипломатии, даже народной сатиры и народного благочестия. Венгрия также не составляла исключения из этого правила. Когда к концу средних веков в других государствах народный язык стал приобретать то значение, которое он занимает теперь как язык литературы и высшей политики, несчастная Венгрия представляла весьма жалкую картину. Одна часть государства была подвластна магометанскому деспоту, другая должна была признавать над собой авторитет иноземца-немца, и только незначительный уголок находился под властью природного государя, трансильванского князя, который, однако же, несмотря на свою видимую самостоятельность и время от времени пробивавшуюся личную энергию, был не чем иным, как вассалом султана. После полуторавековой борьбы немецкий император сделался властелином над всей Венгрией. На каком же языке ведать ему страну? Венгерского языка он не знал, а немецкого языка не признавали его подданные, оставался один исход, чтобы обе стороны для своих взаимных сношений приняли свою средневековую латынь. На этом языке венгерский сейм вел свои прения, на этом языке составлялись и обнародовались законы, на этом языке велась переписка между венгерской канцелярией в Вене и правительственными ведомствами в Буде, а также между этими последними и муниципальными властями. На комитатских собраниях латинский язык не играл такой абсолютной роли. Там, где собрание состояло преимущественно из мадьяр, прения по большей части производились на венгерском языке. Особенно это имело место в тех случаях, где большинство населения были протестанты. Там же, напротив, где шляхта принадлежала к другим национальностям, на собраниях исключительно господствовал латинский язык. Так оно было в Венгрии и Кроации. Правда, трансильванский сейм во все времена вел свои прения на мадьярском языке; но Трансильвания была маленькая страна, она была бедна, находилась в большом отдалении и, во всяком случае, была не больше как спутницей Венгрии. В те времена злосчастное слово «национальность», сделавшееся впоследствии источником стольких бедствий, и при звуке которого самые благоразумные венгерские патриоты не могут воздержаться от невольного содрогания, не было еще известно. Люди спорили между собой о религии, о войне, налогах, иноземных чиновниках, иноземных наемниках и т. д., но никому из них не приходило в голову начать борьбу из-за языка. Да и могло ли быть иначе, когда все наречия, на которых говорили различные партии, мирно преклонялись перед признанным авторитетом нейтрального и беспристрастного латинского языка. Латинскому языку учился всякий, кто надеялся принимать участие в управлении страной или хотя бы в делах своего собственного муниципалитета. В некоторых частях Венгрии латинский язык употреблялся даже крестьянами в их сношениях со своими соседями, говорящими на другом языке, чем они. Даже и женщины - и тем волей-неволей приходилось учиться этому языку, на котором их отцы и мужья вели свои дела. Словом, хотя не всякий, кто знал по-латыни, мог считаться образованным человеком, но не было человека, претендовавшего на образованность, который не знал бы латинского языка. Следы этого положения дел были заметны еще до очень недавнего времени, да и теперь еще не совсем изгладились. Вы нередко и теперь можете встретить графиню, которая в разговоре с вами отпустит какую-нибудь латинскую пословицу, разумеется, венгерской фабрикации. Вы можете встретить старомодных консерваторов, которые самым добродушным образом будут уверять вас, что нынешняя молодежь ни к черту не годна, потому что не говорит по-латыни. Сельские дворяне очень любят испещрять свою мадьярскую речь экстраординарными словами, буквально без всяких изменений перенесенными из одного языка в другой. Еще теперь многие помнят, как в некоторых северо-западных комитатах помещики зараз говорили на 4 языках, нанизывая на одну и ту же фразу венгерские, словацкие, латинские и немецкие слова. Так, напр., встречаясь с знакомым на трехмесячных комитатских собраниях, они обыкновенно здоровались в следующих фразах: «Alaszszolgasa, domine spectabilis; ako ye prissli na forspontu, oder mit eigener Gelegengeit?». «Честь имею кланяться, милостивый государь, как вы приехали: на почтовых или в собственном экипаже?». Еще и теперь на улицах Пешта торговки называют друг друга «servus». Венгерские консерваторы очень любят выставлять период гегемонии латинского языка как золотой век венгерской истории. Устранению этого языка приписывают они все ужасы гражданской и крестьянской войны, разорившей их прекрасное отечество и ниспровергшей их маститую Конституцию. Но дело в том, что удар, окончательно подорвавший старый порядок вещей, первоначально пришел не изнутри, а извне. Два монарха из дома Габсбургов были родоначальниками той национальной горячки, которая теперь причиняет столько хлопот и затруднений их преемникам. Императрица Мария Терезия первая возымела мысль, что для ее правительства было бы в высшей степени полезно, если бы ей удалось сплотить воедино различные национальности ее многоязычной империи. И так как из всех немецких элементов самый главный был венгерский в смысле богатства, политической зрелости и исторических преданий, то она обратила все свое внимание на онемечение венгерцев. Заставив гордых мадьяр забыть свой родной язык, ей уж не трудно было бы справиться с диалектами кроатов, сербов, русинов, валахов, которые, строго говоря, представляют собой какие-то отломки национальностей, а не нации. Другой мотив, побудивший ее избрать для своих германизацион-ных целей именно венгерцев, а не какую-нибудь другую национальность, была благодарность. Эта королева, которая под конец своей жизни была одной из участниц в разделе Польши, в начале своего царствования чуть не подверглась подобной же участи со стороны могущественной коалиции ее соседей. В этих тяжелых обстоятельствах она искала защиты и покровительства в пресловутой преданности ее венгерских подданных. Последние, как известно, ответили на ее призыв восторженным кликом, вошедшим потом в пословицу: «Vitam et sanguinem pro rege nostro Maria Teresia». Благодаря этой пламенной преданности венгерцев и успехам их оружия династия была спасена. Такие великие услуги требовали не менее великой награды. В глазах Марии Терезии величайшее благо, какое она могла доставить своим подданным, в числе которых (увы!) находилось много протестантов и греко-католиков, были сокровища немецкой цивилизации вместе с обращением их в лоно истинной церкви. По глубокому ли политическому расчету, или по верному женскому инстинкту меры, которые она приняла для достижения своей цели, были именно такие, которые всего вернее должны были подействовать на такой народ, как венгерцы. К слабым сторонам венгерского характера надо отнести и то, что они очень податливы на лесть; они не прочь также порисоваться и не остаются равнодушными к прелестям красоты. Королева всячески льстила гордости венгерцев, повторяла при всяком удобном случае, что их верности и храбрости она обязана сохранением своей короны, приглашала ко двору их аристократию, осыпая ее почестями и должностями. Она учредила дворянскую гвардию, члены которой были все венгерские nemes ember (дворяне). Чтобы придать этому учреждению еще больше популярности, она сделала из него нечто вроде представительной корпорации. Каждый комитат избирал по два гвардейца, и так как служба в этой гвардии длилась всего 5 лет, то вакантные места тоже замещались по выбору комитата. Высшие военные должности, посольства к отдаленным дворам, немецкие и чешские жены - все это царственная цирцея доставляла в изобилии, и все это немало содействовало денационализированию венгерских магнатов. Во времени у нее тоже не было недостатка. Ее блестящее популярное царствование длилось целых сорок лет. Многие убеждены, что, если бы ей наследовала женщина, такая же молодая, красивая и талантливая, как она, мадьярский героизм, ознаменовавший собою 19 столетие, принял бы иное направление и борьба за венгерскую Конституцию была бы устранена надолго. Ее сын и преемник Иосиф II представлял собой во многих отношениях прямую противоположность своей матери. Она была ревностной католичкой, нетерпимой до фанатизма, тогда как Иосиф был поклонником королевского философа в Сансуси, и одно время его даже подозревали, что он был посвящен в таинства иллюминантства. Застращиваниями и подкупами она принудила многочисленную греко-католическую конгрегацию признать над собою главенство папы; он же, напротив, своим знаменитым эдиктом о терпимости возвратил, по крайней мере, целую треть новообращенных в лоно православной церкви. Вместо того чтобы действовать с тем утонченным тактом, который дал ей возможность поддерживать самые лучшие отношения с привилегированными классами, в то самое время как она подкапывалась под самые дорогие для них учреждения, он открыто заявил, что намерен окончательно ниспровергнуть эти учреждения. Будучи бездетным вдовцом, он со страстью предался филантропии; в исполнении своих намерений он постоянно руководствовался правилом, что не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Постоянно подстрекаемый сознанием, что лучшую и большую часть своей жизни он провел в подчиненном и сравнительно бесплодном положении, он решился теперь, когда сделался, наконец, монархом, не терять без дела ни одного дня, ни одного часа. Он работал с отчаянной поспешностью человека, над которым тяготеет тайное предчувствие, что он умрет, не окончив своей задачи. Эдикты, декреты, приказы, регламенты следовали друг за другом с быстротой неслыханной, и каждым из них он наживал себе массу врагов, каждый из них был направлен или против материальных интересов, или против установившихся убеждений того или другого класса. После 10 лет такой лихорадочной деятельности он умер с надорванным сердцем, от горячки, схваченной им в болотах Нижнего Дуная. Иноземные враги и домашние измены преждевременно свели его в могилу. Англия и Голландия, Швеция и Пруссия составили против него союз. Его бельгийские владения находились в открытом восстании, Венгрия готовилась последовать их примеру. Как только он слег в постель, венгерцы прямо отказали ему в повиновении, и когда до них дошла весть о его смерти, заявили свою радость потешными огнями и иллюминациями. Из всех мер Иосифа II ни одна, может быть, не вызвала такого ожесточения, как его решение сделать немецкий язык правительственным языком в Венгрии вместо латинского. Эта реформа разделяла участь всех других нововведений Иосифа II во время национальной аристократической реакции, последовавшей за его смертью. Но после бури, вызванной деятельностью Иосифа II, Венгрия не могла вернуться к тому варварскому затишью, в которое она погружена была во все царствование Марии Терезии. Венгерцы не могли не сознавать, что «человек, которого профессия - быть королем», не был так далек от истины, утверждая, что в новейшее время никакое государство не может быть управляемо на мертвом языке. Каждая нация имеет свой собственный национальный язык, на котором она выражает потребно
_6_2019_1585051132.jpg)
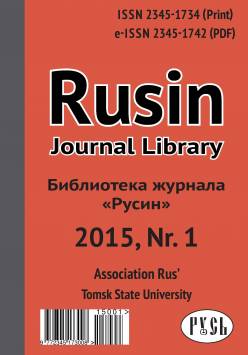
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью