Визуализация идентичности: символика этнической идентификации в контексте системы автомобильности (на примере Калмыкии)
В начале 2010-х гг. в Калмыкии появился новый тренд - индивидуальное оформление рамок для автомобильных номеров с указанием этнической и субэтнической идентификации. В статье, посвященной автомобильным маркерам этнической идентичности, осуществляется попытка анализа форм и способов проявления этнической символики в контексте, с одной стороны, системы автомобильности и, с другой стороны, специфики этнической ситуации в Калмыкии. Автор привлекает к исследованию материалы по маркерам «калмыцких» автомобилей в Республике Калмыкия и калмыцкой диаспоре в США, которые сопоставляются с примерами символов, используемых на автомобилях коренного населения Канады. В статье показано, как динамика этнической идентичности и иерархичность последней отражаются в символике «калмыцких» автомобильных номеров. Рассмотренные материалы позволяют поставить вопрос о причинах распространения этнической и субэтнической символики в одних обществах и неиспользования ее в других. Распространение практики «этнических» надписей в Калмыкии, с одной стороны, свидетельствует об этнических консолидационных процессах, объединяющих калмыцкое общество, с другой стороны, об актуализации после 1990-х гг. локальной субэтнической идентичности, о которой на протяжении периода со второй трети по 90-е гг. XX в. не принято было говорить в калмыцком обществе. Примеры использования этнической символики на автомобилях калмыков (как в Калмыкии, так и в условиях эмиграции в США), как и у индейцев Канады, показывают, что актуализация этнической идентификации порождает разнообразные проявления демонстрации этнической идентичности, что отражается в автомобильной культуре как основной культуре мобильности в городских условиях.
Visualizing identity: Kalmyk number plates and the symbolism of the ethnic.pdf Введение В начале 2010-х гг. в Калмыкии появился новый тренд - индивидуальное оформление рамок для автомобильных номеров с указанием этнической и субэтнической идентификации, что нашло отражение в интернет-публикациях «Вот это номер. В Калмыкии на автомобили наносят знаки этнической принадлежности» (публикация 27.03.2013) (Вот это номер 2013) и «Госномера автомобилей калмыков содержат этнические приметы» (публикация 27.02.2013) (Госномера автомобилей 2013а, 20136, 2013в). «В Калмыкии появилась мода помечать свои авто знаками родовой принадлежности водителя к одной из четырех этнических групп, обитающих там, - дёрвюды, хошеуты, бузавы, торгуды. Флажки, рисунки и надписи на номерах демонстрируют гордость водителя за свою принадлежность к тому или иному субэтносу, а местные гаишники к мелким надписям на рамках госномера автомобиля относятся снисходительно», - писали авторы сообщения (Госномера автомобилей 2013в). Судя по комментариям к этим заметкам, подобная форма самоидентификации не являлась широко характерной для российских регионов, хотя практика индивидуального оформления номерных рамок на автомобилях имела место в то время и продолжает бытовать поныне. Современные предложения о производстве индивидуальных рамок для автомобильных номеров, в основном, включают следующие тематические группы надписей (последовательность приводится по указанному ниже источнику): производители запчастей, армия, ведомства, вузы и институты, клубы и форумы, марки автомобилей, прикольные, спорт, страны и города (Рамки под номера). Общий посыл производителей таких рамок можно выразить опубликованным на сайте онлайн-сервиса печати полиграфии и сувениров «Printsegodnya.ru» девизом «Будьте уникальным» (Print сегодня). Рекламодатель сообщает, что он-лайн-сервис постоянно работает над расширением списка продуктов, среди которых «есть много уникальных разработок, которые можно заказать только у нас, например автомобильные рамки для номеров с печатью любых изображений». Практическое применение сервиса сводится к трем основным положениям: реклама своего бизнеса (нанесение на рамку предложений и контактов для связи); развитие собственного бренда (для увеличения узнаваемости организации); реклама уникальности («Покажите всем, что вы борец, или свои любимые бренды. Запомните: детали характеризуют вашу личность») (Print сегодня). Однако в интернет-пространстве, как правило, отсутствуют упоминания о таком способе индивидуализации автомобилей, как нанесение на номерные рамки сведений об этнической и субэтнической идентификации хозяина авто. В данной статье на материалах, представляющих калмыцкую традицию, в сопоставлении с материалами по другим регионам осуществляется попытка анализа форм и способов проявления этнической символики в контексте, с одной стороны, системы автомобильности и, с другой стороны, специфики этнической ситуации в Калмыкии. Основная часть Особенность этнической ситуации в современной Калмыкии состоит в фиксации среди ее калмыцкого населения разноуровневых идентич-ностей и одновременно попыток конструирования новых идентично-стей, что обусловлено и современными социальными процессами, и этнической историей калмыков, общность которых образовалась на основе представителей разных ойратских (западномонгольских) этно-политических объединений (торгутов, дербетов1, хошутов и других более мелких групп). Появление общекалмыцкой идентичности исследователи датируют разными периодами, обычно связывая с консолидацией этноса в период существования Калмыцкого ханства (середина XVII в. - 1771 г.). Но и накануне ликвидации ханства работавший с калмыками В.М. Бакунин отмечал, что хошуты и дербеты еще не называли себя калмыками, именуя себя ойратами, а торгуты, составлявшие подавляющее большинство, использовали термин «калмыки», хотя и подчеркивали, что он заимствован из другого языка (Бакунин 1995: 22). И в начале XX в. в структуре идентичностей важное место занимала локальная субэтническая идентичность, что отражено в источниках, в том числе документации по религиозным объединениям калмыков-буддистов (Бакаева 2018). В советское время в русле официальной политики, направленной на консолидацию общества, проводилась борьба с так называемым улусизмом (термин появился в 1920-1930-е гг.), понимавшимся как местничество, приверженность локальной идентичности и неоправданное покровительство своим землякам (Гоголданова 1994). В период депортации калмыцкого народа в восточные районы страны (1943-1957 гг.) сам термин «калмык» имел отрицательную коннотацию, быть калмыком означало быть «навечно переселенным», и в этих условиях над локальной идентичностью преобладала общеэтническая, объединявшая представителей народа в сложных условиях. В период после восстановления автономии Калмыкии (с 1957 г.) в республике реализовывалась советская модель национальной политики, в соответствии с которой особенно порицались проявления так называвшегося улусизма. В современном калмыцком обществе наряду с общекалмыцкой фиксируется иерархическая локальная идентичность (причем в разных этнических группах в различной степени); сохраняются представления о том, что территория этнической группы связана с пространством, которое разделяется от территорий других этнических групп воображаемой границей: территория каждой этнической группы в прошлом имела свой сакральный центр, маркировавшийся чаще всего буддийским культовым объектом. Границы в культуре кочевников обычно связывались с реальными объектами (река, урочище), вместе с тем воображаемые границы этнических территорий были связаны в традиционной культуре с представлениями о духах-хозяевах территорий, которым регулярно приносились подношения и соответственно проводились обряды. Как отмечала в начале 1990-х гг. З. Э.-Г. Гоголданова, «анализ современного расселения калмыков на территории республики позволяет с известной долей условности выделить этнотерриториальные зоны дербетов, торгутов, а также смешанного проживания дербетов (больших дербетов) и бузавов. Торгуты, как и прежде, проживают компактно на востоке и юго-востоке республики, дербеты - на севере и отчасти в центре. Бузавы несколько преобладают среди калмыцкого населения на западе. Современные хошуты, численность которых мала, локализованы в республике в одном из населенных пунктов. Территория их исторического расселения с оставшейся там частью калмыцких жителей оказалась за пределами республики и входит ныне в состав Астраханской области» (Гоголданова 1994). Среди калмыков после 1990-х гг. вновь стала актуализироваться локальная (внутриэтниче-ская) идентичность, что отражено и в материалах переписей 2002 и 2010 гг., в которых в группу «калмыки» были включены лица, указавшие свою идентификацию как «болдыры, бузавы, дербеты, казаки с языком калмыцким, ойраты, олеты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, элеты» (Национальный состав населения 2010). В этой связи обратим внимание на вывод Т. Эденсора, который в противовес мнению об утрате значения этнической идентичности в условиях детрадиционализации общества и широкого распространения средств массовой информации утверждает, что национальная идентичность «перераспределяется в более широком пространственном масштабе» (Edensor 2004: 101-120). В специальной работе, посвященной исследованию сохранения национальной идентичности в новых культурных формах, ученый исходит из задачи изучения способов, с помощью которых национальные идентичности формируются на основе массовой культуры и проявляются в повседневной жизни, и демонстрирует на примере автомобильных культур, как расширяется растущая сеть ассоциаций (названная им «матрицей») национальной идентичности, создавая новые способы связей для поддержания национального чувства принадлежности. Одним из новых проявлений символов этнической идентичности в современном обществе стала автомобильная символика. Автомобиль как средство передвижения одновременно выполняет целый ряд функций, среди которых одно из важных мест занимает идентификация автовладельца или человека, передвигающегося в автомашине. Специфика автомобиля как транспортного средства определена его многофункциональностью: транспорт разделяется на общественный и частный (на публичный и частный), на выполняющий функции орудия производства и функцию собственно транспортного средства (в том числе для частных лиц), на грузовой и легковой и т.д. Транспортные средства в границах отдельного государства объединяет их принадлежность к одной системе, что маркируется наличием единой системы государственных номерных знаков - различных в разных странах, в Российской Федерации имеющих стандарты, включающие обязательную маркировку общенациональной (общегосударственной, через включение в номерной знак изображения государственного флага России) и региональной (через цифровой код региона) принадлежности. Вместе с тем, несмотря на наличие общих стандартов, в обществе проявляются особенности восприятия и маркировки транспортных средств, которые, будучи связанными с человеком, обретают символику этой связи, что выражается как в маркировке автомобилей, так и в восприятии их как символов определенных социальных, этнических и иных групп. Исследованию комплекса вопросов, связанных с анализом автомобильной символики, посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ученых. Значимыми для нашей задачи анализа форм и способов проявления этнической символики в контексте специфики этнической ситуации в Калмыкии и в то же время системы автомобильности являются работы, в которых поставлены проблемы символической связи водителя и автомобиля в разных культурах. Так, практика отражения этнической идентичности в оформлении автомобилей известна по научным публикациям, посвященным анализу места автомобилей в обществе, их культурной ценности и знаковой символике в культурном контексте, а также в целом автомобильности, понимаемой как «самоорганизующаяся, ауто-пойетическая нелинейная система» (Урри 2012; Харламов 2012; Alam 2018; Dowling 2000; Sheller, Urry 2000; Edensor 2004; Исаханян 2016; Кузнецов 2017; Щепанская 2017; Щепанская 2018; Кононенко 2011; Ще-панская 2016; Мищенко 2015; Ростова 2015; Медведев 2019 и др.). В современной культуре мобильности значимыми являются понятия «пути» и «дороги», которые объединяют и одновременно разъединяют пространство, а также транспортного средства, с помощью которого преодолевается пространство. Анализируя автомобильную культуру с позиций социологии мобильности, Ю.П. Чемова выделяет на основе проведенного анализа ряд функций автомобиля (рекреационная, экономическая, социальная, оборонно-военная, функции экономии времени и организации городского пространства и др.), среди которых -функции стирания пространственных границ и идентификационная (Чемова 2018: 349-351). Отметим, что две последние из указанных Ю.П. Чемовой функции могут реализовываться одновременно, и тогда идентификационная функция приобретает особую значимость. Однако идентификационная функция рассматривается этим автором прежде всего в аспекте статуса автомобиля и его стоимости, зачастую определяющими появление у водителя неформальных преимуществ на дорогах. Такое понимание автомобиля как одного из идентификаторов статуса его водителя / владельца прослеживается и в работе Ю. Алама, который, анализируя культурную ценность и значение автомобилей в мультикультурном контексте и влияние автомобиля как собственности на процессы, которые формируют отношения, связанные с расовой идентичностью, приводит факты того, что комбинация этнической принадлежности и марки (бренда) автомобилей вызывали порой у жителей города подозрения (Alam 2018: 9). Действительно, ценность автомобиля является признаком, позволяющим оценивать статус его владельца, но Ю. Алам рассматривает конкретный пример г. Брэдфорда, где автомобиль представал гибким признаком идентичности и различий, что создавало возможность формирования стереотипов в отношении этнических различий. Является ли статус автомобиля показательным при его маркировке этнической идентификации его владельца -вопрос, который на материалах, привлеченных Ю. Алама, получил положительный ответ, в иных условиях может не иметь подобного значения. В нашей статье не рассматриваются марки автомобилей: идентификационные надписи встречаются на калмыцких автомобилях независимо от их статусности и стоимости. По мнению Дж. Урри, автомобили могут обрести «антропоморфный» облик, обретая имя, кличку и т.д., они «обеспечивают своим владельцам статус через различные знаковые ценности, включающие „скорость", „дом", „безопасность", „сексуальность", „карьерные достижения", „свободу", „семью", „маскулинность" и даже „наследственные хорошие манеры"», и в целом «существует ряд „автомобильных эмоций", вызываемых владением или обладанием машиной» (Урри 2012: 239). Маркировка автомобиля происходит, прежде всего, через размещение выполняющих коммуникативную функцию надписей или символики, среди которых Т. Б. Щепанская выделяет несколько групп (имена; ролевые наименования через указания на социальные образы или роли; названия, указывающие на технические средства; указывающие марку машины; образные наименования) и в целом различает два типа идентичности: 1) дорожную идентичность, которая возникает в движении (на дороге) или на базе сообществ, определенных движением (этот тип идентичности в материалах автора представлен эмблемами объединенных движением сообществ, надписями, свидетельствующими о самоидентификации со своим автомобилем, а также ценностями дорожных сообществ и комментариями по поводу состояния дорог); 2) домашнюю идентичность, которая включает локальные идентичности, профессиональные, семейные, культурные, воинские, а также национальную идентичность, как проявления которой упоминаются наклейки с российским гербом, изображения герба (Щепанская 2016: 64). Исследователь отмечает, что метки на внешней поверхности машины или вещественные дополнения специально предназначены «для трансляции коммуникативных посланий и раскодирования коммуникативных характеристик автомобиля как „актора" в дорожном потоке Автомобиль в потоке всегда воспринимается как семиотически значимый объект, но надписи и наклейки позволяют прочитать значения, которые этому объекту целенаправленно приписываются» (Ще-панская 2016: 59-60). Как отражение национальной идентичности рассматривает Т.Б. Щепанская демонстрацию государственных флагов, наличие различных предметов цветов флага России и изображения герба государства (Щепанская 2016: 57). Выводы Т.Б. Щепанской способствуют постановке и следующего вопроса: каким образом «домашняя» (локальная) идентичность проявляется в ситуации, когда соответственно маркированный автомобиль, преодолевая пространство, движется по территории, маркируемой иной идентичностью? Чем представляется подобная ситуация - демонстрацией инаковости и освоения пространства как претензии на территорию, на которой они находятся, или лишь обозначением идентичности? Специфическая текстовая информация на автомобилях обычно включает надписи не только на номерных рамках, но и на самом корпусе автомашины, особенно связанной с профессией водителя. Анализируя, как и Т.Б. Щепанская, профессиональную сферу автомобильности (Щепанская 2010, 2016, 2017), Д. Мищенко на материале надписей на такси приходит к выводу о том, что они «образуют корпус прецедентных текстов - семиотически значимых высказываний, знакомство с которыми является одним из знаков принадлежности к группе, а само функционирование оказывается возможным благодаря единству смыслового поля культуры у всех членов группы» (Мищенко 2015: 159), и выделяет группы надписей: 1) религиозные (несущие в основном охранительную символику и этимологически первичные); 2) личные имена (довольно редко); 3) самопрезентация водителя через краткие характеристики, создающие его образ; 4) имена известных персонажей (Мищенко 2015: 160-165). На выбор надписи на машине влияет ряд характеристик, среди которых этническая идентификация, возраст, пол, социальный статус, уровень образования водителя. Однако в примерах, приводимых исследователем, речь идет об этнической идентификации. Нам необходимо рассмотреть вопрос внутриэтнической идентификации и его отражения в автомобильных маркировках. В г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры В.В. Медведев описывает примеры, более близкие упомянутым в начале статьи калмыцким материалам, анализирует «визуализацию самосознания водителя на корпусе автомобиля и наличие в салоне маркирующих предметов», которые демонстрируют идентичность автовладельца (Медведев 2019: 67), и освещает конкретные примеры, отражающие религиозную, этническую и территориальную идентичности, относящиеся к выделенному Т. Б. Щепанской «домашнему» типу идентично-стей. В г. Сургуте как этнически и конфессионально разнообразном городе, в котором проживают немало трудовых мигрантов, прослеживается демонстрация: 1) религиозной принадлежности автовладельцев, что является приемом самоидентификации, 2) происхождения через указание региона места рождения или предыдущего проживания, что отражает потребность в отождествлении себя с определенным регионом и этнической группой, самоопределение автовладельца как части этнического сообщества, 3) этнической символики (Медведев 2019: 69-73). Исследователь вслед за Т.Б. Щепанской пишет о том, что «государственные флаги, предметы цветов флага России и изображения ее герба отражают национальную самоидентификацию автовладельцев» (Медведев 2016: 73), так же, как и надписи «Российская Федерация», «Россия», «Russia», «Армения», «Kazakhstan». Приводится и пример «двойственной» национальной идентификации через изображение на автомобиле двух флагов - России и Армении (Медведев 2019: 72). Вместе с тем приводятся примеры проявления локальных территориальных идентичностей - через надписи на ветровых стеклах, обозначающих не только места нынешнего проживания (Сургут, Челябинск, Тюмень), но и места прежнего жительства или места рождения: «Кара-гас» (дагестанское поселение с преобладающим ногайским населением), «Орта-Тюбе» (ногайское село в Дагестане), «Чубутла» (аварское поселение в Дагестане), «Каракчикум» (населенный пункт в Согдийской области Таджикистана). Демонстрация гербов Республики Дагестан, Республики Татарстан подчеркивает не только локальную, но и этническую идентичность; она часто сочетается с надписями, отражающими эти идентичности. Встречаются также надписи-этнонимы (nogay, gagauz), сочетающиеся с этническими символами, в том числе, например, тамгой одного из ногайских родов (Медведев 2016: 70). В поликультурном и полиэтническом Сургуте, таким образом, автомобильные маркеры отражают локальную (территориальную), этническую и общенациональную (государственную) самоидентификацию водителя / автовладельца, проецируемую на знаковую символику на автомобиле. В.В. Медведев отмечает, что материалы, зафиксированные им в Сургуте, представляют «новые, ранее не известные и не востребованные материальные формы проявления идентичности. Несмотря на размещение знаково-символических маркеров на автомобиле, на него они не проецируются, а служат маркерами водителя, отражая его сознание» (Медведев 2019: 69). Описанный исследователем на собранных в 2016-2019 гг. материалах г. Сургута тренд был зафиксирован в Калмыкии ранее (Вот это номер 2013; Госномера автомобилей 2013а, 2013б, 2013в). Как и в других регионах, в республике наблюдается наличие автомобильных маркеров, отражающих общенациональную (государственную) идентичность (через изображение флага России и надписи «Россия» и «Russia»; нам встречалась и надпись «СССР»), а также локальную и этническую идентичность. Региональную идентичность автовладельцы обозначают чаще всего через надписи на ветровом стекле. Наиболее ярко это проявляется на большегрузных машинах и пассажирских автобусах, совершающих рейсы в крупные города: в последние десятилетия большая часть пассажиров не только в соседние регионы, но и в Москву и Санкт-Петербург добиралась на автобусах, так как транспортная система республики в этот период являлась одной из проблемных зон2. На ветровых стеклах ежедневно курсирующих пассажирских междугородных автобусов красуются огромные надписи «Элиста» (рис. 1) - такие же наклейки характерны и для рейсовых междугородных автобусов и других городов. Рис. 1. Автобус фирмы «Нежин-экспресс» с надписью «Элиста» на ветровом стекле, изображением флага Калмыкии и на двери логотипа республиканского футбольного клуба «Уралан»3 и использованием синего и желтого цвета в маршрутной табличке. Фото из сети Интернет Маркировка надписями, связанными с территориальной принадлежностью и этнической идентичностью, характерна для сферы профессиональных перевозок - и как опознавательный знак транспортного средства с обозначением его маршрута, и как знак этнической принадлежности. Вместе с тем в производственной сфере, где работают трудовые мигранты, встречается и маркировка транспортных средств в целях указания на происхождение водителя для возможного знакомства с земляками. Так, в интернет-пространстве нам встретилось изображение большегрузного автомобиля с надписью на кузове «менд» ('здравствуй', букв. 'здоров') и цифрового сочетания 08 (хотя автомобиль имеет номерной знак московского региона, т.е. работник (водитель) трудится в Москве и области) (рис. 2). Традиционное приветствие «менд» на калмыцком языке использовано как этническая символика на большегрузном автомобиле, для адекватного перевода неясного для окружающих приветствия «отсылка» дана через государственный знак региона 08: таким образом, мы видим свидетельство того, что этническая маркировка используется в целях указания на идентичность водителя и возможных знакомств с представителями его народа. Рис. 2. Большегрузный автомобиль с надписью - традиционным калмыцким приветствием «менд» и дополнительно выведенными цифрами 08 (указание на регион - Республики Калмыкия) на кузове. Фото из сети Интернет В г. Элисте городские автобусы не имеют подобных маркеров, в то время как многие частные маршрутные такси, а также легковые автомобили автовладельцы обозначали на протяжении последнего десятилетия надписями локально-территориального характера, демонстрируя свое происхождение: «Шин Мер», «Алцынхута», «Наинтахин» (поселки в Кет-ченеровском районе Калмыкии), «Ики-Бухус» (поселок в Малодербетов-ском районе Калмыкии), «Ики-Чонос» (поселок в Целинном районе Калмыкии), «Яшкуль» (районный центр в Калмыкии), «Джангар» (поселок в Октябрьском районе Калмыкии) и т.п. Как правило, названия поселков отсылают к локальной этнической идентичности: для сельчан указание на происхождение из определенного районного поселения однозначно маркировке субэтнической группы. Встречается и надпись на ветровом стекле буддийской молитвы «Ом мани падме хум», выполняющей в этом случае охранительную функцию, а также, в сущности, в условиях республики выполняющей роль и этнического маркера: в Калмыкии подавляющая часть населения представлена калмыками и русскими. Этническая идентичность проявляется в символике общеэтнического и субэтнического уровней. Региональная и этническая идентичность отражены в надписях «Калмыкия» либо «Хальмг Тангч4» (рис. 3) на номерной рамке автомобилей, популярными вариантами размещения на автомобильных номерах этих надписей являются сочетания с изображениями на правой стороне флага Республики Калмыкия (далее - РК), а на левой стороне - флага Российской Федерации либо с двух сторон флага РК. В этом случае на первый план выступает изображение флага РК в его прямом значении - как символа республики как субъекта федеративного государства. В ситуации с надписями прослеживается следующая особенность: надпись «Калмыкия» (рис. 4) более распространена, что отражает, во-первых, преемственность названия в русскоязычных документах (от Калмыцкого ханства до Калмыцкой АССР); во-вторых, языковую ситуацию: калмыцкий язык отнесен ЮНЕСКО к находящимся под угрозой исчезновения, и сфера его применения в обществе существенно сужена. Уже спустя три года после включения в официальное название республики в январе 1991 г. словосочетания «Хальмг Тацгч» ('Калмыцкая республика' или 'Республика Калмыкия') (Гунаев 2010: 20-21) с принятием «Степного Уложения (Конституции Республики Калмыкия)» в апреле 1994 г. «из наименования республики было исключено название „Хальмг Тангч"», после чего был принят Указ Президента России от 10 февраля 1996 г. № 173 и внесено изменение в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ 1993 г., республика стала именоваться «Республика Калмыкия». Изъятие из названия республики калмыцкой части объясняли неоднозначным толкованием перевода его словосочетания «Хальмг Тацгч» на русский язык и ограничением его использования при переводе официального названия на калмыцкий язык (Максимов, Ванькаев 1995: 44; Гуна-ев 2010: 23). Это мнение отражает официальную причину изменения названия республики. Сокращение наименования субъекта до русскоязычной части также отражало и языковую ситуацию в республике. Стоит отметить, что при выборе названия «Республика Калмыкия - Хальмг Тацгч» в феврале 1992 г. депутат В.М. Остапенко (отец Зосима, в то время - благочинный православных приходов в Калмыкии, с 1995 по 2011 г. - епископ Элистинской и Калмыцкой епархии) отмечал, что название «Республика Калмыкия - Хальмг Тацгч» «будет отражать интересы всех народов, живущих в Калмыкии» (Гунаев 2010: 22), конечно, основываясь на том, что в официальное наименование были включены названия на русском и калмыцком языке. Вышеизложенное свидетельствует о том, что надпись на номерной рамке калмыцких автомобилей, включающая название республики на калмыцком языке, отражает самоидентификацию автоводителей и подчеркивает их калмыцкое происхождение, более широко распространенная надпись «Калмыкия», во-первых, отражает прежде всего региональную идентичность, во-вторых, косвенно - языковую ситуацию. Рис. 3. Автомобиль с надписью «Хальмг Тацгч» с изображением флага РК на номерной рамке. Фото Э.П. Бакаевой Рис. 4. Автомобиль с надписью «Калмыкия» и флагами России и Калмыкии на рамке. Фото Э.П. Бакаевой «Мода» на английский язык как язык международного общения отражена в появлении на автомобилях в республике популярной надписи и на латинице («Kalmykia»). Общеэтническая идентичность проявляется в надписях, содержащих призыв ко всему калмыцкому народу: «Хальмгуд, уралан» 'Калмыки, вперед', всегда бывший популярным (рис. 5): бытует представление о том, что даже призыв «Ура!» в русском языке происходит от калмыцкого слова «уралан» (или от монгольского «урагш») 'вперед', заимствованного в краткой форме. Рис.5. Автомобиль с надписью «Хальмгуд уралан» ('Калмыки, вперед') и изображением флага РК на номерной рамке. Фото из сети Интернет При этом «уран» 'клич' - один из идентификационных признаков в традиционном калмыцком обществе (Бакаева 2011; Басангова 2013; Шараева 2007; Трансграничная культура 2016). По данным опросов, фраза «Хальмгуд, уралан» входит в «топ 10 фраз на калмыцком языке» (Топ-10 2017), особенную популярность призыв приобрел в период, когда республиканская футбольная команда «Уралан» (созданная сразу после восстановления автономии республики в 1958 г.) выступала в высшем дивизионе российского футбола5; созданы песни с таким заглавием, популярные в республике и за ее пределами (рис. 6). Рис. 6. Автомобиль с надписью на рамке «ФК Уралан». Фото Э.П. Бакаевой Как и в других регионах, в автомобильной культуре символом территориальной идентичности, но в большой мере и символом этнической идентичности выступает флаг. Удачное лаконичное художественное решение, сочетающееся с насыщенностью символики цвета и знаков, способствовало широкому использованию этого национального символа Калмыкии. В настоящее время именно флаг республики является наиболее используемым символом Калмыкии и калмыков. Изображение флага Республики Калмыкия, присутствующего на многих номерных рамках автомобилей и в виде отдельного предмета (закрепленного на ветровом стекле или на приборной панели) в интерьере, выступает этническим символом. В подавляющем числе автомобилей, на которых встретились изображения флага республики, водители явно являлись калмыками, что свидетельствует о разном восприятии данного изображения: флага как государственного символа республики и флага как знака этнической идентичности, поскольку в нем, в отличие от более раннего флага Калмыцкой АССР, использована национальная символика. Флаг Республики Калмыкия утвержден постановлением парламента от 30.07.1993, он поистине является носителем «информации о брендо-вых историко-культурных характеристиках» (Малькова, Тишков 2010: 17). В.К. Малькова и В.А. Тишков, исследуя образы российских республик в государственных символах, отмечают: «Религиозные предпочтения лишь изредка можно увидеть в цветовых воплощениях: на гербе Бурятии желтый цвет ассоциируется с ламаизмом, в Дагестане, часть населения которого исповедует ислам, - это зеленый цвет, а в Калмыкии золотисто-желтый цвет ассоциирован с вероисповеданием народа. В других республиках это не подчеркивается» (Малькова, Тишков 2009: 113). Принятие флага, включающего религиозную символику, отвечало особенностям этапа становления новых социальных отношений в республике и особенно - условиям возрождения буддизма. Лаконичная символика флага, принятого в 1993 г., сочетала цветовую символику (голубое - небо, ранние верования, желтый - буддизм, белый - цвет чистоты) и символику лотоса в буддийской культуре. Вероятно, высокая степень «брендовости» флага Калмыкии, разработанного в 1993 г., заключается в его лаконичности и глубокой символичности. Он стал восприниматься не только в качестве государственного символа, но и как символ всего народа, а также культурного пространства, связанного с этносом. Флаг Республики Калмыкия представлен в разных сферах: на правительственных зданиях и главных страницах сайтов (от республиканских до отдельных учреждений и предприятий), в оформлении бланков разных учреждений и на сувенирной продукции, распространяемой не только в самой Республике Калмыкия, но и за ее пределами. Он используется и в общинах эмигрантов как национальный символ; сочетание религиозной и этнической символики обусловило активное использование изображений флага в сочетании с очертаниями территории республики в предметах, связанных с буддийскими общинами калмыков зарубежья, демонстрирующими собственную этническую идентичность. В целом сочетание этнической и религиозной символики во флаге Калмыкии обусловило его культурную ценность как знака, обладающего свойствами, которые применимы для его использования как автомобильного маркера, визуализирующего этническую идентичность автовладельца. Транспортное средство само по себе - знак движения в пространстве. Его маркировка этническими символами означает не только проявление этнической идентификации, но и обозначение территории пространства. Брендовое значение, как и во многих других регионах России, в Калмыкии приобрело цифровое сочетание, обозначающее регион в соответствии с кодами субъектов Российской Федерации, определенными в очередности согласно их перечислению в Конституции РФ. Цифровое сочетание 08 или просто восьмерка приобрели значение символа региона, в связи с чем государственный номер автомобиля «008» или иные сочетания с цифрой восемь (в определенных случаях - и в сочетании с буквой «О») стали восприниматься как демонстрация калмыцкой идентичности. Такое сочетание порой на свадебных кортежах заменяется символикой «улан зала» 'красной кисти' -национального калмыцкого символа, так как самоназвание калмыков - «улан залата хальмгуд» 'калмыки с красной кисточкой' - отсылает к традиции их этнических предков ойратов, которые по указу То-гона-тайши с 1437 г. носили такие кисти на головных уборах. Акцент на этнической символике особенно ярко проявляется в свадебных обрядах, в которых народные традиции возрождаются наиболее активно, потому калмыцкие свадебные кортежи демонстрируют зачастую этническую символику в ее разнообразии: выбор автомобиля с номером «08», украшение автомобиля головным убором с красной кистью, наконец, сопровождение автомобилей всадниками, что отсылает окружающих к ассоциации «автомобиль - конь» (рис. 7-9). Известно, что в калмыцкой традиционной культуре свадебный кортеж воспринимался как совершающий путь из одного сакрального пространства в другое, и по дороге путники не присоединялись к нему и не пересекали ему путь. Также и во второй половине XX в. сохранялась традиция не брать попутчиков в свадебный «поезд», поскольку путь осмыслялся как опасный - и в этой традиции явно прослеживается связь транспортного животного с современным автомобилем (символика «автомобиль» - «конь»). Рис. 7. В свадебной обрядности современных калмыков ярко демонстрируется и этническая идентичность: акцент сделан на сопровождении всадниками, что позволяет сопоставить транспорт разных эпох; на автомобиле «калмыцкий» номер, повторяющий цифры 08 и даже в буквенном сочетании серии не уходящий от темы. Фото из сети Интернет Виды Волги. АСТРАХАНЬ. Heotcia Еалкнчш Идущая въ Xypjrt. Рис. 8. К этому известному изображению на открытке «Виды Волги. Астрахань. Невеста калмычка, едущая в хурул», растиражированному в Интернете, явно идет отсылка в новых формах сопровождения свадебного кортежа всадниками (Собрание МАЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 14-159. URL: http collection.kunstkamera.ru/entity/QBJECT/201608) А ■ Рис. 9. Демонстрация этнического символа в виде головного убора с красной кистью на автомобиле, входящем в свадебный кортеж. Выбор цветов также связан с темой степного тюльпана - символа Калмыкии. Фото из сети Интернет Наряду с общеэтнической идентичностью в Калмыкии фиксируется многоуровневая идентичность, что получило визуальную текстовую форму в надписях к номерным знакам, приобретшую популярность в 2010-е гг. Известно, что калмыцкий этнос образовался в результате консолидации этнических групп торгутов, дербетов, хошутов (позднее образовалась группа калмыков-бузава), представители которых, несмотря на сложение единого народа, сохраняли свою идентичность до XX в. и продолжают сохранять память о ней до настоящего времени. З.Э.-Г. Гоголданова по результатам проведенного исследования в начала 1990-х гг. отмечала, что наблюдается внутригрупповая субэтническая консолидированность: среди калмыцкого населения в моногрупповых браках состояли в селе 39,0% бузавов, 83,1% дербетов и 65,0% торгутов, в городе - 50,4% бузавов, 54,8% дербетов и 77,1% торгутов (Гоголданова 1994). В советский период в обществе пристальное внимание придавалось так называемому улусизму как негативному явлению, не способствующему консолидации общества. Вместе с тем, обусловленная историческими условиями относительная компактность и однородность расселения этнических групп калмыков в сельской местности являлась основой воспроизводства субэтнических групп и многоуровневного самосознания калмыков, в связи с чем исследователи пришли к выводу о том, что «внутриэтни-ческие процессы развиваются, хотя и не столь быстро, как это порой предполагается, все же в направлении этнической консолидации», но «нельзя не считаться с существованием субэтнической дифференциации», при этом проводя различие между этнической реалией (субэтническим делением) и негативными проявлениями на ее почве (Го-голданова 1994). Сложный состав фиксируется исследователями у разных народов (см., например: Ламажаа 2017), но степень консолидации и уровень самосознания в разных этнических группах различаются. Среди калмыков, как нами отмечалось ранее, особенности расселения этнических групп и формирования сети буддийских монастырей, а в 1920-1930-е гг. - и религиозных организаций буддистов-мирян способствовали сохранению самих субэтнических групп и их различий (Бакаева 2018), в том числе на бытовом уровне. Наглядный пример: в поселениях калмыков-дербетов, расположенных вблизи поселков, где основная часть населения представляла другую субэтническую группу, на вопрос, куда уехал человек, вполне обычным и в 70-80-е гг. XX в. мог быть ответ «торhуда hазрт» 'букв. в торгутскую землю', т.е. в соседние села другого района. Однако реалии быта в тот период не транслировались в средствах информации и практически не отражались и в научной литературе. До постперестроечной эпохи заявления о субэ
Ключевые слова
этническая идентичность,
пространство,
визуализация идентичности,
автомобильные маркеры,
калмыкиАвторы
| Бакаева Эльза Петровна | Калмыцкий научный центр РАН | доктор исторических наук, доцент, заместитель директора, ведущий научный сотрудник | ebakaeva@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Американские индейцы племени сиу заступились за одноименную команду (дата публикации: 09.12.2009). URL: https://pravo.ru/interpravo/news/view/21552/ (дата обращения: 01.03.2020)
Бакаева Э.П. Вопросы этнической идентификации в документах калмыцких буддистов первой трети XX в. в контексте современных проблем исследования этнической истории калмыков // Oriental Studies. 2018. № 4. С. 59-74
Бакаева Э. П. Калмыки-цаатаны: к проблеме происхождения этнической группы и этимологии этнонима // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 2. С. 68-74
Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев. Соч. 1761 г. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1995. 153 с
Басангова Т.Г. Жанр уранов в фольклорной традиции калмыков // Новые исследования Тувы. 2013. № 4. URL: https://www.tuva.asia/journal/issue_20/6706-basangova.html (дата обращения: 01.03.2020)
Вот это номер. В Калмыкии на автомобили наносят знаки этнической принадлежности (дата публикации: 27.03.2013). URL: http://smartnews.ru/regions/elista/5759.html (дата обращения: 01.05.2019)
Гоголданова З.Э.-Г. Субэтносы и этнические процессы в Калмыкии в середине 80-х годов XX столетия (По материалам статистико-этнологического исследования): ав-тореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1994. 22 с
Госномера автомобилей калмыков содержат этнические приметы. 2013а (дата публикации: 27.03.2013). URL: https://www.ridus.ru/news/74967/
Госномера автомобилей калмыков содержат этнические приметы. 2013б (дата публикации: 20.01.2014). URL: http://asiarussia.ru/news/1654/ (дата обращения: 01.05.2019)
Госномера автомобилей калмыков содержат этнические приметы. 2013в (дата публикации: 27.03.2013). URL: https://www.city-n.ru/view/322352.html) (дата обращения: 01.05.2019)
Головнев А.В. Концептуализация мобильности в антропологии и этнографии // Уральский исторический вестник. 2018. № 3(60). С. 6-15
Головнёв А.В., Белоруссова С.Ю., Киссер Т.С. Веб-этнография и киберэтничность // Уральский исторический вестник. 2018. № 1(58). С. 100-108
Гунаев Е.А. Официальное наименование Республики Калмыкия: исторические и политико-правовые аспекты // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (новое название - Oriental Studies). 2010. № 2. С. 20-26
Исаханян А.З. Автомобильная культура в контексте современных концепций пространства // Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 166-173
Кононенко Р.В. Автомобильность в России. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011. 155 с
Кузнецов А. Космополитика имплицитных инноваций городской мобильности: гибкость, неопределенность, инфраструктуры // Российская антропология и «онтологический поворот». М., 2017. Вып. 2. С. 25-291
Ламажаа Ч.К. Проблемы определения и изучения субэтнических групп тувинцев // Новые исследования Тувы. 2017. № 1. URL: https://nit.tuva. asia/nit/article/view/693 (дата обращения: 01.03.2020)
Линдер В.И. Лякросс // Большая российская энциклопедия: в 35 т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004-2017. URL: https://bigenc.ru/sport/ text/2163248 (дата обращения: 02.03.2020)
Максимов К.Н., Ванькаев Ю.К. Степное Уложение - важный шаг в развитии государственности Калмыкии // Выбор Калмыкии. Элиста: КИОН РАН, 1995
Максимова Д.Д., Соколов В.И. Коренные народы Канады: эволюция отношений с государством // США. Канада. Экономика, политика, культура. 2010. № 12. С. 55-72
Малькова В.К., Тишков В.А. Культура и пространство. Книга первая: Образы российских республик в Интернете. М.: ИЭА РАН, 2009. 147 с
Малькова В.К., Тишков В.А. Антропология историко-культурных брендов территорий, регионов и мест // Культура и пространство. Книга вторая. Историко-культурные бренды территорий, регионов и мест. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 6-57
Медведев В.В. Автомобиль как маркер идентичности: исторические аспекты // Известия Алтайского госуниверситета. Исторические науки и археология. 2019. № 6 (110). C. 67-74
Мищенко Д. Надписи на такси в Абиджане (Кот-д'Ивуар) // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 155-169
Национальный состав населения // Всероссийская перепись населения. 2010. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 10.04.2020)
Рамки под номера индивидуальные. URL: https:// kscomplect.ru/products/category/ramki-pod-nomera-individualnye (дата обращения: 10.04.2020)
Ростова А. В. Способы конструирования идентичности автолюбителей: гендерные аспекты // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. 2015. № 1 (4). С. 211-216
Соколов В. И. Многоэтничность как основа становления канадского общества (выступление на международной конференции «Канада и Россия: экономика. Политика, мультикультурализм» // США и Канада: экономика, политика, культура. 2016. № 12 (564). С. 52-58
Тишков В.А. Новые формы общественной активности канадских индейцев // Исторические судьбы американских индейцев (проблемы индеанистики). М.: Наука, 1985. С. 328-338
Топ-10 популярных фраз на калмыцком языке (дата публикации: 29.03.2017). URL: https://uralan.info/index.php/nasha-zhizn/item/5821-top-10-populyarnykh-fraz-na-kalmytskom-yazyke (дата обращения: 01.03.2020)
Трансграничная культура: очерки сравнительно-сопоставительного исследования традиций западных монголов и калмыков / Э.П. Бакаева, К.В. Орлова, Д.Н. Музраева и др. Элиста: КалмНЦ РАН, 2016. 456 с
Указ Президента Российской Федерации от 10.02.1996 г. № 173 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45863
Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.В. Лазарева, вступ. статья Н.А. Харламова. М.: Праксис, 2012. 576 с
Френк Г.Ю. Этноязыковые проблемы коренных народов Канады // Вестник культуры и искусств. 2017. № 1 (49). С. 86-91
Халгинова Н. Барт - это согласие! // Степные вести: интернет-газета. 2018. 12 июня. URL: http://tegrk.ru/archives/37716 (дата обращения: 10.04.2020)
Харламов Н. Новое общество или новая наука об обществе? Социология мобильностей Джона Урри // Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.В. Лазарева, вступ. статья Н.А. Харламова. М.: Праксис, 2012. С. 7-58
Чемова Ю.П. Автомобильная культура: анализ через призму социологии мобильностей Дж. Урри // Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики: сборник статей. СПб.: Интерсоцис, Скифия-принт, 2018. Вып. 6. С. 348 -353
Шараева Т.И. Уран торгутов (по данным полевых исследований) // Проблемы этногенеза, этнической истории и культура тюрко-монгольских народов. Элиста: КалмГУ, 2007. C. 105-113
Щепанская Т.Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды (Россия, конец XX - начало XXI в.). СПб.: Наука, 2010. 338 с
Щепанская Т.Б. Движение и вещь: опыты чтения автомобиля в потоке // Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 53-66
Щепанская Т.Б. Вегикулярные маркеры и социальная коммуникация в «потоке» // Российская антропология и «онтологический поворот». М., 2017. Вып. 2. С. 295-328
Щепанская Т.Б. Движение в мегаполисе: время и тело // Кунсткамера. 2018. № 1. С. 4859
Alam Y. Automatic Transmission: Ethnicity, Racialization and the Car // Identities: Global Studies in Culture and Power. 2018. Vol. 25, № 3. P. 1-18
Collins G. When Cars Assume Ethnic Identities (дата публикации: 23.06.2013). URL: https://www.nytimes.com/2013/06/23/automobiles/when-cars-assume-ethnic-identities.html
Constitution Act 1982 // A Consolidation of the Constitution Acts 1867 to 1982. Consolidated as of January 1, 2013. P. 53-76. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf (accessed: 27.01.2017)
Dowling R. Cultures of mothering and car use in suburban Sydney: a preliminary investigation // Geoforum. 2000. № 31. P. 345-353
Edensor T. Automobility and National Identity: Representation, Geography and Driving Practice // Theory, Culture & Society. 2004. Vol. 21, № 4-5. P. 101-120
Print сегодня. URL: https://printsegodnya.ru/ramki-dlya-auto (дата обращения: 01.03.2020)
Sheller M., Urry J. The City and the Car // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 24 (4). December 2000. P. 737-757
Six nations Community Profile. URL: http://www.sixnations.ca/CommunityProfile.htm (дата обращения: 01.03.2020)
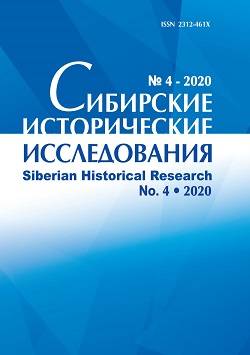

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью