Инфраструктура советской онкологии: между архаикой и модерном
Западная онкология сформировалась в начале 1980-х гг. с установлением конвенции в виде молекулярной парадигмы рака и с формированием высокотехнологичной системы диагностики и лечения. По отношению к советской онкологии ничего подобного сказать нельзя: до самого распада СССР основным взглядом на природу злокачественных опухолей оставалась консервативная полиэтиологическая теория, а главный упор делался на всеобщую систему осмотров и профилактики. Чем можно объяснить подобное отличие? Джоан Фуджимура полагает, что признание первенства за теорией онкогена должно объясняться двумя факторами: 1) самой теорией, которая является продуктом успешного перевода разных теоретических языков и 2) возможностями инфраструктуры науки о раке этого времени, которая могла отвечать на высокие запросы новой теории. При этом инфраструктура определила и развитие всей онкологии на многие десятилетия вперед, создав созависимость идей и материи. В статье проведена ревизия этой теоретической логики, которая была дополнена анализом эпистемологической программы советской онкологии и ее институционализации, включая профессиональные карьеры советских онкологов. Итогом статьи стало следующее утверждение. Советская онкологическая система испытывала сильное влияние диалектического материализма, который сформировал понимание причины болезни, методы и инструменты лечения. За счет наличия единой программы советская онкология уже в 1920-1930-е гг. активно развивалась. В последующие несколько десятилетий была создана уникальная трехчастная инфраструктура (профилактики, диагностики, просвещения), не имеющая аналогов в мире. При этом так же, как и западная онкология, которая попала в ловушку инфраструктур, советская онкология аналогично увязла в своем материальном субстрате, не чувствительном к изменениям. В этом фокусе советская онкология повторила путь многих модернистских проектов в СССР: начавшись как авангард мировой науки, уже в 1970-е она стала отстающей и архаичной.
The infrastructure of Soviet oncology: between archaic and modernity.pdf Введение Николай Блохин, один из основателей советской онкологии, регулярно вел ожесточенные бои с врагами своей дисциплины. С особым рвением он публиковал обличительные статьи о различных ненаучных методах лечения злокачественных опухолей, в которых подвергал обвинениям не только абстрактных и безымянных целителей и знахарей, но и конкретных представителей институциональной советской науки. В разное время врагами советской онкологии были признаны заслуженный микробиолог Александра Троицкая, автор ауто-вакцины от рака; биолог Юрий Продан, изготовлявший противоопухолевые препараты на основе чистотела; изобретатель и биохимик Анатолий Качугин, предлагавший лечить опухоли комбинацией препаратов на основе кадмия-113 и семикарбазида солянокислого. Число только названных поименно Блохиным врагов советской онкологии исчислялось десятками (Блохин 1956, 1964, 1968, 1971; Блохин, Орловский, Серебров 1980). Достаточно сложно определить, что именно явилось причиной неприятия каждой из методик. Теоретические построения и клиническая практика большинства из отвергнутых теорий были вполне конвенциональны науке этого времени и могли найти свое место в онкологической практике: например, семикарбазид-кадмиевая терапия А. Ка-чугина, подвергнутая обструкции Н. Блохиным и коллегами, спустя многие десятилетия была заново открыта в США. Однако отвергнутые концепции все же объединяет одна общая характеристика: практически все они являлись универсалистскими методами, т.е. предлагали единственно верное лечение для всех без исключения видов опухолей. В этом фокусе ситуация уже не так уникальна. Борьба с универсалистскими противораковыми методиками наблюдалась и в западных онкологиях в середине XX в. По мнению ряда исследователей, причина подобных конфликтов кроется в особенности становления онкологии как молодой дисциплины (Patterson 1987; Lowy 1996; Clow 2001; Timmermann, Toon 2012; Bollinger 2016). В 1940-1970е гг. наука о раке во многих странах переживала свое дисциплинарное оформление: формулировались основные теории, разрабатывался собственный теоретический язык, устанавливались протоколы и правила клинических исследований, открывались лаборатории и институты. В этих условиях онкологическое сообщество вполне ожидаемо встречало с агрессией любое проникновение в свое поле и особенно, когда это были попытки дать универсальную теорию рака: это нарушало хрупкий баланс сил внутри формирующейся дисциплины (Patterson 1987; Clow 2001; Bollinger 2016). К началу 1980-х гг., когда западная онкология заканчивает свое оформление, связанное с установлением консенсуса в виде молекулярной парадигмы рака, стихают и научные бои (Fujimurа 1988, 1996). Тем не менее есть несколько факторов, мешающих принять это объяснение для советского кейса. Так, мы знаем, что в отличии от западных онкологий, локальные сражения в советской онкологии закончились на десятилетие раньше, уже к концу 1960-х гг.1 Однако произошло это не потому, что в СССР победила молекулярная биология - она, как раз, не играла ведущей роли в онкологии вплоть до распада Союза, уступая место полиэтиологической теории рака (Петерсон 1980; Блохин и др. 1980). Подобное расхождение ставит перед нами предположение, и это в советской онкологии каким-то образом сложилась иная конвенция, что в итоге достаточно сильно отличало советский и западные проекты онкологий. Так ли это? Теоретическая рамка: научное знание, конвенция и контекст Джоан Фуджимура, анализируя особенности конвенциональных соглашений в западных онкологиях, опирается на обширные теоретические наработки социологии и антропологии знания Г. Коллинза и К. Кнорр-Цетины, а также социологии перевода М. Каллона, Дж. Ло и Б. Латура (Fujimurа 1988, 1996). Выстроенная ею теоретическая схема позволяет увидеть, что признание за молекулярной биологией первенства в противоопухолевых исследованиях связано с двумя факторами. Первое - это успешность самой теории онкогена, а точнее, ее авторов, которые смогли в своей научной работе примирить химические, биологические, генетические и эпидемиологические исследования злокачественных опухолей. При этом они предложили не просто универсальное объяснение рака, а своего рода бриколаж (Дж. Фуджимура называет это crafting) из отдельных теоретических элементов, взятых из разных областей. Таким образом, теория онкогена - это результат не только социального процесса убеждения разных участников конвенции, но и успешного перевода (translation, по Дж. Ло) отличных друг от друга теоретических языков в один язык. Второе - это тот факт, что успех бриколажирования единой теории связан с инфраструктурой самой онкологической системы: от институтских кафедр и финансовых потоков до лабораторий. Начиная с 1970-х гг., вследствие открытия и активного внедрения громоздких томографов и дорогостоящих биохимических анализов, западные онкологические системы стали формироваться как системы высокотехнологичной диагностики и точечного дорогостоящего лечения (Там же). Фуджимура отмечает, что именно этот тренд позволил онкологическим системам обслуживать предложенную сложную теорию онкогена и так быстро адаптироваться к ее требованиям. При этом конфигурирование инфраструктуры под теорию онкогена определило и саму онкологию на многие годы вперед, создав своего рода созависимость идей (теории) и инфраструктуры. Эта теоретическая рамка позволяет Фуджимуре концентрироваться на том, как именно достигаются договоренности и переводы внутри одной дисциплины, т.е. на дескрипциях онкологической конвенции. Однако данная оптика не позволяет нам что-либо сказать об изначальных составных элементах переговоров внутри онкологии. Фуджимура лишь кратко отмечает, что до 1970-х гг. онкология представляла собой разрозненные миры, заключенные в самые разные дисциплинарные поля, и между ними шел вялотекущий диалог (Patterson 1987). Таким образом, долгая до-конвенциональная история дисциплины и ее влияние на конвенцию остаются за скобками. До сих пор не выяснен остается вопрос исходных идей и круг самих участников онкологической конвенции: кто и почему вообще участвует в переговорах? Почему одни участники и их идеи важны, а другие нет? Этот момент имеет принципиальное значение для поставленного нами вопроса, т.е. для понимания различий в конвенциях разных онкологий: почему советская и западные онкологии2 вообще могли сложиться по-разному? Это другой исходный набор идей и акторов? Учитывая этот аспект, который мешает использовать готовую теоретическую схему для советского кейса, я предлагаю на первом шаге анализа обратиться к тому, что в сильной программе социологии знания называется контекстом производства научного знания: например, к культуре или идеологии (Shapin 1982; Блур 2002). Таким образом, отдельные идеи, социальные статусы участников и их профессиональные траектории становятся коррелятами производства научного знания, их можно не только описать, но и сделать связи между ними видимыми. При этом, аналогично концептуальной рамке Дж. Фуджимуры, я смотрю на онкологию как на структуру с двумя переменными: 1) состоящую из коллективных представлений (теорий о раке, методов и практик лечения, направлений исследований) и 2) институционального / материального ее оформления в виде инфраструктуры, которая является социоматериальным воплощением идей, что такое рак и как его лечить. При этом инфраструктура , понимаемая очень прямо, как материальный субстрат, обладает метакоммуникативной функцией, а значит, может конституировать / создавать / упорядочивать различные режимы взаимодействия акторов (Star 2004; Larkin 2013; Harvey, Knox 2015). Подобное усиление этой части ее теоретической схемы выглядит вполне логично, особенно с учетом того, что Джоан Фуджимура пишет свои тексты в девяностые годы, до активного теоретического осмысления роли инфраструктур в социальной жизни. Очевидно, что сейчас ее работа имела бы больше шансов быть смещенной в сторону материальности и того, как инфраструктура влияет на научное знание3. Обобщая вышесказанное, я попробую описывать не то, как происходил процесс переговоров внутри советской онкологии, а то: 1) что являлось основанием для формирования системы коллективных (научных) представлений о раке; 2) как это было реализовано в инфраструктуре. В итоге я попробую сделать вывод о том, какие последствия это имело и в чем именно заключаются различия западного и советского проектов онкологии. Источники и методы В качестве двух исследовательских объектов мной выбраны: 1) эпистемологическая программа советской онкологии. Этот фокус позволит сделать выводы об общих границах советской науки и онкологии в частности, понять уровень конкуренции между идеями и теориями; 2) логика формирования основных научных институций и профессиональных карьер в советской онкологии указанного периода. Этот шаг даст понять, как и почему мог оформиться ковенант. При этом оба шага я предлагаю рассматривать хронологически: первый этап формирования советской онкологии можно назвать «до-институциональным», это 1917-1945 гг., когда наука об опухолях была представлена отдельными персоналиями и была включена в общую систему здравоохранения; второй этап - это уже создание онкологической службы, связанное с Постановлением Правительства СССР от 30.04.1945 «Об организации Государственной онкологической службы в СССР» и по конец 1960-х гг., когда стихли основные научные сражения. Для реализации этих шагов мной будет проанализирована специализированная медицинская и научно-популярная литература по вопросам онкологии, издававшаяся в СССР в 1930-1960-е гг.; сборники и тезисы онкологических конференций; мемуары и воспоминания советских онкологов; данные из вторичных источников, в том числе доступная официальная статистика; история и хронология создания основных онкологических институций, а также архивные материалы (ГАРФ). Диалектический материализм как эпистемологическая программа советской науки Советская наука, как, впрочем, и другие стороны советской жизни, испытывала сильное влияние марксистской идеологии. Многими исследователями это влияние сводится к политическому давлению и рассматривается в негативном ключе (Eremeeva 1995; Josephson 1996; Ivanov 2002). Наиболее известные факты такого давления - это гонения на генетику в 1930-е гг., запрет на выезд в Великобританию известного физика Петра Капицы, агрессивный протекционизм крайне спорных теорий вроде «мичуринской агрономии» Трофима Лысенко или «превращение из неживого в живое» биолога Ольги Лепешинской. Согласно этому взгляду на бытование знания в СССР уже после смерти Иосифа Сталина и развенчания культа личности политическое давление на советскую науку постепенно снижалось и в итоге перешло в область поверхностной цензуры. В любом случае влияние контекста и идей советского общества на науку должно рассматриваться в ключе агрессивного протекционизма или репрессий. Другая часть исследователей полагает, что влияние идеологии не может быть сведено исключительно к цензуре. Связь идеологии и науки должна рассматриваться шире, в том числе на эпистемологическом уровне (Bronshtein, McCutcheon 1995; Колчинский 1997). Мы должны учитывать действительные попытки инкорпорирования марксистской философии в тело различных дисциплин, особенно когда они были успешны. Так, элементы диалектического материализма заметны в советской эволюционной биологии, космонавтике, математике, квантовой физике (Деборин 1926; Местергази 1930). Влияние идеологии было значительным не только на ранних этапах советской науки, но на всем протяжении существования СССР: даже с началом «оттепели» и развенчанием культа личности многие рядовые советские ученые продолжали искренне верить в принципы марксистской науки, стараясь применять их на практике. Таким образом, советскую науку можно и нужно понимать только учитывая особенности влияния марксистской философии (а точнее диалектического материализма) на самих ученых и на принципы организационного устройства советской академии. Эту точку зрения на связь науки и философии в СССР отстаивает, в том числе, Лорен Грэхэм, крупнейший историк советской науки (Грэхэм 1991). Вторая точка зрения выглядит убедительнее для нашего объекта рассмотрения, особенно если учитывать тот факт, что диалектический материализм и медицина являлись отдельной темой активного осмысления для советских идеологов (Левит 1926). Так, в 1920-е гг. на базе МГУ был сформирован Кружок врачей-материалистов, успешно работавший почти целое десятилетие; из печати регулярно выходили книги вроде «В борьбе за диалектический материализм в медицине» Я. Лифшица (1931) или «К вопросу о механическом и диалектическом материализме в естествознании и медицине» Л. Боголеповой (1927), а основатель советского здравоохранения Николай Семашко был членом марксистских кружков с 1893 г. Принимая этот взгляд на советскую науку, мы признаем, что онкология в СССР, по крайне мере на ранних этапах своего становления, должна была также испытывать влияние диалектического материализма, что, очевидно, достаточно сильно отличало ее от западных онкологий. В чем это могло выражаться и какие последствия иметь? Советская онкология в 1920-1940-е гг.: понимать и предотвращать рак Я не буду пересказывать программу диалектического материализма, скажу лишь то, что диалектический материализм принято еще называть нередукционистским материализмом. Это значит, что: 1) в основе всего лежит материя; 2) она многомерна, разворачивается и взаимодействует на нескольких уровнях бытия (физическая, химическая, механическая, биологическая, социальная, по Ф. Энгельсу). Иными словами, все состоит из материи, но материя не сводима к одному уровню ее понимания (Грэхэм 1991). Применительно к физиологии человека это означает рассмотрение человеческого организма с холистических позиций, как единство физического, психического и социального. Согласно этому взгляду любые недуги являются следствием взаимодействия организма со средой. Сама по себе болезнь не может быть локализована, она связана со всей системой жизнедеятельности человека. Чем лучше среда и конкретные условия жизни человека, тем меньше он болеет (Шепуто 1961; Царегородцев 1966). Именно на этом и строилась советская медицина. Для нее было важно понимать причину появления болезни и бороться с ней, а не со следствием, т. е. с проявлением заболевания (Давыдовский 1962). Как отмечал Зиновий Соловьев, заместитель наркома здравоохранения, «человек - это не только биологическое существо, но существо, которое живет в особых условиях, отличных от условий жизни животных, - существо общественное. Медицинская школа должна поэтому установить стык между биологией и социальными науками. Из школы будущий врач должен выйти умеющим научно-материалистически, марксистски мыслить и правильно понимать социальные закономерности, действующие в человеческом обществе. Но этого еще недостаточно. Нам важно иметь врача - практического деятеля, который в состоянии брать больного и окружающую его среду в качестве объекта для организованного воздействия» (Соловьев 1956). При таком взгляде на болезнь роль врача и характер советской медицины были достаточно специфическими. В 1924 г. Н. А. Семашко на V Всероссийском съезде здравотделов хорошо описывал задачи врача следующим образом: «Место врача-ремесленника, умеющего орудовать только молоточком, займет врач с широким социальным кругозором, умеющий в каждом больном находить социально-этиологические моменты, участник социальной терапии» (Семашко 1954). На структурном уровне это означало следующее: основная роль в медицинской системе отводилась диспансеризации, профилактике, пропаганде здорового образа жизни и гигиены, само лечение было скорее радикальным. Советская медицина - это, прежде всего, медицина профилактики (Davis 1989; Ryan 1990; Rowland, Telyukov 1991; Farmer, Goodman, Baldwin 1992). Собственно, марксистский взгляд на человека и болезнь был инкорпорирован не только в широкую профилактическую семашкинскую модель здравоохранения, но и в первые субстраты проекта советской онкологии. Причины появления опухолей были аналогичны причинам появлений любых других болезней человека (Давыдовский 1962; Блохин 1967, 1971). Злокачественные опухоли имели средовое объяснение и коренились в сложном взаимодействии человека и окружающего мира. Николай Петров закрепил этот принцип в самом определении опухоли, которая была концептуализирована как «дистрофическая пролиферативная реакция организма на различные вредные факторы, внешние и внутренние, стойко нарушившие состав и строение тканей клеток и изменившие их обмен» (Петерсон 1980). Среди основных причин появления опухолей назывались привычки питания, условия работы и вредное производство, бытовая гигиена, вирусы и т.д. Например, считалось, что высокий уровень заболевания раком желудка в СССР вызван большим удельным весом маринованных и соленых продуктов в питании советских граждан и даже употреблением кипятка в случае северных народов; рак легких связывался с вредным производством (Заридзе, Басаева 1990; Блохин 1967, 1971). На основе средовой парадигмы Леоном Шабадом была сформулирована теория «предраковых заболеваний», согласно которой раку всегда предшествуют различные хронические заболевания, вызываемые долгим и последовательным раздражением ткани, т.е. все той же средой: например, язва перетекала в рак желудка, а хронические проблемы с желчью приводили к раку печени (Шабад 1941). Это существенно отличало советскую онкологию от западных онкологий этого времени, в которых, конечно, присутствовали подобные объяснения раковых заболеваний, но они не исходили из эпистемологической программы и не были закреплены как единственно верные, а рассматривались среди прочих теорий. Средовое понимание причин опухолей легло в основание главного советского инструмента борьбы с ними: это противораковая пропаганда, направленная на изменение бытовых привычек (Петерсон 1980). Этот принцип был закреплен на первом совещании при Наркомздраве РСФСР по борьбе против раковых заболеваний в 1925 г. Начиная с 1930-х гг. активно издается научно-популярная литература о раке, публикуются и распространяются плакаты и газеты, действует Всесоюзное онкологическое общество. Среди наиболее значимых материалов, предназначенных для массового распространения, можно отметить специальный номер журнала «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи», изданный в 1929 г. количеством более 70 000 экземпляров, а также плакаты «Рак излечим, если взяться за него в самом начале» и брошюры Николая Петрова «Что надо знать о раке» (1932) и «Простое слово о раке» (1932). В Москве и Ленинграде ежегодно проводилось недели борьбы против рака в рамках которых устраивались лекции, выставки и показы диафильмов, Так, «только в Ленинграде во время недели было прочитано врачами более 1 500 лекций, которые прослушали 120 000 человек. Большое число лекций было прочитано врачами по радио» (Блохин и др. 1980). Можно заключить, что масштабы просветительской деятельности были действительно крайне широки. Таким образом, диалектический материализм, концептуально выраженный в многомерном влиянии материи на причины заболевания, лег в основу советской онкологии уже на раннем этапе ее формирования (1920-1940-е гг.), закрепился в виде основного набора теорий, например, таких как предрак или химический канцерогенез, и определил основные направления борьбы с раком: профилактика и просвещение. Советская онкология в 1920-1940-е гг.: лечить и исследовать рак Влияние диалектического материализма можно найти не только в достаточно общих принципах объяснения причин появления опухолей и их предотвращении, но и в практиках исследования и лечения рака. Главной задачей исследовательской программы советской онкологии первого этапа становится доказательство первоочередного воздействия среды на причину появления и развития опухолей. В 1927 г. Н. Петров открывает Научно-исследовательский институт онкологии на базе Ленинградской многопрофильной больницы им. И.И. Мечникова. В 1934 г. на базе этого же института открыто новое отделение на 50 коек для изучения роли предраковых заболеваний. Это было первое в мире стационарное отделение профилактики опухолей, занимающееся изучением именно предопухолевых состояний, методов их профилактики и лечения (Блохин 1967). В 1938 г. на базе сухумского обезьяньего питомника организуется лаборатория экспериментального рака, где впервые в мире под руководством все того же Н. Петрова индуцируют опухоли у обезьян: при этом еще ранее, в 1920-е гг. Л. Шабад уже индуцировал опухоли у мышей с помощью каменноугольной смолы. Большое значение для экспериментальной онкологии в изучении злокачественных опухолей внесли исследования А. Кронтовского (1927) и А. Тимофеевского, которые доказали изменчивость опухоли в зависимости от условий ее существования (Петерсон 1980; Гнатышак 1975; ГАРФ. Д. 144, 147, 149). Лечение опухолей подразумевало не один какой-то конкретный метод, а целую систему лечебных практик, учитывающих разный уровень бытия опухоли. При лечении злокачественных опухолей надо исходить из того, что терапия может быть только комплексной - стандартные методы должны дополняться методами, ведущими к усилению компенсаторной и защитной функции организма. В 1920- 1930-е гг. - это, прежде всего, радикальная хирургия и радиотерапия, дополненные диетами и здоровым образом жизни. Подобный подход соответствовал марксистской холистической концепции человека и делал онкологию не только полиэтиологической в объяснении рака, но и многоуровневой в лечении (Блохин и др. 1980; Петерсон 1980; ГАРФ. Д. 144, 147, 149). Однако стоит признать, что онкология на ранних этапах первично была связана все-таки именно с хирургией. Если мы обратимся к профессиональным траекториям основателей советской онкологии, то увидим, что врачи-онкологи - это всегда врачи-хирурги: например, П. Герцен и Н. Петров. Хирурги были теми, кто направлял развитие онкологии, в том числе и в методах познания опухолей: раковые заболевания представлялись как болезни тканей, познаваемые также через патологические / морфологические исследования. Поэтому в научно-исследова-тельском институте онкологии, открытом Н. Петровым, основная работа велась по изучению этиологии и па-4 тогенеза опухолей . Все эти элементы прошли свою первичную сборку в первых попытках организации медицинского онкологического обслуживания (Лотова 1979). В 1931 г. в Харькове проходил Первый Всесоюзный съезд онкологов, на котором было предложено создать государственную онкологическую программу на принципах диспансерного наблюдения за раковыми больными. По результатам съезда был издан Приказ от 5 мая 1935 г. «Об организации борьбы с раковыми заболеваниями», который предписывал открытие онкологические поликлиник в Москве, Ленинграде, Воронеже, Новосибирске, Свердловске и небольших отделений в 52 региональных центрах (Труды 1936). Обобщая интенции раннего этапа формирования советской онкологии (1920-1940-е гг.), можно сказать, что эпистемологической базой для социалистической онкологии стала программа диалектического материализма: рак конструировался как следствие влияния среды, его лечение было редуцировано до радикальных, но дешевых методов лечения (хирургии и лучевой терапии), основной упор был сделан на пропаганду и профилактику. Советская онкология в 1945-1960-х гг.: радикальная материализация марксистского понимания рака Системный марксистский взгляд на природу злокачественных опухолей и способы их лечения в итоге нашел воплощение в интенсивной институциональной организации онкологической системы уже после Второй мировой войны вместе с принятием Постановления Правительства СССР от 30.04.1945 «Об организации Государственной онкологической службы в СССР». Согласно этому распоряжению все советские республики в ближайшие годы должна была охватить обширная сеть онкологических учреждений, аналогично общей системе медицинской диспансеризации и тому принципу, что был сформирован еще в 1930-е гг. Собственно, эта программа, как и другие масштабные проекты Советского государства, была достаточно быстро реализована. Если в 1940 г. на весь СССР было 26 онкодиспансеров, то к 1970 г. - уже 273; за это же время число онкокабинетов увеличилось с 117 до 3 200 соответственно, а онкологических коек - с 1,7 до 46,5 тыс. (Петерсон 1980). Обязательная диагностика и регистрация онкологических больных на всей территории СССР была введена в 1953 г. Согласно приказу Министра здравоохранения СССР № 19 от 25.01.1956 «О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению и усилению научных исследований в области онкологии» вводились массовые профилактические и индивидуальные осмотры населения (всех женщин старше 30 лет и всех мужчин старше 35 лет) с последующей диспансеризацией и лечением выявленных больных. Благодаря этой инфраструктуре профилактическими осмотрами были ежегодно охвачены до 30 млн чел. (Глебова 1968). Американские коллеги, постоянно посещавшие СССР для обмена опытом в онкологии, удивлялись размаху инфраструктуры диагностики (Hospital Services 1963). Подобную обширную сеть диагностики не удалось создать ни одной стране мира (Ryan 1990; Rowland, Telyukov 1991). Вовлечение населения в активную онкологическую диспансеризацию (1950-е гг.) было сопряжено с также не имевшей аналогов активной санитарно-просветительской деятельностью о лечении рака (Чис-сов и др. 1998; Блохин и др. 1980). Центральным НИИ санитарного просвещения в 1953 г. были разработаны «Инструктивно-методические указания по санитарному просвещению в области профилактики рака» (Орловский 1962). Просвещение населения было предусмотрено в рамках профессиональной деятельности младшей медицинской сестры, а методически оформлено в многочисленных учебных пособиях по онкологии (Глебова, Вирин 1982). Н. Блохин пишет: «Стройная система противораковой борьбы, существующая в нашей стране, оправдала себя и принесла ощутимые результаты в деле диагностики и лечения онкологических заболеваний» (Блохин 1971). Именно благодаря такому взгляду на болезнь противораковая пропаганда была частью системы здравоохранения, а не общественным независимым движением, как, например, Cancer society в США. Продолжали развиваться и исследования рака, направленные на первоочередное доказательство влияния среды на раковые заболевания. В 1958 г. в Абхазии на месте обезьяньего питомника был основан уже целый Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, ставший в итоге главной советской научной базой для доказательства теории средового канцерогенеза. В 1950-е гг. ведущий специалист в этой области Леон Шабад доказывает наличие канцерогенов в промышленных выбросах. В ленинградском институте онкологии был впервые применен выездной экспедиционный метод анализа вредных воздействий канцерогенов в зависимости от условий проживания, труда, быта и характера питания (Шабад 1973). Для изучения эпидемиологического основания онкологических заболеваний советские онкологи активно организовывали этнографические экспедиции: за период с 1950 по 1967 г. Академия медицинских наук СССР провела более 40 региональных экспедиций, отразив в них географические особенности опухолей (Блохин 1967: 14). По результатам этих экспедиций в 1960 г. на Всесоюзном совещании онкологов по вопросам организации онкологической помощи и краевым особенностям распространения рака Л. Орловский выступил с докладом «Пропаганда гигиенических знаний с учетом краевых особенностей распространения предопухолевых заболеваний» (Блохин и др. 1980; ГАРФ. Д. 144, 147, 149). Лечение рака оставалось таким же, только к радикальной хирургии и лучевой терапии, начиная с 1960-х гг., добавляется химиотерапия. Институализация советской онкологии осуществлялась главным образом силами хирургов-онкологов. Так, с 1952 г. неформальным лидером советской онкологии становится пластический хирург Николай Блохин. Старший коллега Н. Блохина и сподвижник Н. Петрова Александр Савицкий, занимавший сразу несколько высоких должностей (начальник Управления противораковых учреждений, главный онколог Минздрава СССР, председатель Всесоюзного научного общества онкологов, созданного по его инициативе в 1955 г.), был также хирургом и членом правления Всесоюзного научного общества хирургов. При этом ближайшие из его окружения ведущие онкологи туже являлись хирургами, как и вся верхушка Академии медицинских наук и Министерства здравоохранения СССР. Хирурги стояли не просто во главе советской онкологии как управленцы, но имели свой взгляд на то, какой должна быть наука о раке. Тканевая парадигма, основная для хирургического типа мышления, стала и основным способом понимания злокачественных заболеваний в советской онкологии. Н. Блохин, который с 1952 г. занимался организацией онкологического центра, назвал его вначале Институтом экспериментальной патологии и терапии рака Академии медицинских наук СССР. Другие онкологические институты СССР были также подчинены негласному лидерству хирургов: например, ленинградский Научноисследовательский институт онкологии занимался двумя основными проблемами - канцерогенезом и хирургией злокачественных опухолей. Тремя основными научно-практическими проблемами института были в те годы «Диагностика злокачественных опухолей», «Клиника, хирургическое и комплексное лечение злокачественных опухолей» и «Организация противораковой борьбы». В это время появляются первые профессиональные институции: например, с 1955 г. в Ленинграде издается ежемесячный научный журнал «Вопросы онкологии» под редакцией хирурга Н. Петрова. В состав редакционной коллегии входят эпидемиолог А.В. Чаклин, уже упомянутый Л. Шабад, патологоанатом М.Ф. Глазунов, хирурги А. Серебров и А. Раков (Блохин и др. 1980; Чиссов и др. 1998). Хирурги играли и другую не менее важную роль. Дело в том, что в 1940-1960-х гг. еще не было сформулировано четких практик установления критериев научного и ненаучного в мировой онкологии: не было методик и протоколов клинических испытаний. В этом плане практики делания онкологии оставались скорее конвенциональными. Верификация научной теории / метода проходила не через чистый эксперимент или даже соотношение с парадигмой, а через конвенцию с онкологическим сообществом. Именно хирурги являлись той элитной группой, которая устанавливала правила игры в онкологии, а также теми, кто выносит суждение о научности / ненаучности знания в онкологии в формате медицинских комиссий и клинических испытаний. Николай Кременцов, детально изучавший научные конфликты в советской онкологии, особо отмечает, что ни биохимики, ни практикующие радиологи к научной экспертизе новых методов не привлекались (Кременцов 2004). Таким образом, советская онкологическая конвенция сформировалась как сохранение паритета между различными дисциплинами вместе с негласным лидерством хирургии. С одной стороны, необходимость междисциплинарного баланса была вполне адекватна требованиям диалектического материализма, с другой стороны, позволяла онкологии существовать как крупному зонтичному бренду для самых разных исследований с соблюдением иерархии. Таким образом, советская онкология на своем втором этапе развития (1940-1960-е гг.) продолжила ранее начатые интенции и закрепила их в формальном поле: в виде научных институций, профессиональных статусов, основных теорий и направлений исследований и, конечно, в виде активного строительства диагностической и профилактической инфраструктуры. Вместо заключения: множественные онкологии в ловушке инфраструктур Описанная контекстуальная история становления онкологии в СССР демонстрирует ряд интересных и весьма специфических моментов, отличающих ее от западных моделей. Во-первых, это влияние диалектического материализма, который возвел общие смысловые границы для всей советской онкологии: это причины болезни, методы и инструменты лечения и предотвращения заболевания, а также приоритетные направления исследований. Можно сказать, что благодаря эпистемологической программе диалектического материализма советская онкология была достаточно единой, конвенциональной уже на первом этапе своего становления, в 1920-1930-е гг. Во-вторых, следствием быстрого установления ковенанта (и самого характера диамата) стало то, что в СССР быстро приступили к созданию самой национальной системы. За несколько десятилетий в СССР была создана не имеющая аналогов в мире трехчастная инфраструктура: профилактики, диагностики, просвещения. Если западные онкологии в 1940- 1950-е гг. только робко развивались, нащупывая потенциальные возможности и открывая первые институции, то советская онкология уже активно реализовывалась. Это подтверждает и то восхищение, с которым западные коллеги воспринимали строительство в СССР диспансерной инфраструктуры и ее размах. В-третьих, это активное участие хирургического сообщества в формировании проекта советской онкологии. С одной стороны, хирургия была основным методом лечения того времени; она была бюд-жетна и проста для масштабирования во всесоюзную онкологическую систему. С другой стороны, хирурги не только были врачами, но и управляющими менеджерами советского онкологического проекта, определяя основные направления исследований и практики. Очевидно, что это также имело серьезное основание для конвенции. Эти три пункта достаточно существенно отличают траектории развития советской онкологии и западных ее моделей. Если западные онкологии - это поздний проект, это онкология молекулярной биологии с высокотехнологичной и точечной диагностикой (МРТ, КТ и биохимические анализы) и таким же точечным лечением, то советская онкология - это полиэтиологическая средовая теория рака, обширная практика диагностических осмотров и радикальное лечение; проект, получивший быстрое развитие и становление. Однако есть и то, что объединяет оба проекта. Это достаточно сильная связь систем с материальной средой: клинической, исследовательской и диагностической инфраструктурой. Если, как отмечает Джоан Фуджиму-ра, западные онкологии попали в ловушку инфраструктуры в 1980-е гг., что и определило ее развитие на следующие десятилетия, то советская онкология вполне логично увязла в своем материальном субстрате еще в 1940-1950-е гг. Диалектический материализм, с размахом воплощенный в громоздкой инфраструктуре, сделал советскую онкологию нечувствительной к изменениям: в 1970-е гг. она не смогла отвечать на вызовы5 и осталась в рамках заложенного ранее пути и в какой-то степени отсталой. Эти наблюдения возвращают нас к более широкому кругу проблем: например, к вопросу о понимании развития советской цивилизации вообще. Одной из центральных дискуссионных проблем для историков, изучающих советское общество, является вопрос уникальности опыта строительства социалистического государства. Часть историков полагает, что советский опыт можно интерпретировать как достаточно архаичный, наследующий много черт аграрного и традиционного общества и что в нем нет ничего, что сближало бы его с Глобальным Севером. Другая же часть исследователей полагает, что советский проект вовсе не архаичен, а является своего рода альтернативным проектом модерна6. В этом фокусе, например, такие проявления модерности, как наука и технологии, имели подобный исходный набор переменных, как и западные проекты модерна, однако сборка этих элементов выражена в других формах. Собственно, учитывая первые и весьма общие описания проекта советской онкологии, можно сказать, что к одному из таких проявлений множественной или альтернативной модерности следует отнести и советскую онкологию как пример множественной онкологии. Онкология в СССР, имея одинаковые наборы переменных, следуя общей традиции и правилам производства знания, все же создала что-то совсем другое, отличное от западной онкологии. Проект советской онкологии, в логике своего развития, следовал за другими советскими проектами альтернативного модерна. Стивен Коткин достаточно хорошо показывает, как советский модерн, оказавшись в авангарде мировых изменений в 1920-е гг., в 60-х демонстрирует уже обратную тенденцию, скатываясь в архаику, становясь не модерном, а традицией (Kotkin 2000). В этом фокусе проект советской онкологии является как раз таким примером советской модерности: онкологическая система первой в истории социалистической страны стартовала слишком амбициозно и стремительно, а в итоге увязла в собственной неподвижной материальности, что в итоге и привело к ее стагнации.
Ключевые слова
инфраструктура,
советская онкология,
рак,
альтернативный модерн,
лечение рака в СССР,
советская медицинаАвторы
| Мохов Сергей Викторович | Институт этнологии и антропологии РАН | кандидат социологических наук, научный сотрудник, Центр медицинской антропологии | svmohov.hse@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Блохин Н.Н. Предупреждение, выявление и лечение злокачественных опухолей. М.: Знание, 1971
Блохин Н.Н. О достижениях и путях развития медицинской науки. М.: Знание, 1968
Блохин Н.Н. Современные методы диагностики злокачественных опухолей. М.: Медицина, 1967
Блохин Н.Н. Наука против рака. М.: Знание, 1964
Блохин Н.Н. Проблема борьбы против рака: Состояние и перспективы. Стенограмма публичной лекции. М.: Знание, 1956
Блохин Н., Орловский Л., Серебров А. Противораковая пропаганда. М.: Медицина, 1980. Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5/6 (35). С. 162-185. Гнатышак А.И. Учебное пособие по общей клинической онкологии. М.: Медицина, 1975
Глебова М.И. Мероприятия по профилактике рака в СССР // Материалы пленума Всесоюзного общества онкологов. Л., 1968. С. 55-58
Глебова М., Вирин И. Патронаж онкологических больных. Л.: Медицина, 1982
Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политиздат, 1991
Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине (этиология). М.: Медгиз, 1962
Деборин А.М. Энгельс и диалектика в биологии // Под знаменем марксизма. 1926. № 1- 2, 3. С. 9-10
Заридзе Д.Г., Басаева Т.А. Динамика заболеваемости отдельными формами рака в некоторых регионах СССР // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 1990. № 2. С. 3-10
Иванов А. Теория и практика хирургии. Л.: Медгиз, 1960
Кременцов Н.Л. В поисках лекарства против рака. Дело «КР». СПб.: Изд-во РХГА, 2004
Колчинский Э.И. Диалектизация биологии // Вопросы естествознания и техники. 1997. № 1. С. 38-64
Левит С.Г. Эволюционные теории в биологии и марксизм. Медицина и диалектический материализм. М.: Изд-во МГУ, 1926
Лотова Е.М. Профилактическое направление советского здравоохранения и становление диспансерного метода работы // Здравоохранение. 1979. № 2. С. 119-124
Местергази М.М. Основные проблемы органической эволюции. M.: Моск. рабочий, 1930
Орловский Л. Рак, его распознавание и лечение: (Конспект лекции). М.: Ин-т сан. просвещения М-ва здравоохранения СССР, 1962
Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980
Семашко Н.А. Избранные произведения. М.: Медицина, 1954
Соловьев 3.П. Избранные произведения. М., 1956
Труды Первого Всесоюзного съезда онкологов 8-12 июля 1931 года в Харькове. Харьков: Госмедиздат УССР, 1936
Чиссов В.И., Старинский В.В., Ковалев Б.Н., Харламова Н.Н. К истории Российской онкологии // Российский онкологический журнал. 1998. № 3. С. 71-75
Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина. М.: Медицина, 1966. Шабад Л.М. Новые данные по экспериментальному изучению рака. Л.: Медгиз, 1941. Шабад Л.М. О циркуляции канцерогенов в окружающей среде. М.: Медицина, 1973. Шепуто Л.Л. Вопросы диалектического материализма и медицина / под ред. М.А. Шамашкина. М., 1961
Bronshtein V.V., McCutcheon R.V. T. Ter-Oganezov, ideologist of Soviet astronomy // Journal for the History of Astronomy. 1995. No. 26. P. 325-348
Bollinger T.M. The Truth about Cancer: What You Need to Know about Cancer's History, Treatment, and Prevention. Hay House Inc., 2016
Clow B. Negotiating disease: power and cancer care, 1900-1950. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2001
Davis C. The Soviet health system: a national health service in a socialist society // Success and Crisis in the National Health System: a Comparative Approach / ed. by Field Mark. London: Routledge, 1989
Eremeeva A. Political repression and personality: The history of political repression against Soviet astronomers // Journal for the History of Astronomy. 1995. No. 26. P. 297-324
Farmer R., Goodman R., Baldwin R. Health care and public health in the former Soviet Union // Annual International Medicine. 1992. No. 119(4). P. 324-328
Fujimura J. Crafting science: A sociohistory of the quest for the genetics of cancer. Harvard University Press, 1996
Fujimura J. The molecular biological bandwagon in cancer research: Where social worlds meet // Social Problems. 1988. No. 35(3). P. 261-283
Josephson P. Totalitarian Science and Technology. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1996
Ivanov K. Science after Stalin: Forging a new image of Soviet science // Science in Context. 2002. No. 15. P. 317-338
Harvey P., Knox H., Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015
Hospital Services in the U.S.S.R.: Report of the U.S. Delegation // Cancer Epidemiology in the USA & USSR. 1963. Vol. 80-2044
Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 2, No. 1. P. 111-164
Larkin B. The Politics and Poetics of Infrastructure // Annual Review of Anthropology. 2013. Vol. 42:1. P. 327-343
Lowy I. Between bench and bedside: science, healing and interleukine-2 in a cancer ward. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1996
Patterson J. The Dread Disease: Cancer and Modern American Culture. Harvard University Press, 1987
Ryan M. Doctors and the State in the Soviet Union. New York: St. Martin's Press, 1990
Rowland D., Telyukov A. Soviet health care from two perspectives // Health Affairs. 1991. Vol. 10 (3). P. 71
Star S. L. Infrastructure and ethnographic practice: Working on the fringes // Scandinavian Journal of Information Systems. 2004. No. 14. P. 107-122
Shapin S. History of science and its sociological reconstructions // History of Science. 1982. No. 20. P. 157-211
Timmermann C., Toon E. Cancer Patients, Cancer Pathways. Historical and Sociological Perspectives. Palgrave Macmillan UK, 2012
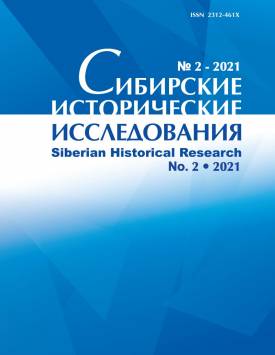

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью