Рассматривается глобальная гуманитарная дискуссия о биополитических аспектах пандемии COVID-19, развернувшейся в 2020 г. и продолжающейся в 2021 г. как внутри научного сообщества, так и на страницах популярных изданий, в блогосфере и на сетевых площадках. В центре внимания находятся социальные вызовы пандемии, а также трансформации повседневности и ограничения свободы, ставшие результатом противоэпидемического администрирования. Автор предлагает обзор идей, высказанных известными интеллектуалами, включая антропологов, социологов и философов, а также выделяет несколько основных линий описываемой дискуссии, наиболее тесно связанных с концептом биовласти, ранее сформулированным М. Фуко. Сюжетной линией обобщенной полемики представлено реагирование на радикальную критику дисциплинарных мер, предпринятую Дж. Агамбеном. Экспертные реплики при этом встраиваются в медиа-контекст, а непосредственно пандемическая реальность увязывается с более широким кругом актуальных вопросов социального порядка, обсуждение которых также обострилось на фоне пандемии COVID-19.
Biopolitical aspects of the COVID-19 pandemic: public discussion about freedom and transformation of social life.pdf Введение. «Голая жизнь» и трансформация ценностей в эпоху пандемии: pro et contra Начальными и вместе с тем наиболее эксплицитными заявлениями, в значительной степени задавшими тон дискуссии о социальноантропологической стороне пандемии COVID-19, стали тексты двух известных европейских интеллектуалов, разрабатывающих политикоэтическую и социальную проблематику: Дж. Агамбена и вступившего с ним в публичную полемическую переписку Ж.-Л. Нанси. 26 февраля 2020 г. Дж. Агамбен, сам находящийся в коронавирусной группе риска по возрасту, опубликовал заметку под заголовком «Изобретение эпидемии», в которой подверг резкой критике практику принудительного социального дистанцирования (Agamben 2020b). Письмо, равно как и ответ на него со стороны Ж.-Л. Нанси (Nancy 2020), было переведено на английский язык в публикациях Европейского журнала психоанали-за1, а вскоре перевод высказываний Агамбена и Нанси на русский язык появился в российских социальных сетях2. Этот лапидарный материал быстро разошелся в интернете и стал частью дискуссии, в том числе среди людей, далеких от академической жизни. Предпринятые в феврале 2020 г. меры государственного контроля в Италии Дж. Агамбен назвал «неистовыми, иррациональными и совершенно необоснованными». Тогда актуальным считалось заявление итальянского Национального исследовательского совета, согласно которому в стране «нет эпидемии». Апеллируя к этому заявлению и отмечая, что у большинства болеющих «инфекция провоцирует лёгкие симптомы (своего рода грипп)» и только «4% пациентов должны быть госпитализированы для интенсивной терапии», Агамбен задается вопросом: если такова реальная ситуация, то почему СМИ и власти сеют панику и провоцируют чрезвычайное положение, которое предполагает суровые ограничения и приостановку нормального функционирования условий жизни и работы граждан? За действиями власти Агамбен видел, во-первых, тенденцию использовать чрезвычайное положение как нормальную парадигму управления (декреты и указы с туманными в правовом смысле формулировками), а во-вторых, «повышенное состояние страха», которое распространилось в массовом сознании «и конвертировалось в реальную потребность создать коллективную панику». Таким образом, по мнению философа, во имя безопасности правительство запустило «порочно-извращённый круг ограничения свобод» (Agamben 2020b). На эти слова ответил Ж.-Л. Нанси. В своем письме под заголовком «Вирусное исключение» он указал на неуместность сравнений нового коронавируса с обычным гриппом, добавив, что смертность от коронавируса выше, а для борьбы с гриппом имеется вакцина, подтвердившая свою действенность. В пандемии Нанси увидел не новый предлог для введения чрезвычайных мер, а необходимость, продиктованную реалиями времени: «Техническая взаимосвязанность (различные перемещения, транспортировки, проникновение и распространение веществ) достигает ранее невиданной интенсивности, которая увеличивается вместе с ростом населения». С обрушением на человечество COVID-19 «целая цивилизация оказывается под ударом», и правительства становятся лишь вынужденными и «печальными подчинёнными» этого положения, характеризуемого своего рода «вирусным исключением» (биологическим, социальным, культурным), поэтому упрёки в адрес властей «больше походят на диверсию, чем на осмысленный анализ политической ситуации» (Nancy 2020). С развитием эпидемии в Италии и ростом числа жертв Агамбен не изменил своей точки зрения. Позже, в своем новом тексте он сравнил существующую панику с тем, что происходило в Милане в XVII в., во время чумы, описанной в «Обрученных» А. Мандзони. Тогда искали виноватых в заражении злодеев, так называемых мазунов, которые якобы намеренно мажут поверхности неким чумным ядом ради инфицирования людей. Агамбен высказал опасение по поводу новой «охоты на ведьм» и отметил нарастающую по мере внедрения практик социального дистанцирования бесчеловечность: теперь даже к близкому человеку нельзя ни приближаться, ни прикасаться, а надо соблюдать дистанцию, размер которой колеблется от одного указания к другому. «Наш ближний отменен», - резюмировал философ (Agamben 2020a). Материал из романа классика итальянской литературы А. Мандзони использоваться и в публикациях в области медицинской антропологии (Бахматова 2020). Примечательно, что к историческому опыту чумы обращаются не только противники «жестких мер», но и те, кто считает их оправданными. Так, историк А. Ли поднимает тему макиавеллизма: мыслитель и политик Н. Макиавелли пережил несколько вспышек чумы и, по мнению автора статьи, осознавал, что именно в это время «свобода была в наибольшей опасности». Хотя честность, щедрость и сострадание со стороны знати могут быть похвальными, особенно когда люди страдают, Макиавелли было очевидно, что в чрезвычайных обстоятельствах пандемии подобные добродетели рискуют вызвать панику, разорить казну и спровоцировать инакомыслие, а вовсе не способствовать приостановке распространения инфекции. Исходя из этих соображений, Макиавелли предлагал властям Флорентийской Республики стараться не быть особенно добродетельными, усилить цензуру, свести хозяйственные расходы к минимуму и использовать солдат для подавления недовольств. Поскольку многие люди недостаточно напуганы чумой, чтобы оставаться дома, или слишком эгоистичны, чтобы ограничить себя во имя общего блага, их следует подавлять и наказывать, советовал Макиавелли. Автор статьи замечает, что эти идеи на первый взгляд могут показаться циничными и бессердечными, но они все еще полезны, поскольку через них можно увидеть и осознать наши собственные реакции - так историческое прошлое помогает в поиске новых решений (Lee 2020). И хотя коронавирус не похож на чуму, а наше общество значимо отличается от общества XVII в., нынешняя эпидемическая логика перекликается с идеями Макиавелли. Такого рода созвучия и пересечения делают пандемию COVID-19 не только предметом исторических сопоставлений, но и предметом биополитики, выделяющей европейские эпидемии как события, сформировавшие определенные социальные ответы и повлиявшие на становление различных политических режимов. Оперируя биполитической риторикой, в июне 2020 г. в своем очередном материале Дж. Агамбен подверг критике дистанционное образование, «часть технологического варварства», когда устраняются жизненные ощущения, а человеческое внимание «заковывается в призрачный экран». Десятивековой традиции студенчества, а значит, и европейской традиции университета, по мнению Агамбена, приходит конец (Agamben 2020d). В другой своей статье Дж. Агамбен рассуждает о захватывающей человеческую повседневность медикализации, в которой видит отчетливые религиозные черты: медицина стала новой системой верований, сочетающей квазихристианскую эсхатологию с перманентным кризисом капитализма (Agamben 2020c). Базисом критических реплик Агамбена является представление о том, что в своей регулятивной противоэпидемической деятельности правительства низводят человеческое общество к поощрению «голой жизни», концепцию которой философ развивал ранее: «голая жизнь» представляет собой биологическое существование, состояние вне права, границу которого она, тем не менее, очерчивает, в то время как само право устанавливается политической властью суверена, растущей из возможности вводить чрезвычайное положение (Agamben 1998). В эпоху коронавируса, считает Агамбен, существование как таковое становится важнее, нежели существование свободное и достойное, а качество жизни нивелируется фактом жизни, выживанием. Эта идея стала основой для широкой протестной риторики: кто-то сознательно апеллирует к Агамбену, а кто-то созвучен его аргументации в самостоятельных суждениях. Родственное агамбеновской критике видение, к примеру, развивает германский специалист в области политической философии и цифрового развития Й.Ф. Фридрих, вопрошающий: «Какой смысл продолжать жить, если мы больше не можем делать то, что придает смысл нашей продолжающейся жизни?» (Friedrich 2021). Подобные высказывания наталкиваются на «критику слева»: так, греческий философ, сторонник марксизма и «коммунистической биополитики» П. Сотирис уличает агамбеновскую позицию в «индивидуалистической панике», в то время как ситуация пандемии требует, по его мнению, не только ограничения личных свобод и повышения социальной сплоченности, но и принудительного перераспределения ресурсов из частного сектора в пользу систем общественного здравоохранения (Sotiris 2020). Профессор Университета Вестминстера Д. Чэнлдер, разбирая критику эпидемических ограничений, не соглашается с тем, что реализация запретов стала результатом авторитарных устремлений властей. Власти, подчеркивает Чэндлер, «сами, как правило, не были подготовлены к кризису и не успевали оперативно реагировать», им приходилось не столько руководить и инициировать новые ограничения, сколько отвечать на давление медиа, требующих введения ограничительных мер (Чэндлер 2020). Тема медиакратии и давления СМИ в ситуации пандемии рассматривается и в более узких исследованиях. Так, опираясь на результаты работы антропологов и социологов, наблюдавших за кризисами общественного здравоохранения (например, во время вспышки Эболы и H1N1) и другими коллективными травмами, специалисты находят в работе СМИ риски, ведущие к повышению тревожности, усилению стрессовых реакций, перегрузке медицинских учреждений, неуместному поведению и сомнительным решениям в области защиты здоровья (Garfin, Silver, Holman 2020). Говоря об общественных риториках, которые формируются в медиа и захватывают властные уровни, стоит отметить характерную для переживания пандемии COVID-19 милитаристскую образность, ярким примером которой стало заявление Э. Макрона о войне с коронавирусом: французский президент отправился «на фронт», чтобы проверить состояние «передовых отрядов», т.е. медицинских команд (Макрон о коронавирусе 2020). Глорификация врачей, уподобление вируса военному врагу, сравнение режимов самоизоляции и дистанцирования с военной мобилизацией в условиях вражеского вторжения - черты, характерные для пандемического дискурса в самых разных странах. Развивая метафору «военного положения», А. Вилейкис и П. Степанцов отмечают, что «в условиях активных боевых действий, войны с эпидемией явно выражен запрос на государство иного типа - на государство общественного договора по модели Т. Гоббса», которое может стать внешней стороной, контролирующей выполнение конвенций по соблюдению санитарных мер, само не будучи участником договора (Вилейкис, Степанцов 2020). Действительно ли пандемия провоцирует возращение гоббсовского государства-левиафана, призванного теперь руководить войной с вирусом? Теоретизируя пандемическую ситуацию в контексте социальнофилософских идей М. Фуко, Ж. Бодрийяра и Б. Латура, вышеупомянутый Д. Чэндлер отмечает, что агамбеновское разделение между биосом (bios), общественной и биографичной жизнью гражданина и личности, и зои (zoé), безличной биологической или животной «голой жизнью», «является сомнительной и устаревшей концепцией человеческой исключительности». Согласно Чэндлеру подход к пандемической «войне» с позиций антропоцентрического авторитаризма не даст искомых ответов на новые вызовы, и вместо этого необходимо искать возможности, альтернативные традиционным дискурсам биополитики. Впрочем, замечает Д. Чэндлер, к этим возможностям подводит сам же Агамбен, когда пишет, что война с коронавирусом как «с невидимым врагом, который может таиться в каждом человеке», является, по сути, гражданской войной, ведь «враг - не снаружи, он внутри нас». Если враги - сами люди, ставшие одновременно и угрозой, и субъектами безопасности, то «политическая борьба с коронавирусом неизбежно будет иметь авторитарные последствия, независимо от формальных политических предпочтений соответствующих правительств» (Чэндлер 2020). Как явствует из этой дискуссии, люди поставлены перед необходимостью формировать социальную жизнь по-новому, и поэтому пандемия COVID-19 не исчерпывается медицинской или экономической проблематикой, но обязательно вовлекает граждан в политические процессы (Zizek 2020). Биополитика коронавируса: вспомнить Фуко Дискуссия о свободе и ограничениях во время пандемии закономерным образом включила в себя биополитические концепции М. Фуко, предложенные им в 1970-х гг. в рамках эпистемологического исследования либерализма и неолиберализма, когда были открыты механизмы властного регулирования жизненных процессов (Foucault 1978: 135- 145; Фуко 2005б: 253-277; Фуко 2010). Большой вклад в дальнейшее развитие концепции биовласти внесли Дж. Агамбен с его генеалогией чрезвычайного положения и суверенной власти (Agamben 1998) и А. Мбембе, развивший некрополитику - биополитическую концепцию контроля над смертностью (Mbembe 2019). В настоящее время подходы Фуко активно используются в изучении культуры и общества, в том числе в медицинской антропологии и социологии медицины (Petersen, Bunton 1997; Samuelsen, Vibeke 2004; Farrell, Porter Lillis 2013; Михель 2019). Сегодня люди словно бы исполняют «карикатурную роль объекта биополитики, вышедшего прямо из лекций М. Фуко», подмечает Б. Латур. Это происходит в атмосфере, когда «воскресло» государство статистики, а граждане «остаются взаперти в своих квартирах, в то время как снаружи утверждается полицейская власть, а на пустых улицах слышны лишь сигналы машин скорой помощи» (Latour 2020). Не удивительно, что биополитические подходы вообще и фуколдианские в частности составили контур гуманитарной дискуссии о пандемии COVID-19, причем не только в индексируемых научных изданиях, но и в СМИ, общественно-политических блогах и на научно-популярных платформах. Такие публикации не ограничиваются концептуализацией настоящей пандемии в контексте биополитики, биовласти и дисциплинарного общества. Значимыми отправными точками стали также выделенные М. Фуко эпидемические социально-политические модели: модель «исключения прокаженных» и модель «включения зачумленных», сформировавшиеся в Европе во время соответствующих бедствий (Фуко 2005а: 66-76; Фуко 1999: 285-336). По мнению М. Фуко, в XVIII в., в начале эпохи модерна, выработался дисциплинарный механизм предотвращения распространения инфекции, заключающийся в контроле за перемещением человеческих тел, субъектов эпидемической угрозы. Если борьба с проказой требовала исключения прокаженного из общества, то борьба с чумой поставила в центр дисциплинарного механизма не только её жертвы, но и целиком все население. В обществе модерна возобладала так называемая дисциплинарная модель власти, управляющая не посредством «исключения девиантов» из общества, а посредством их включения в общую социальную «продуктивность тел». Это сопутствовало появлению и распространению строгого трудового и политического администрирования, объявшего европейские общества в XVII-XVIII вв. (Фуко 1999). Политический инструментарий биовласти, согласно Фуко, чрезвычайно широк: изучение психиатрических практик и социальной истории страха позволяют французскому мыслителю выделить поворотные исторические моменты, которые привели к появлению в Европе убеждений, породивших возможности ограничения свободы для тех элементов общества, которые маркируются как «другие» или «опасные» - во имя всеобщего благосостояния и безопасности (Фуко 1997; Фуко 1999; Meneses 2020). Подобная оптика позволяет на эпистемологическом уровне обосновывать все чаще звучащие заявления о различных формах «атаки на демократию» (Jipson, Jitheesh 2020), которые предпринимают правительства тех или иных стран в эпоху пандемии. Востребованность подходов М. Фуко для анализа создавшейся ситуации даже явила этого французского мыслителя в виде куклы, которая в одном из видеороликов говорит, что, хотя вирус для кукол и не опасен, кукольный Фуко все же носит маску в знак солидарности с людьми и в качестве уважения к той человеческой фигуре, в которой он воплощен. Затем кукольный Фуко рассуждает об «аппарате безопасности» в контексте пандемии COVID-193. Рис. 1. Кукольный М. Фуко рассуждает о биополитике и пандемии COVID-19. Выпуск «Theoretical Puppets» (www.youtube.com) Обилие критических фуколдианских высказываний заставило соредактора журнала Foucault Studies Д. Лоренцини подчеркнуть, что биополитика «не предназначена для того, чтобы показать нам, насколько зла та или иная современная форма власти», хотя и не создана для восхваления таковой: она направлена, прежде всего, на осознание переходных исторических состояний, в частности «порога биологической модерности», когда процессы, характеризующие жизнь человека как вида, становятся ключевым элементом в принятии политических решений, причем не только в «исключительных» обстоятельствах, таких как эпидемии, но и в «нормальное время» (Lorenzini 2020). Следуя Фуко, замечает автор публикации, политическая власть сама по себе не хороша и не плоха, но опасна, если принимать ее вслепую и не подвергать ее действия сомнениям. В то же время биовласть функционирует преимущественно «автоматически, незаметно и совершенно обычным образом», и она опасна именно тогда, когда мы этого не замечаем, чего нельзя сказать о ситуации пандемии с ее активной биополитической дискуссией. «Временем Фуко» пандемию COVID-19 назвала доцент кафедры политической теории Фрайбургского университета К. Шуберт. Однако в общем срезе биополитической дискуссии Шуберт замечает превалирование «популистской биополитики», которую необходимо противопоставить «демократической биополитике», нацеленной не на недоверие государственной власти и «авторитету экспертов», а на коллективную гражданскую «заботу без принуждения». В превалировании «популистской биополитики» автор видит социальную опасность, показывая на примере стигматизации ВИЧ-инфицированных негативные стороны работы общественных конвенций, свободных от государственного участия (Schubert 2020). К созиданию «демократической биополитики», которая призывала бы заменить страх и пассивность дисциплинарного общества на коллективные усилия, взаимную поддержку, солидарность и заботу, взывают и другие авторы (Kakoliris 2020). К этой линии полемики присоединяется преподаватель Цюрихского Университета П. Саразин, полагающий, что концепты биовласти и биополитики достаточно «соблазнительны» для того, чтобы организовать вокруг них научную и общественную дискуссию, заранее рискующую стать тенденциозной. Саразин обращается к эволюции подходов М. Фуко и выдвигает на передний план его аналитику политических ответов на различные эпидемии (Sarasin 2020). Со временем М. Фуко усложнил и смягчил несколько механистическую и «мрачную», как выражается Саразин, теорию биовласти, введя в аналитику модерновой правительственной рациональности понятие об экономической свободе индивидов и прояснив механизм либеральных исторических трансформаций через борьбу с эпидемиями оспы, когда на передний план вышли статистические наблюдения за заболеваемостью и эмпирические меры в виде вакцинации (Фуко 2011: 86-96). При этом в рамках либерального администрирования рисков, когда государство должно уважать некоторую «непроницаемость» общества даже за счет известных инфекционных рисков, власть отказывается от устремления полностью ликвидировать патогены и нейтрализовать нарушителей режимов передвижения. Она более не наблюдает за обществом с тем пристрастием, с которым наблюдала во времена чумы. Вместо этого власть выстраивает стратегии, направленные на сосуществование с патогенами и нарушителями, заботится о статистике и проводит «медицинские кампании», имеющие, тем не менее, дисциплинарный характер. Важно понимать, что М. Фуко говорил не собственно об эпидемиях как таковых, а использовал их как мыслимые модели организации и оформления типичных или идеальных разновидностей властных режимов. Чему нас могут научить модели, разработанные М. Фуко? На этот вопрос в своей статье П. Саразин отвечает так: во-первых, между разными формами властвования существуют переходные образования (да, полная изоляция китайского города Ухань строго укладывается в биополитическую модель чумы, но комендантский час может быть необходим для получения статистики, а значит, может быть частью либеральной модели оспы), а во-вторых, возможность «включения» модели чумы действительно остается угрозой и «даже опасностью» нашего времени. В качестве примеров таких опасных практик автор приводит случаи патрулирования улиц в Марокко артиллерией и различных чрезвычайных мер, предпринятых в Израиле, Венгрии и США. Если фуколдианская модель власти при оспе в общих чертах описывает форму властвования европейских правительств во время пандемии COVID-19, а модель чумы остается угрозой, готовой вторгнуться в течение событий, то модель проказы скрывается на заднем плане. Именно эта бесчеловечная модель, характеризуемая механизмами социального исключения, стоит за предложениями позволить пожилым людям умирать во имя спасения экономики или за отмечавшимися в Испании случаями оставления домов престарелых обслуживающим персоналом, когда запертые там пациенты умирали в беспомощности (Sarasin 2020). Медиа-дискуссия об угрозах биополитических злоупотреблений: от пандемии к дегуманизации и цифровому контролю Многие участники дискуссии, как в экспертной среде, так и в широком обществе, сходятся во мнении о том, что трансформации повседневности, социальной жизни и общественно-политического ландшафта, вызванные пандемией COVID-19, в значительной степени формируют нашу долгосрочную перспективу. Социальные сети и медиа полны заявлений о том, что «мир больше не будет прежним», а некоторые исследователи говорят о приближении мирового сообщества «к серьезной и редкой катастрофе» и вместе с тем к «редкому шансу осуществить ряд политических и экономических изменений» общемирового масштаба (Suresh Lal 2020). Голоса антропологов вливаются в общий «хор» обсуждения пандемии, в звучании которого доминируют ноты тревожности и амбивалентности. Исследователи высказываются как в тематических выпусках научных журналов4, так и на специальных страницах, где публикуются препринты, рабочие обзоры и полевые материалы5. Одной из интересных платформ, посвященных этой глобальной дискуссии, стал сайт Critical Inquiry6, с начала марта 2020 г. аккумулирующий короткие статьи и ремарки о пандемии. Здесь в одиночку или в диалоге друг с другом высказываются американская исследовательница истории науки Л. Дастон, французский философ и социальный антрополог Б. Латур, индийский социолог и поэтесса Л. Ганди, словенский культуролог и социальный философ С. Жижек, французская исследовательница, работающая на стыке философии и нейронаук, К. Малабу, камерунский теоретик некрополитики А. Мбембе и другие всемирно известные и влиятельные интеллектуалы. На данной платформе были опубликованы тексты, в которых сформировался полемический ответ Дж. Агамбену в виде идеи «демократической биополитики». Эксперты из научного сообщества выступают и в мировых медиа. Так, антрополог, профессор Стэнфордского университета Р. Харрисон в своем интервью германскому изданию «Die Welt» крайне мрачно обрисовывает социальную действительность пандемии как построение при помощи ежедневной паники «общества экзистенциального отчуждения», в котором реализуются бессознательные устремления технократии: социальное дистанцирование, замена реального виртуальным, миниатюризация мира и образа собеседника на экране, сглаживание рельефной жизни до экранной плоскости. В тон агамбеновской «голой жизни» Харрисон напоминает о том, что цивилизации всегда строились на идее ценностей, превосходящих «просто жизнь», а стремление к существованию ради существования грозит потерей ориентиров (Pines 2020). Будучи специалистом в области коммеморации и отстаивая первостепенную важность траурных ритуалов для культуры и общества (Harrison 2003), Харрисон обращает внимание на «побег от смерти», отмену похоронных ритуалов и запрет на прощание с умершими от коронавируса. Дегуманизация смерти, по его мнению, говорит о глубочайших экзистенциальных трансформациях, происходящих в ряде современных обществ (Pines 2020). В той же алармистской тональности звучит высказывание немецкого философа и публициста Й.Ф. Фридриха, критикующего идею «отказа» (нового аскетизма во имя всеобщего блага), в которой коронавирусные ограничения находят созвучие с популярной в Германии экологической повесткой: высший долг велит человеку и гражданину ограничить себя в потреблении, удовольствиях и перемещениях для того, чтобы общество смогло приблизиться к правильному балансу сил между природой и цивилизацией, вирусами и людьми, экологией и капитализмом. Показывая общую логику леволиберальных риторик, связанных с коронавирусом и экологическими проблемами, Фридрих называет пандемию COVID-19 «генеральной репетицией климатического кризиса», движением навстречу «вечной изоляции», которая «могла бы спасти мир, но лишила бы его всякого смысла». «Карантинную жизнь» без театров, концертов, вечеринок и живого общения, которая, согласно чрезвычайным правилам локдауна и санитарным рекомендациям, сводится к одной лишь сетевой активности, автор статьи сопоставляет с идеалом «зеленых»: больше не летать в далекие путешествия, не ходить в горы, минимизировать энергопотребление, прекратить наносящее ущерб климату выращивание скота, не импортировать экзотические фрукты и т.д. Фридрих с недоверием относится к уговорам «временно потерпеть», и в настоящей ситуации, когда вакцины разработаны и внедряются, накануне обещанного возвращения к радостям и удовольствиям «доковидной» жизни, он испытывает тревогу и подозрения, ведь появление вирусной мутации, против которой высокотехнологичные вакцины будут бессильны, остается лишь вопросом времени, а главное, «то, что казалось краткосрочной мерой в случае нынешней пандемии, уже обсуждается как необходимый и постоянный способ для предотвращения будущих проблем, решение в борьбе с изменением климата» (Friedrich 2021). Культура «бесконечной терапии», кризис неолиберализма и обретающее все больше влияния экологическое движение предвещают слом нынешнего свободного общества, пишет Фридрих: «В конце концов, от либерального принципа, согласно которому мы все должны быть свободны, чтобы стремиться к личному счастью, может ничего не остаться - но мы выживем как человеческий вид» (Friedrich 2021). Некоторые видные спикеры дискуссии дают еще более мрачные и радикальные прогнозы: по мнению Дж. Агамбена, физическое выживание людского рода ценой утраты ценностей и общественных механизмов означает исчезновение человека, каким мы его знали. В своем предвещании постчеловеческой реальности Дж. Агамбен обращается к знаменитому финалу книги М. Фуко «Слова и вещи» - образу исчезновения человека, который подобно тому, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке, исчезнет в эпоху, когда сменятся диспозиции мышления (Фуко 1994: 404). Когда человеческое исчезает, мир предстает как «просто голая жизнь, немотствующая и лишенная истории, во власти расчетов науки и власти», и уже из этих дегуманизированных и апокалиптических руин может «постепенно или сразу появиться что-то новое», некое «новое животное» - это будет «душа, живущая по-другому», вне божественного и вне человеческого (Agamben 2020d). Оппоненты уличают Агамбена в консерватизме и романтизме. Так, реагирующий на пророчество о «постковидном постчеловеке» С. Жижек призывает прекратить «грезить» прежним «доковидным» укладом, возможностью или невозможностью возвращения к нему и сосредоточиться на построении «новой нормальности». При этом он соглашается с тем, что «в целом мы движемся к тому, что можно было бы назвать постчеловеческой эрой», но это происходит не только из-за пандемии COVID-19, глобального потепления и других катастрофических явлений, «которые размыли основные координаты нашего человеческого существования», - важным фактором также является цифровизация, вносящая свой вклад «в нашу душевную жизнь» (Zizek 2020). В публикациях и высказываниях участников глобальной дискуссии пандемическая реальность часто увязывается с теми явлениями, которые берут свое начало в «доковидное» время и напрямую не связаны с медициной. Так, статья Й.П. Фридриха (Friedrich 2021) вводит биополитическую проблематику пандемии в самый широкий контекст, связывая ее через экологическую идею «отказа» с другими аскетическими идеалами новейших движений. Среди них можно перечислить и так называемую новую этику, которая проповедует разворот от «травмирующей» спонтанной сексуальности и свободного выражения эмоций к обществу, в котором личная активность, сексуальность и публичная речь подвергаются жесткой политической корректировке, социальному надзору и дисциплинарному администрированию. Общим у новой этики и экологического активизма является и критика старшего поколения (так называемых бумеров), которому адресуются обвинения в безответственности, расточительности, патриархальности, гедонизме и индивидуализме, одним словом - в «токсичности», т.е. травматической опасности для окружающего мира. Повседневность должна измениться в сторону ограничения потребительства, туризма, международных поставок, в пользу большей прозрачности и дисциплинарности межличностных отношений, от пестования индивидуальных свобод в духе классического (консервативного) либерализма к обостренной «социальной чувствительности», особенно в сфере меньшинств, травмированных и подвергающихся дискриминации групп - таковы текущие требования идеологии левого поворота, и свои наиболее наглядные, убедительные для масс аргументы она черпает в пандемической драме. Новое этическое и экологическое требование быть безопасным (идеал безопасности противопоставляется антиидеалу «токсичности») становится не только предметом политики, но и предметом моды, дискурсивной практикой, причем имплицитная логика этого требования строится на той же идее общественной солидарности ради безопасности, на которой основаны и ограничительные призывы эпохи пандемии: лозунг «модно быть безопасным» используется и в российской социальной рекламе. Подчас подобные требования звучат достаточно агрессивно, а под предлогом общественной солидарности реализуется возрастающая дисциплинар-ность жизненных процессов, считает Й.П. Фридрих. Он указывает на то, что запреты, умалчивания и морализаторство, характерные приемы леволиберальных медиа, не будут способствовать разрешению назревших проблем, эпидемиологических, климатических и других, а, напротив, приведут общество к «конфликтам, которые могут разорвать его на части» (Friedrich 2021). Рис. 2. Социальная реклама в Москве. Июнь 2020. Фото автора С развитием пандемии от волны к волне дискуссия не только не утихает, но, напротив, обостряется, параллельно расширяя сферу своего внимания. Развивая диалог с Дж. Агамбеном, С. Жижек анализирует разницу в реагировании людей на две волны пандемии, предварительно набрасывая возможность социального ответа на третью волну. По его мнению, европейские общества в условиях общей неопределенности, затянувшегося локдауна, разноголосицы среди ученых и экспертов, отсутствия надежных медицинских и социальных стратегий погрузились в депрессивную фазу. Если вакцинация не справится с третьей волной, людей ждут разрушительные психологические последствия и «исчезновение того, что мы воспринимаем как нашу нормальную социальную жизнь». Одним из процессов, изменяющих отношение людей с реальностью, в этих условиях становится стремительное внедрение новых и бурное развитие имеющихся цифровых технологий (Zizek 2020). Эти процессы заставляют экспертов говорить не только о трансформациях повседневности и миниатюризации образа Другого на экране, но также об изменениях в логике политического администрирования эпохи big data. Техническая составляющая мер социального дистанцирования и контроля за их исполнением стала темой выступлений другого широко известного интеллектуала, израильского историка и антрополога Ю.Н. Харари. Статьи и интервью Харари, посвященные пандемии COVID-19, оперативно переводятся и публикуются на разных языках мира. Автор научно-популярных бестселлеров7 утверждает, что налицо «наибольший кризис нашего поколения», а решения, которые люди и правительства примут во время этого кризиса, повлияют на формирование мира «на долгие годы». Они повлияют не только на системы здравоохранения, но и на экономику, политику и культуру, предупреждает Харари в Financial Times (Harari 2020). Харари напоминает читателям, что технологии видеонаблюдения развиваются очень быстро, и то, что десять лет назад казалось научной фантастикой, сегодня стало «вчерашним днем». Кризис пандемии может стать переломным моментом в долгой битве за конфиденциальность, поскольку, «если поставить людей перед выбором между личной жизнью и здоровьем, они выберут здоровье», но проблема в том, что это ложный выбор, ведь «мы можем и должны иметь и то и другое». Ю.Н. Харари признает, что сами по себе системы слежения и различные электронные технологии, с помощью которых корпорации манипулируют людьми, отнюдь не новы, однако именно пандемия обусловила их широчайшее развертывание, в ходе которого мы переходим от скрытого надзора к явному. Статьи, опубликованные в научных журналах и на специализированных платформах, также ставят вопросы о связи современной техники, осуществляющей администрирование социального дистанцирования, с угрозами биополитических злоупотреблений. Использование данных о местоположении, полученных с помощью мобильного телефона, во время пандемии стало наиболее распространенным методом сбора информации, а специальные приложения, устанавливаемые на телефон людям, подвергаемым карантинному режиму, вошли в обиход в ряде стран, включая Россию. Исследователи отмечают признаки бурной технической мобилизации биополитического аппарата пандемии. Среди них: значительное увеличение финансирования для совершенствования систем слежения и сбора данных и их «отладки» в целях контроля за заболеваемостью в США, разработка Национальной службой здравоохранения Великобритании электронного приложения, «следящего» за передвижением граждан, разработка системы географических зон, привязанных к биллингу, в Тайване, использование дронов для отслеживания соблюдения протоколов социального дистанцирования в США и Китае, применение дронов в городе Вестпорт, штат Коннектикут (США) для регистрации температуры тела, частоты сердечных сокращений, респираторных нарушений, расстояние между людьми, а также использование искусственного интеллекта и систем «умного города» для распознавания нарушителей эпидемического режима в РФ (Sylvia IV 2004). Публичная дискуссия о мерах социального контроля имеет также свое политическое и юридическое измерение. В качестве примера дебатов на политической арене можно упомянуть рассмотрение 1 апреля 2020 г. в Мосгордуме введения штрафов за нарушение режима самоизоляции, во время которого оппозиционные депутаты протестовали против экономических санкций в отношении граждан и против введения всеобщего режима QR-пропусков. Один из лейтмотивов этих возражений: «Карантин закончится, а слежка останется» (Нужно бороться… 2020). Политико-юридическим выражением борьбы против строгих мер социального дистанцирования стал коллективный судебный иск против мэра Москвы С.С. Собянина, о котором СМИ известили 2 апреля 2020 г. (Жители Москвы… 2020). Исследование чрезвычайных запретов и властных решений и реакция на них активистов правозащитных групп в РФ показывают, что принятые в целях предотвращения распространения COVID-19 меры организовали новую медикали-зированную реальность, обустроили новые границы взаимозависимости между людьми, спровоцировали неповиновение и сопротивление юридически компетентных граждан (Кукса 2020). Заключение. Накануне «новой нормальности» Биополитическая дискуссия вокруг вызовов пандемии COVID19 - часть «трудного и болезненного процесса создания новой нормальности» (Zizek 2020). Какой будет эта «новая нормальность», во многом зависит от полемики и решений, связанных с социокультурной реальностью пандемии. В центре широкой дискуссии, задействовавшей медиасферу, оказался вопрос о государственных мерах по социальному контролю и угрозе их перерастания в новый биополитический тоталитаризм. Отдельное направление дискуссии составляет вопрос о дегуманизирующих практиках социального дистанцирования: тревогу вызывают различные формы «отмены ближ
Бахматова М.Н. Хроника коронавируса в Италии: «мазуны» двадцать первого века // Медицинская антропология и биоэтика. 2020. № 1(19). http://doi.org/10.33876/2224-9680/2020-1-19/02
Кукса Т.Л. Биополитические решения и правозащитный активизм в период распространения COVID-2019 в России: ограничения субъектности и новые границы взаимозависимости // Медицинская антропология и биоэтика. 2020. № 1(19). http://doi.org/ 10.33876/2224-9680/2020-1-19/04
Михель Д.В. Мишель Фуко и западная медицина // Логос. Философско-литературный журнал. 2019. № 2 (29). С. 64-81
Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Рудомино, 1997
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999
Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году. Санкт-Петербург: Наука, 2005а
Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005б
Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994
Agamben G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. California: Stanford University Press Stanford California, 1998
Farrell C.T., Porter Lillis J. An adaptation to Michel Foucault's medical authority: The Lucid Succor of the informal caregiver // Social Theory & Health. 2013. Vol. 11(4). P. 327-343
Foucault M. The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction. New York: Pantheon Books, 1978
Garfin D.R., Silver R.C., Holman E.A. The Novel Coronavirus (COVID-2019) Outbreak: Amplification of Public Health Consequences by Media Exposure // Health Psychology. 2020. No. 39(5). P. 355-357. http://dx.doi.org/10.1037/hea0000875
Harrison P.R. The Dominion of the Dead. Chicago: University of Chicago Press, 2003
Mbembe A. Necropolitics. Durham: Duke University Press, 2019
Meneses K.C. L'Arche, a Radical Reversal: Fearless Dialogue between Foucault and Vanier with the New Testament // Journal of Disability and Religion. 2020. Vol. 24 (2). P. 151- 173
Petersen A.R., Bunton R. Foucault, Health and Medicine. London; New York: Routledge, 1997
Samuelsen H., Vibeke S. The Relevance of Foucault and Bourdieu for Medical Anthropology: Exploring New Sites // Anthropology & Medicine. 2004. Vol. 11 (1). P. 3-10
Suresh Lal B. Health and economic shocks of COVID-19 // International Journal of Multidisciplinary Research and Development. 2020. Vol. 7(4). P. 6-12
Sylvia IV J.J. The Biopolitics of Social Distancing // Social Media + Society. 2004. Vol. 6 (3). http://dx.doi.org/10.1177/2056305120947661
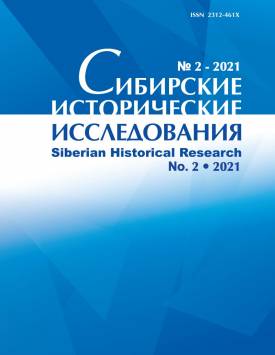

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью