Anthropology of Extractivism.pdf Монография Анны Уиллоу посвящена низовому гражданскому сопротивлению проектам добывающей промышленности. Автор продолжает работать в направлении, заданном почти двумя годами ранее в коллективной монографии «ЭкстрАКЦИЯ: воздействие, вовлечение и варианты будущего» (Jalbert et al. 2017) группой исследователей внутри Ассоциации прикладных антропологов. Интересы группы обозначаются как экстрАКТИВИЗМ (extrACTIVISM). Объединение слов «экстрак-тивизм» и «активизм» призвано указать на то, что в фокусе исследователей находятся кейсы гражданского сопротивления (активизма) различным проявлениям экстрактивизма. Участники группы призывают различать экстракцию - добычу полезных ископаемых и природных ресурсов, которая в широком смысле происходила всю историю человечества, - и экстрактивизм как специфическую идеологию, определяющую способ отношения к природным ресурсам, приводящий к характерной «непомерной экстракции» (extreme extraction). Исследователей группы интересуют прежде всего социальные и культурные причины и последствия экстрактивизма: «сегодняшняя непомерная экстракция наносит беспрецедентный урон окружающей среде, но как её основания, так и её наиболее острые последствия являются социально сконструированными и глубоко политическими» (p. 1). В предисловии Уиллоу даёт понять читателю, что она не стремится выступать как беспристрастный исследователь: её ценностные установки заставляют её подвергать сомнению (если не отрицать) справедливость существующего мирового порядка, который «позволяет отдельным людям извлекать сверхдоход от экстрактивной деятельности, в то время как абсолютное большинство людей не получает ни преимуществ от извлечения ресурсов, ни возможности принимать решения относительно того где, когда и как оно будет производиться» (p. 21). В книге даже представлена «ретроспектива» авторского интереса к проблемам окружающей среды: от узко понимаемого энвайронментализма как защиты «дикой природы» до осознания того, что «природа» не может быть отделена от «культуры» и «политики» (p. 4). Сравнив кейсы сопротивления добыче сланцевой нефти в США и лесозаготовкам на землях коренных народов Канады, Уиллоу отметила, что как сторонники индустрии, так и противники очень схожи в своих дискурсах; продолжая дальше погружаться в тему сопротивления экстрактивным проектам в разных частях света, автор пришла к мысли о том, что спор между экстрактивизмом и экстрАКТИВИЗМОМ является определяющим для современности (p. 7). Хотя сходства в разных кейсах противостояния экстрактивизму - это отправная точка рассуждений Уиллоу, она не разделяет их по типам или стратегиям, используя вместо этого ресурсы в качестве рубрик. Помимо глав 2 и 8, которые содержат анализ теоретической рамки экстрактивизма, остальные главы объединяют кейсы гражданского активизма в связи с ресурсными проектами в сфере лесозаготовок (3), строительства гидроэлектростанций (4), добычи полезных ископаемых - металлов и минералов (5) и угля (6) и, наконец, нефти и газа (7). При этом вопрос о том, как тип ресурса влияет на ход развития конфликта и дискурсивные практики сторон, остаётся за рамками теоретических построений Уиллоу. Для неё важно показать, что экстрактивизм - это универсальный принцип, который стоит за практиками извлечения ресурсов, а кейсы из разных индустрий призваны продемонстрировать фундаментальное сходство и наличие общих паттернов в сфере культуры, экономики и политики. Вообще представление экстрактивизма именно как идеологии - популярное направление мысли в англоязычной литературе (Veltmeyer, Petras 2014). В отличие от антропологии добычи (Функ 2018), которая выступает как предметная область, теоретики экстрактивизма полагают, что масштабная добыча полезных ископаемых ведётся по определенным правилам, обладает внутренней логикой и формирует соответствующую социальную и политическую структуру; собственно сам суффикс «-изм» указывает на класс этого феномена. Экстрактивизм по их мысли - это идеология и соответствующая ей практика «извлечения максимально возможного объёма ресурса для получения максимальной прибыли» (р. 2), ориентированная на «межрегиональный или международный экспорт» (р. 17). Ориентация на экспорт важна, так как она подразумевает, что место, где ресурс добывается, и место, где принимаются решения, максимально географически и социально разнесены; издержки несут местные сообщества на периферии, а сверхприбыль получают в центре, и это напоминает принципы колониализма; издержки несут социально незащищенные слои населения, а прибыль получают немногие привилегированные люди (р. 235). При этом не всякая добыча природных ресурсов является случаем экстрактивизма. В качестве примера не-экстрактивистской добычи можно привести локальные мелкомасштабные промыслы, осуществляемые, в частности, представителями коренных народов (Hentschel 2003). При таком определении экстрактивизма граница между возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами становится очень условной: хищническая вырубка леса не даёт лесам восстанавливаться, и в результате этот ресурс становится невозобновляемым (р. 29), а река может перестать быть рекой, например утратить своё устье (p. 69-77), или, как показывал отечественный исследователь Е. Бурдин (Бурдин 2010) на примере Волги, превратиться из свободно текущей реки в систему гидроузлов; дамбы, резервуары и отводные каналы Уиллоу называет «физическим выражением экстрактивисткго образа мысли, материальным воплощением экстрактивистских желаний заработать на сдерживании и контроле над водой» (p. 92). Уиллоу выделяет шесть признаков экстрактивизма: 1) большие масштабы извлекаемого ресурса; 2) экспорт необработанного ресурса; 3) неподконтрольность местному сообществу, несущему издержки; 4) поддержка со стороны коррумпированных правящих элит, препятствующая международному регулированию; 5) рост экономического неравенства и бедности в местных сообществах; 6) значительный ущерб экосистемам, а также местным сообществам (например, коренным народам) (pp. 29-30, 236). В этой оптике вырубка леса на Дальнем Востоке также предстает экстрактивистской практикой (Smirnov 2013). Возникает вопрос, как широко мы можем трактовать понятие ресурса, и почему в книгу не включены примеры, где к таким же паттернам приводит использование неквалифицированного труда как ресурса? Рассмотрим условную высокотехнологичную компанию, которая 1) эксплуатирует жителей развивающейся страны, используя их в качестве ресурса для производства своей продукции; 2) ориентирована на немедленный экспорт произведенной продукции, так как местное население в массе не может себе её позволить; 3) неподконтрольна местному сообществу 4) при поддержке или невмешательстве местных коррумпированных элит; 5) из-за массовых низких зарплат простых рабочих при сверхвысоких зарплатах топ-менеджмента способствует росту бедности и экономического неравенства; 6) приносит экологический ущерб территории производства. Можно ли будет считать подобную деятельность примером экстрактивизма? Или, напротив, мы должны признать, что экстрактивизм возникает только в ситуации экстракции природных ресурсов? Тогда каково именно специфическое свойство природного ресурса, которое порождает характерные для экстракти-визма социальные и политические последствия? Можно отметить, что и гражданское сопротивление экстрактивизму, которое представляет ключевую тему книги, не сравнивается Уиллоу с другими формами гражданского сопротивления, для того чтобы, опять же, выявить его специфические черты, хотя это могло бы быть продуктивным: социологи, исследующие недавние экологические протесты в России, отмечают, что в ситуации политически поляризованного общества именно экологические протесты обладают наибольшей консолидирующей силой (Цепилова, Гольбрайх 2020; Чмель, Климова, Митрохина 2020). Интересно было бы проанализировать, насколько антиэкс-трактивисткие протесты попадают в эту тенденцию и как их эффективность зависит от общей протестной активности в регионе. В целом книга Уиллоу показывает, как оптика «экстрактивизма» может быть применена при анализе различных кейсов создания инфраструктурных проектов, связанных с использованием природных ресурсов, конфликтов между государственными институтами, местными сообществами и компаниями. Несмотря на отмеченные недостатки, она содержит богатый этнографический материал, который может быть интересен широкому кругу исследователей в сфере социальных наук, в частности интересующихся взаимоотношением добывающих компаний и местных сообществ, гражданской и низовой кооперацией, и практикам, занимающимся развитием территорий и гражданским активизмом.
| Бородулина Алевтина Сергеевна | Институт этнологии и антропологии РАН | младший научный сотрудник | alevtina.ethno@gmail.com |
Бурдин Е.А. Исторические аспекты и динамика развития российской гидроэнергетики в 1900-1980-х гг. (на примере Волжского каскада гидроузлов) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, № 2-1
Функ Д.А. «Этнологическая экспертиза»: российский опыт оценки социального воздействия промышленных проектов // Этнографическое обозрение. 2018. № 6. С. 66113
Цепилова О.Д., Гольбрайх В.Б. Экологический активизм: мобилизация ресурсов «мусорных» протестов в России в 2018-2020 гг. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. Т. 23, № 4
Чмель К.Ш., Климова А.М., Митрохина Е.М. Политизация экологического дискурса в Архангельской области на примере строительства мусорного полигона около станции Шиес // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18, № 1. С. 83-98
Jalbert K., Willow A., Casagrande D., Paladino S. (eds.) ExtrACTION: Impacts, Engagements, and Alternative Futures. N.Y.: Routledge, 2017
Hentschel T. Artisanal and small-scale mining: challenges and opportunities. Iied, 2003
Smirnov D.Y. (ed.) Illegal logging in the Russian Far East: global demand and taiga destruction. D.V. 2013. WWF, Moscow
Veltmeyer H., Petras J. (eds.) The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century? Zed Books, 2014
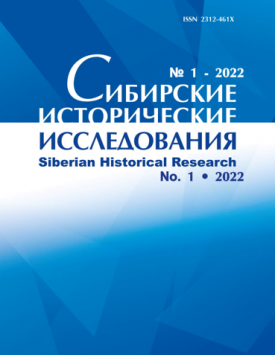

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью