Может ли дневник быть одновременно социальной хроникой и научным протоколом? Что означает в данном случае смешение жанров и текстовых структур? Статья представляет разнообразный спектр сельских дневников погоды, написанных рукой рыбака, медсестры, огородника, инспектора, музейного специалиста и объединенных общей идеей сочетания данных различного типа в одной структуре, на одной странице, т.е. являющих собой особый тип гибридного документа. Уникальность ситуации состоит в том, что, сопрягая сведения разного типа (метеорологические, финансовые, исторические, биографические, инфраструктурные), полученные из разных источников (начиная от инструментов фиксации температуры и заканчивая личными ощущениями, слухами и интернетом), авторы дневников косвенно участвуют в производстве иного типа знания, которое рождается на местах стыковок, наложений и параллелей между явлениями и фактами, оценками и сарказмом, поэтическими описаниями и хроникой природной катастрофы. Анализируя структуру дневника, специфику их языка, основные компоненты, цели, с которыми они ведутся, автор раскрывает природу процессов, которые происходят благодаря самому акту письма, и показывает, почему сам дневник является в некотором смысле лабораторией. Однако что производит данная лаборатория? Можем ли мы применить к ней ту логику описания, которую Ла-тур применяет, описывая процесс производства научных статей? Что происходит с текстом, записанным на страницах сельского дневника погоды и текст ли это? В данной статье предпринята попытка ответить на эти вопросы и «перевернуть» логику «перевода», предлагаемую акторно-сетевой теорией.
Rural weather journals and fisheries logs as a representation of hybrid forms of interaction between science and local c.pdf Мы сами являемся гибридами, кое-как обосновавшимися внутри научных институций, мы - полуинженеры, полуфилософы, третье сословие ученого мира, никогда не стремившееся к исполнению этой роли, - сделали свой выбор: описывать запутанности везде, где бы их ни находили. (Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии) Введение В какой форме наука1 как таковая может проявляться в сельских сообществах на постсоветском пространстве? Где она «обитает»? Каким образом мы можем обнаружить ее следы? В поисках ответа на эти вопросы междисциплинарная команда исследователей посетила ряд приобских поселков Кривошеинского, Молчановского, Колпашевского, Парабельского, Каргасокского и Александровского районов Томской области. Одна из гипотез исследовательского проекта заключалась в том, что наука в сельской местности обнаруживается благодаря таким классическим «форпостам» научного мониторинга, как метеостанции, селекционные станции, лаборатории при больницах и санитарно-эпидемиологических службах, службах мониторинга и метеонаблюдений при аэропортах, речных портах. Несмотря на данное допущение, мы понимали, что сворачивание в 1990-2000-х гг. на территории всей страны воздушных пассажирских перевозок, увольнение кадрового состава и сокращение более не востребованных метеостанций, закрытие лабораторий и ключевых отделений в больницах - все это приводило к оттоку или переквалификации сельских специалистов из высокотехнологичных и интеллектуальных сфер производства на менее наукоемкие и низкоквалифицированные позиции. Таким образом, в населенных пунктах, где работали талантливые фельдшеры, лаборанты, лесные инженеры, радисты, метеорологи, летчики, электрики и диагносты, остались только следы, напоминающие о былой научной инфраструктуре, соединявшей города, райцентры и маленькие таежные деревни. Функционирующие на сегодняшний день школы в очень редких случаях можно назвать центром научных исследований: многие из них переведены на циклы 9-классного или начального образования. Казалось, что оптика нашего исследования выстроена таким образом, что не видит или не может «нащупать» свой объект - гибридные формы взаимодействия и феномены, указывающие на пересечение или столкновение миров сельских жителей, ученых и местных администраций. Частный дневник погоды: между любительскими записями и научным протоколом фиксации природных явлений Беседы с представителями сельских сообществ о доверии научному знанию как таковому, разговоры с местными жителями о том, кто является экспертом по тому или иному вопросу, связанному с состоянием окружающей среды, экологией, климатическими изменениями, экономической ситуацией в регионе, натолкнули меня на серию документов, которые, как мне видится, являются уникальным проявлением искомых гибридных форм. Оказывается, что гибридизация разных типов знаний, мотивов, языков и практик, включающая и повседневный опыт, и научный компонент, заключена не столько в сети научных стационаров или метеостанций, не в лабораториях, где занимаются анализами первичного материала в полевых условиях, а в текстах. Анализ гибридных форм ранее изучался на материале писем (Puttaert 2016). Однако то, что интересует меня в настоящей статье, - это дневники погоды, которые в семьях с различными судьбами и жизненными траекториями сохранялись годами или ведутся до сих пор. Фактически эти тексты - сельские протоколы наблюдений, где в формате, близкому к протоколу эмпирического научного наблюдения, отмечаются последовательно показатели температуры, облачности, осадков, ключевые события смены сезонов, например, ледостав и ледоход. Однако если бы эти документы являлись эталонным примером научного текста, в них отсутствовал бы интересующий нас локальный компонент. Между тем он может быть отчетливо выявлен в сельских дневниках и проявляется он не только в фигуре автора - огородника, рыбака, сельской учительницы или медсестры, но и в тех отступлениях от «канона», в тех несовершенствах, которые ставят под сомнение «наукообразность» содержания дневника. Авторы дневников - сами по своей идентичности, биографической траектории, сочетанию специальностей и практических навыков - являются самым ярким воплощением гибридных форм, сочетающих сельскую повседневность, прикладные навыки и наукоемкие технологии, а главное - совершенно различные по языку способы описания мира. Дневник стал тем «социальным фактом», пристальный анализ которого повернул взгляд исследователя с устройств и механизмов фиксации эмпирических первичных данных в сельских сообществах на формы текстуали-зации, которые, будучи собранными из совершенно разных источников, становились в дневнике погоды данными одного порядка и регистра, смешиваясь и создавая причудливые сочетания и аналогии. Отраженные в дневнике детали - температура и влажность, уровень воды и посадки на огороде, количество пойманной рыбы и первый вертолет, прилетевший с Большой земли в сезон бездорожья, первая машина, прошедшая по тонкому льду через протоку, количество залитых огородов, ушедшие из жизни односельчане - все размещается в определенных столбцах и графах, а иногда выходит за их рамки, пересекая всю страницу. В предлагаемой вниманию читателя статье я представляю типологию дневников погоды и промысловых дневников и журналов, анализирую специфику авторского стиля и связь между профессиональной / промысловой деятельностью автора и структурой записей в дневнике, выделяю ключевые компоненты в дневниках различного типа и происхождения, обнаруживаю причины разрывов и «пауз» в дневниках, шрифты, дизайн, расположение данных в документе. Особый интерес представляет анализ гибридных данных - записей, отражающих в одном предложении или одной графе дневника события и явления природного, социального, экономического, инфраструктурного и экзистенциального порядков. На данных примерах я постараюсь показать, как на страницы дневников погоды прорываются иные смыслы, события, впечатления, выводы и прогнозы, ломающие канонический протокол наблюдений. Отталкиваясь от температуры воздуха и осадков, авторы дневников неметодично и вразброс отмечают ключевые аспекты жизни села. Приоритет и значимость явлений представляют особый интерес, так же как и источники данных, которым доверяют или не доверяют местные жители. Дневник погоды - особый жанр или смешение жанров? В данном разделе мне хотелось бы обозначить специфику сельского дневника как жанра, а также обосновать, почему столь разные по содержанию и назначению виды дневников и журналов оказались внутри одной аналитической рамки. Чтобы сузить границы описываемого явления, необходимо оговорить то, чем не является сельский дневник погоды. Создается ли дневник с намерением в дальнейшем представить его читателю - в формате рукописи или даже публикации? Превращение дневника в литературное произведение (Барт 2002) возможно при жизни автора, но претендует ли сельский дневник на будущую жизнь в «литературной» форме? Тем не менее, аудитория читателей - это не единственная целевая аудитория, к которой косвенно или напрямую может обращаться дневник. Фиксация погодных явлений - систематическая, осуществляемая в одной локальности, многолетняя - могла бы стать эмпирическим материалом для метеорологов, экологов, географов. Стоит отметить, что, будучи «сырыми», первичные данные записей дневников не могли бы стать публикуемым текстом, что сближает их с «промежуточными текстами», создаваемыми в лаборатории -(Latour, Woolgar 1986: 53), однако они являлись бы ценным первоисточником. Но есть ли на самом ли деле в обнаруженных дневниках некая «тоска по научной востребованности»? Если посмотреть на форму записей, то мы увидим, что их основа -язык, предложенный школьной советской системой в 5-7-х классах на уроках природоведения, географии, биологии (ср.: Орлова 2006). Ведение дневников погоды, осуществление простых, но регулярных наблюдений, было частью образовательной программы, и эта универсальная система обозначений в большей или меньшей форме обнаруживается в сельских дневниках: значками обозначаются осадки, облачность, иногда - направление ветра. Можно предположить, что именно в территориально удаленных поселках ценность натурных наблюдений, производимая местными жителями самостоятельно, согласно методике и определенному протоколу, была выше, нежели в городах, где представители научного сообщества, лабораторий, институтов, могли регулярно и более эффективно фиксировать погодные явления. Идея о том, что, осваивая этот язык синоптических наблюдений в школе, можно сохранять причастность к любительским научным исследованиям в будущем, которые могут быть востребованы государственными научными учреждениями, поддерживала своеобразную моду на ведение подобных дневников. Однако в 2000-х развитие технологий дистанционного мониторинга погоды поставило под вопрос ценность любых эмпирических локальных наблюдений. Тайное желание, состоящее в том, чтобы эти кропотливо вносимые данные смог кто-то прочесть, больше не является основным мотивом ведения дневника. Дневник погоды стоит на границе между литературным и нелитературным источником (Рейнгольд 2010). Поэтому постсоветский сельский дневник погоды - это эксперимент над жанром и формой текста в процессе поиска своего «читателя» и своей аудитории. Интересно заметить, что в ряду нарратологических исследований дневников крестьян рубежа XIX-XX и начала XX в. также обнаружена ориентация на публикацию и распространение личного дневника в широком кругу читателей. Как отмечает М.В. Плисак, есть основания полагать, что дневник, который создавался и публиковался зажиточным крестьянином практически параллельно (Плисак 2008: 125), мог быть «спроектирован» и ориентирован изначально на своего читателя. Вследствие подобной «публичной» ориентации на страницах дневника появляются рекомендации по агротехнике и даже рекламные записи о развитии кооперативного движения (126), к которому имел отношение автор дневника. Стоит отметить, что запись технологий, зарисовки инструментов и изобретений, схемы расположения сетей, формы морд (ловушек для рыбы), спроектированные автором, появляются и на страницах дневников рыбаков и охотников в XXI в. Однако, в отличие от отточенных «рекламных» записей публикуемого дневника, зарисовки изобретений в сельском дневнике погоды - это определенный вид кодировки: способ не распространить информацию и сделать ее доступной, а способ утаить, завуалировать и сделать нечетко читаемой для случайного свидетеля. На пересечении данных о погоде и рисунках механизмов и сетей можно увидеть сочетание научного протокола и научных зарисовок, связанных с изобретательской любительской деятельностью жителей отдаленных поселков. Таким образом, подобный дневник становится собранием необнародованных метеорологических данных и незапатентованных изобретений. Выше я рассматривала различия сельского дневника погоды и личного дневника, стремящегося быть прочитанным и даже опубликованным. Однако для анализа сельского дневника в конце XX - начале XXI в. ключевым моментом является именно контекст и место, где он создавался. Подобные дневники - продукт трансформаций, затронувших постсоветскую деревню: это не городской дневник, не провинциальный дореволюционный дневник, но и не деревенский дневник рубежа XIX-XX вв. Потому чрезвычайно важно обратиться к анализу доперестроечных и дореволюционных дневников, находящихся в диапазоне межу «наивной литературой», «письменной формой устной речи», и «бытовым личным дневником» (Воронова 2005: 194), чтобы выявить различия между данными жанрами. Исследователь полагает, что подобного рода дневники самореферентны и не предполагают прочтения иными читателями кроме самого автора (195). Строгость и регулярность записей в бытовом дневнике приводят к клишированности формулировок (Курникова, Русинова 2002), тогда как в дневнике погоды клише не образуется за счет смешения жанра дневника и научного протокола: все повторяющиеся формулировки можно отнести к «псевдонаучным» частям ежедневных записей. Это разделение на «эмпирическую» / «научную» часть записи и хроникальную часть, посвященную событиям жизни села, района и страны, позволяет говорить о более сложноструктурированной, рефлексивной форме дневника, исследуемого на страницах данной статьи. Близость сельских дневников погоды к жанру крестьянских дневников, широко анализируемых историками повседневности, лингвистами, этнографами, может вводить в заблуждение. Основной мотив и стержень подобных дневников - связь между трудовой деятельностью и погодными условиями, сменой сезонов и сезонными циклами. В дневниках конца XIX - начала ХХ в. основу составляют алгоритмические описания работ, производимых в поле, избе, на реке: боронование, уборка урожая, резьба по дереву, уход за скотом, покос, рыбная ловля (см., например, Жукова 2013). Нередко указывается последовательность действий, длительность работ. На страницах дневников погоды мы видим не ежедневные записи о трудовых буднях, а прерывистую цепочку экстраординарных событий, экстремальных ситуаций (половодье, пожар, отключение электричества, затопление картофельных полей), между которыми, в дни, когда повседневная жизнь течет размеренно и без происшествий, встречаются заметки об эмоциональном восприятии состояний природы, описание праздничных или памятных дат. Важным сходством дневников крестьянина начала XX в. и промысловика начала XXI в. является фигурирование в записях денежных сумм: покупка скотины, стоимость строительных материалов, хлеба. Для рыбацкого дневника, хозяин которого с большим волнением и тревогой раскрывал передо мной некоторые страницы разных лет, характерна ежедневная (в случае улова) фиксация стоимость сбыта продукции, подсчитанная по количеству рыб различных видов и размера (веса). Если в случае крестьянского дневника цены и объем вырученных денег появляются в дневнике периодически, обозначая «эталонные» или «нормированные» цены, характеризующие цены в регионе / городе / селе в определенный сезон (осенняя ярмарка) или год, то контроль над финансовыми операциями, ежедневный, параллельно с ежедневным мониторингом погоды и улова, является одной из ключевых особенностей современного промыслового дневника или дневника охотника (Миханев 2011) . Есть и другой способ фиксации поступлений в бюджет, зафиксированный в ходе сбора полевых материалов, когда ритм уловов и ритм сбыта рыбы расходятся. Так, состав улова, наличие икряных самок, размерный ряд фиксируются почти ежедневно, тогда как продажи осуществляются большими партиями, по результатам накопления в холодильниках большого запаса ценных пород рыбы. В этом случае подобные продажи сбивают ритм всего дневника (в том числе записей о погоде), и информация выписывается в рамочке по центру страницы («Сдал стерлядь на 43 000р.»). Еще один жанр или вид эго-документа - полевой дневник участника экспедиции (геологической, археологической, ботанической). Сходство подобных дневников с сельскими дневниками погоды заключается в том, что личное, бытовое, эмоциональное, повседневное появляется в тексте на фоне записей, имеющих регулярный характер, которые возможно в дальнейшем использовать для научного отчета. Отличие полевого дневника в том, что он действительно является «частью полевой документации» (Чистяков 2011; Иващенко, Толпеко 2015: 117) и ведется человеком, имеющим институционально закрепленную принадлежность к научно-исследовательскому институту, лаборатории, музею, разведывательной компании. Чрезвычайно важная особенность анализируемых в данной статье дневников погоды - это умалчивание любой, хотя бы косвенной, информации о личности автора. Его положение улавливается через действия («чинил весь день сети», «посадила помидоры», «белила потолок в зале») или через эмоциональное состояние, отражающееся в поэтическом описании природных явлений («14.11. Деревья в инее, очень красиво, как в сказке»). Но даже подобные высказывания встречаются чрезвычайно редко. Преобладающие глаголы описывают действия других людей: соседей, друзей, поселковых ребятишек, начальства, всего сообщества в целом, но не жизнь автора. В этом смысле дневник погоды, содержащий также и хроники жизни села, и много других компонентов, не имеет функции отражения и переосмысления собственной идентичности, положения в сообществе, не нацелен на понимание самого себя (Пигров 2002; Кальщикова 2010: 61), подобно дневникам писателей, людей, занимавших публичные должности и профессии (профессор, учитель, художник, актер). Каждая деталь в структуре дневников различного авторства и назначения чрезвычайно функциональна и при этом достаточно символична, указывает на внетекстуальные особенности и феномены, которые представляют особый интерес для исследователя. Ниже я выделяю те базовые характеристики, без которых невозможно рассказать, как в социальном контексте «работает» дневник. Авторы частных сельских дневников: кто и зачем их ведет? Широкий диапазон жанров и стилей, в рамках которых составлены сельские дневники, подводит нас к мысли о связи между социальным статусом, профессией, положением автора в местном сообществе, мотивами автора, и жанровыми и структурными особенностями создаваемых текстом. Поэтому прежде чем обратиться к детальному анализу дневников, мне хотелось бы понять, кто является авторами этих текстов и что ими движет, когда они начинают систематически записывать свои наблюдения и измерения. Дневники, анализ которых лег в основу данной статьи, обладают следующими общими признаками. Во-первых, это дневники, созданные представителями сибирских локальных сообществ, которые расположены на берегу Оби, сильно зависимы от режима реки, погодных условий, влияющих на изоляцию поселка от Большой земли, а значит, на всю систему жизнеобеспечения. Во-вторых, это дневники сельских жителей, и в этом смысле они представляют собой традицию «провинциального» / «локального» / «периферийного» письма. Существует обширный корпус литературы, посвященной социально-историческому и биографическому контексту создания подобных дневников: это сельские дневники [rural diaries] (Motz 1987), традиция карманных дневников-заметок в XIX в. (McCarthy 2000), повседневные / рутинные записи [ordinary writings] (Lyons 2007), дневниковые женские записи в XIX в. (Bunkers 1990), периферийная / местная [vernacular] традиция письма (Barton 2007). В-третьих, это дневники, стержнем которых является не хроника событий и не личные переживания и мысли автора, а строгая фиксация природных явлений и погодных условий. В этом смысле, данное исследование также вписывается в традицию «наивной» / «непрофессиональной» метеорологии (Wheeler 1994) повседневной экологии [everyday ecology] (Williams 2017), климатических наблюдений и наблюдений за природой (Anderson 1999; Slonosky 2014; Bernhardt 2015). Наконец, в-четвертых, это источник данных о погоде, который скрывает в своей структуре сведения о чем-то большем: истории семьи (Noble 2017) или повседневности всего локального сообщества (Слепцова, Кызласова 2017). Зачем вести дневник? Вернее - в каких случаях и при каких обстоятельствах он может пригодиться? Кому важно отслеживать динамику погодных явлений, состояние объекта окружающей среды? В первую очередь - тем, кто имеет дело с Рекой и Землей. С одной стороны, это рыбаки и судоводители, с другой стороны, это люди, занимающиеся огородничеством. Основной мотив ведения дневника определяет его структуру и основные компоненты. Дневники огородников Огороднику необходимо учитывать амплитуду перепадов между дневными и ночными температурами, осадки, экстремальные погодные явления (град, грозы, ураган, поздние заморозки и снегопады). Структура дневника определяется, как в некоторых обнаруженных случаях, календарным годом и начинается с 1 января, тогда как в некоторых случаях записи начинаются с того момента, когда первые семена будущих саженцев засевают в подготовленную почву в домашних условиях. Так, например, у одной из огородниц Александровского района каждый год начинается с конца февраля, когда она «сеет перец» (20.02) и «высевает помидоры» (18.03). Дневники такого типа содержат глаголы, характеризующие наблюдение и фиксацию собственных действий («посадила», «посеял», «полила», «отпасынковал», «прополола», «взрыхлила») и - наблюдение за активностью растений («взошли цик-ломены», «зацвели», «[созрел] первый огурец»), а также указания на явления окружающей среды (заморозки, осадки, ледоход, гроза, град). В некоторых случаях один глагол, отмеченный в дневнике, может отражать сразу несколько явлений. Так, например, словосочетание «копали картошку» говорит нам о том, что (1) семья копала картошку, т. е. провела часть дня или весь день за этим занятием, (2) поскольку картошку копали в эти даты, значит, она уже созрела и выросла достаточно, чтобы ее выкопать и, (3), что в этот день стояла погода, которая была благоприятной для выкапывания (без дождей, без сильных заморозков, сопровождающихся промерзанием верхнего слоя почв). Существуют, согласно устному пояснению самого информанта, важные технологические отметки в дневнике погоды, которые позволяют четко соблюдать процедуру вмешательства в природную среду и цикл жизни растений. Например, записи от 16.04 «полила рассаду и цветы комнатным корнесилом» или от 24.04 «полила удобрением все помидоры в малой спальне» означают то, что через определенный промежуток времени обработку нужно будет повторить и потому необходимо зафиксировать эту дату (ПМА 2019). В некоторых случаях автор отмечает состав смеси, рецепт приготовления: 24.07 «опрыскала завязь помидоров борн.[ой] кислотой с содой (1 ч.л. соды и % л. б. кисл.)». Рис. 1. Схема посадок Рис. 2. Схема посадок в теплице на приусадебном участке. Александровский район Томской области Александровский район Томской области Существенным компонентом дневника погоды заядлого огородника являются объемы и время появления самого продукта, ради которого было приложено столько усилий: овощей, фруктов, ягод и цветов. В изучаемых районах особенность деятельности сельских жителей заключается в том, что продукция сада и огорода остается на 80-90% для личного пользования семьи и на 10-20% уходит на раздаривание родственникам, обмен, продуктовую помощь малоимущим семьям в деревне. Дневниковые заметки снабжаются иллюстрациями, планами садовых участков (см. рис. 1) и посеянных саженцев / семян. Таким образом, на целый сезон, до следующей весны, пространство приусадебного участка структурируется по особым правилам, и, таким образом, становится «придомовым пространством». Несмотря на редкость подобных форм визуализации, эти схемы вмещают в себя не только пространственные, но и временные характеристики, сохраняя данные и память о том, какие границы и правила действуют на территории и в пространстве теплицы (см. рис. 2) до окончания определенного природного цикла. Рыбацкие дневники Рыбацкие дневники - особый жанр, «арго» в мире дневников разных типов. Они порождены техниками конспирации в большей степени, нежели логикой строгого протокола, которому стараются в разной степени следовать авторы дневников, занимающихся огородничеством, следящие за событиями в селе, или ученые, дотошно фиксирующие динамику различных показателей. Дневник промысловика - сочетание бухгалтерской книги, метеонаблюдений, скетчей и технологических набросков, скупых заметок о жизни села и событий личной жизни. В связи с некоторой неполнотой моей выборки (не довелось ознакомиться с дневниками женщин-рыбачек), анализ рыбацких дневников -это анализ текстов, написанных исключительно мужчинами, но в совершенно разных контекстах. Для женатого рыбака, содержащего семью в большей степени при помощи рыбной ловли, дневник - способ учета части общего хозяйства, попытка контролировать и прогнозировать природные процессы, равно как и структурировать личное время, разделяемое на заботу о семье и хозяйственные обязанности. Поэтому здесь «рыбацкий цикл работ» - индивидуализированный, тайный, персональный. Напротив, для мужчины, живущего самостоятельно, без семьи, дневник, промысловый личный журнал, не является способом обособления от семьи. Он скорее упорядочивает наблюдение за теми событиями и явлениями, наблюдать которые имел возможность лишь автор, без каких бы то ни было свидетелей. Таким образом, прибегать к дневнику - означает прибегать к воспоминаниям, зафиксированным в форме фактов и цифр, особенно в том случае, когда это воспоминание никто не может опровергнуть или подтвердить. Помимо того, что дневник - это способ индивидуализации, свидетельство и хроника, он является не только научным, но и юридически значимым документом, который таит в себе опасность «невольного свидетельства». В этом смысле, согласно нескольким интервью, поделиться информацией из дневника означает не только доверие (другу, супруге, брату, исследователю), но и помещение свидетеля в уязвимое положение вместе с автором дневника. Так, один из рыбаков запретил мне фотографировать страницы дневника, записывать на аудиозаписи его комментарии, объясняя это не только опасениями, что я могу разглашать информацию публично и вызвать тем самым инспекторские и прокурорские проверки, но и тем фактом, что прочитавший дневник и сохранивший его в архив становится сопричастен той информации, которая отражена в дневнике и, тем самым, также находится в опасности. МИ Jfe.ttf>> " Л/J -ffu^T Ч 'opi'tM**j/tT- t ^ Mui. rfvr. Ski'-* , . -£) \\BzH^ - ------ HuPiCO. Снег, См, ЧШТ. enu, См, -МША*. (««ь Рис. 3. Фрагмент дневника рыбака-промысловика. Александровский район Томской области Рыбаку важно знать не только температурный режим, но и силу и направление ветра, а также весьма специфический и значимый для промысла показатель - уровень воды в реке. Сопоставляя данные об объеме и составе улова и показатели уровня воды, рыбак принимает решение, на каком виде лова ему сконцентрироваться при конкретных погодных условиях, какой вид снастей использовать. На представленном выше фрагменте (см. рис. 3) дневника мы видим в рамке обведенные показатели уровня воды (В-436), сумма на которую была сдана стерлядь за один раз, количество икряных самок в улове (икр-2), температуру воздуха, силу ветра, которая влияет на комфортность проверки самоловов и сетей («дерет», т.е. при подъеме со дна самоловов, ветер на поверхности воды вырывает из рук снасти, разворачивает лодку и делает промысел почти невозможным). Мы видим также указание на объем улова, который отмечается не количественно в данном случае, а словами «плохо», и размерный ряд рыбы («мелочь»). Дневник также отсылает к локациям в пространстве, где производится промысел («низ» и «верх» относительно расположения поселка по течению Оби). Дневники инспекторов Вопрос о том, кому важны дневники погоды и в каких целях их можно использовать, получает неожиданный ответ, когда мы смотрим на знания о реке, об уровне воды, ветрах и температурах с позиции не производящих и добывающих субъектов, а контролирующих инстанций. Фактически, зная сезонное состояние ихтиофауны - периоды миграции, нереста, которые связаны с температурным режимом реки, ледоставом и ледоходом, ветрами и атмосферным давлением, - можно определить, когда улов будет наиболее успешным. Это знание нужно не для того, чтобы поймать рыбу, а для того, чтобы поймать рыбака. Рис. 4. Фрагмент лоции Оби с пометками информанта. Молчановский район Томской области \\ Перемещение рыбаков, их деятельность по установке сетей и самоловов, фитилей и морд может, в контексте работы инспекторов, восприниматься в качестве объекта натурного наблюдения. Базовая форма фиксации наблюдений представляет собой таблицу (дата, место (километр реки), температура, осадки, ветер, количество снятых самоловов в данной точке), но наиболее интересная часть подобного дневника - это способы визуализации наблюдений, представленных на детализированной лоции Оби. На представленном выше фрагменте лоции Оби (см. рис. 4) отмечены извлеченные со дна ставы с самоловами. Точная локализация их и расшифровка в дневнике (вместе с погодными и сезонными условиями) позволяют на следующий год безошибочно определять место установки снастей и, таким образом, прогнозировать поведение рыбаков. При этом квадратиком отмечаются избушки, дома, рыбацкие базы, которые известны специалисту, нередко подписывается имя хозяина. Линии и пунктир на карте отражают многолетние наблюдения за русловыми процессами, образованием и замыванием проток, изменением формы берегов и фарватера. Таким образом, природные и социальные процессы, протяженные во времени, находят свое отражение на плоскости карты. Дневники сельской интеллигенции Встречаются среди авторов дневников и люди, не занимающиеся напрямую ни каким-то определенным промыслом, ни уходом за огородом и садом. Их интересует не продуктивность отдельно взятого хозяйства или эффективность промысла в определенных местах определенными орудиями лова, с учетом погоды и сезонных изменений, а совокупность успехов и провалов в области использования природных ресурсов в сельском сообществе. Как правило, такие дневники ведут школьные учителя, фельдшеры и медсестры, лесные инженеры, сотрудники музеев и домов культуры. Для сельской интеллигенции, наряду с отметками, какого числа их семья выкопала картошку, важна дата первого урожая в деревне, первого огурца, появившегося у соседей. Описывая события, они невольно делают сопоставление функционирования домохозяйств, запечатлевая в дневниках неравенство в доступе к ресурсам и условиям труда. С одной стороны, жанр дневника погоды, формируемый сельской интеллигенцией, наиболее существенно удален от научного протокола наблюдений за погодой и представляет собой переходную форму между дневником наблюдений и летописью жизни села, в котором природные аспекты тесно связаны с социальными. С другой стороны, именно в этих дневниках, аккуратно разграфленных и превращенных в таблицу, отмечаются условными значками осадки, тип облачности. Иными словами, именно они используют универсальный код, легенду метеоявлений, знакомую еще со школьной программы. Зачем вести дневник и как он «работает»? Вернемся к вопросу о целях ведения подобных дневников гибридного типа. О чем они рассказывают и что упорядочивают? Очевидно, что страницы дневника связывают воедино события и феномены разного масштаба и порядка, заставляя эти явления «говорить» на языке регулярности и цикличности. Этот принцип и ритм задаются метеосводками и наблюдениями за состоянием погодных условий. Прогнозируемая сезонность, смена времен года, заранее известное количество дней месяца - все это создает видимую стабильность, которая оказывается нарушена тут же, на соседних столбцах дневника. Непредсказуемые и нерегулярные события (завоз продуктов, открытие зимней переправы, рейсы водного и воздушного транспорта, смерть и рождение, болезни и охотничьи удачи) - все это нанизывается на основу, состоящую из регулярно наблюдаемых явлений: температуры, облачности, силы ветра и т.п. В связи с этим, мы можем сделать вывод о том, что выбранный смешанный жанр письма создается каждым автором как текстовая импровизация, которая позволяет создать собственное пространство текста, «обладающего властью над тем внешним, от которого он сначала был отделен» (Серто де 2013: 242). В данном случае неординарный выбор компонентов для описания в дневнике определяется тем, какие элементы жизненного мира автора дают сбои чаще других, потому требуют текстуализации и упорядочивания, позволяя «воздействовать на окружающее и трансформировать его» (244). Ниже будут описаны все нетипичные компоненты подобных дневников, столь же непоследовательных, сколь и поэтичных. Компоненты дневника Первый столбец дневника после даты отведен показателям дневной (иногда также и ночной) температуры. Также практически неизменным компонентом записей в течение всего года являются показатели облачности. Интересно, что в особых случаях или при описании в других столбцах значимых событий и явлений, знак «солнце», обозначающий безоблачную солнечную погоду, рисуется с человеческим лицом. Например, «солнце с человеческим лицом» появляется в момент, когда весной стабильно высокие температуры приводят к таянию протоки, разделяющей деревню на две части: «24.04. На протоке затор. У нас растаял Полой» или «Растаял Полой (подчеркнуто красным). У нас зацвела уже медуница». Тем не менее эти данные заносятся в тетрадь наблюдений только синей ручкой и ни при каких обстоятельствах не помечаются красными чернилами. С одной стороны, колебания температур - это стержень такого рода дневников, но, с другой стороны, акцентирование других показателей и их выход за рамки заранее очерченных граф говорят о постепенном росте значимости других, внепогодных явлений или явлений, косвенно с ней связанных. Ритм дневника прерывист. Дневник заполнялся в организации, в течение рабочего дня, поэтому информация о погоде, температуре и других событиях в субботу и воскресенье отсутствует, за исключением экстраординарных событий, которые вписываются между строк постфактум. Но есть периоды и сезоны, когда записи ведутся непрерывно -это периоды половодья и схода льда, а также период ледостава и установления зимников. Большая часть записей о том, что лед идет, подчеркнута красным фломастером или написана красной ручкой. Интересно, что ледоход не локализован в дневниках только по месту проживания автора: информация о ледоходе на Томи и выше по течению Оби передается через неформальные сети оповещения («М.И. звонила дочь, сказала, что смотрели, как шел лед на Томи, все чисто»), и потому отметки о состоянии реки в других населенных пунктах также присутствуют в записях. Весной во время ледохода выше по течению, а поздней осенью - начиная с обской губы, записываются сообщения о промерзании Оби и установлении льда на реке. Например: «18.04. Обь идёт в Тогуре, вернее, в Колпашево» (помечено красной ручкой); «19.04. В Парабели идет лёд. Подвижка [льда] на Нарымской луке; 20.04. Идет лёд на Оби, на Нарымской Луке» (красные чернила)». В частоте записей, в фокусе внимания проявляется драматургия событий, которая динамично разворачивается на фоне почти неизменного температурного режима и других фоновых явлений. По записям мы можем проследить, как едва замерзшая река превращается в прочный плацдарм для перемещения между двумя поселками и райцентром: «08.11. Нарымская Лука затянулась, но еще полыньи. Сегодня люди перешли ее на работу. 10.11. Через Нарымскую Луку поехали бураны, мотоциклы.13.11. N. на жигулях переехал Нар. Луку (подчеркнута дата и часть записей. - Л.Р.). 16.11. Переехали Нар. Луку на джипе, легковая, таблетка». Мы видим, что прочность льда и стабильность переправы измеряются той степенью риска, которую берут на себя первопроходцы - каждый в своем весе: пешеход, жигули, джип, буран. После того, как все типы техники пересекли протоку, путь может считаться открытым. В отличие от тех крупных официальных ледовых переправ, которые открывает и закрывает МЧС («12.12. На Оби повесили 2 т.»; «16.12. На Оби повесили кирпич»; «18.12. На ледовых переправах уменьшают тоннаж»), прочность временных зимников через реку проверяется опытным путем. И потому каждый опыт требует детальной фиксации в дневнике. Смена сезонов репрезентируется в дневниках погоды по разным признакам, которые постепенно накапливаются, как, например, подтверждение наступление весны: «13.04. прилетели скворцы; 14.04. Первый вертолет и ледоход на Томи». В данном случае народные приметы, функционирование транспортной инфраструктуры и режим реки являются предвестниками и знаками смены сезонов: «Замерзла протока. Утки наши сбились в стаю и так и сидят, а вокруг лед. Селезень один ходил по льду»; «11.04. Прилетело много птиц уже. Мартыны прилетели»; «15.04. Идет снег. Прилетели коршуны, ветрина, холодина»; «19.05. Появились комары. Туча их!»; «Зацвела сирень»; «N. первый раз купался». Значимые события могут указываться не в хронологическом порядке, а с инверсивной логикой. Так, например, известие о том, что «прилетели лебеди» 10.04 следует после дневниковых записей от 20.04. Один из ключевых аспектов в дневниках жителей сезонно изолированных приобских поселков - функционирование инфраструктуры. Дотошно отмечается, когда «закрыли дорогу» или «закрыли зимник» и когда зимник открыли; когда прилетел первый вертолет в период бездорожья или «пришел первый Восход» (красные чернила). Интересно, что отключения электри
Барт Р. Дневник // Ролан Барт о Ролане Барте. М.: Сталкер, 2002. С. 246-261
Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1890-1907. Т. 20а: Наказный атаман - Неясыти. [1897?]. II, 481-960
Воронова Н.Г. Заметки о речевом жанре дневника // Культура и текст. 2005. № 10. С. 194-200
Жукова В.С. Трудовая повседневность в крестьянских дневниках Европейского Севера России первой трети XX века // Повседневность в российской провинции XIX-XX вв.: материалы Всероссийской научной конференции: в 2 ч. Пермь, 2013. С. 157-161
Иващенко С.Н., Толпеко И.В. Полевой дневник В. И. Матющенко (Археологическая разведка 1959 г.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 1 (5). С. 116-132
Кальщикова Т.А. Жанровые стандарты в дневнике А. Блока // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 32 (213). С. 58-61
Курникова А.В., Русинова И.И. Речевой статус бытовых дневников М.П. Сусловой // Изменяющийся языковой мир. Пермь, 2002. С. 252-259
Миханев А.П. Охотничий дневник как документальный источник // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. Вып. 12. С. 261-264
Орлова Г. Картографический поворот: школьная география и картографическая политика в эпоху больших утопий // Вопросы образования. 2006. № 3. С. 81-102
Пигров К.С. Дневник: диалог с самим собой // Серия «Symposium». Диалог в образовании: сб. материалов конф. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. Вып. 22
Плисак М.В. «Дневник крестьянина» как источник по истории мировоззрения сельского жителя (1916 г.) // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2008. С. 125-129
ПМА 2019 - полевые материалы автора, июль-август 2019 года, Томская область, Кри-вошеинский, Молчановский, Колпашевский, Парабельский, Каргасокский и Александровский районы
Рейнгольд А. С. Жанровые особенности литературного дневника и дневник как нелитературный текст // Вестник РГГУ. Сер. Филол. науки. Литературоведение и фольклористика. 2010. № 11 (54). С. 118-129
Серто де М. Изобретение повседневности 1: искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2013
Слепцова (Кызласова) И.С. «Коллективная биография» сельского социума (по материалам дневников ярославского крестьянина П. В. Бугрова) // Русский Север. Вып. 1: Идентичности, память, биографический текст. К 95-летию К.В. Чистова: сб. науч. ст. / ред.-сост. Т.Б. Щепанская. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 79-96
Чистяков Ю.А. А.И. Курецов: дневник об экспедиции в Уссурийский край в 1928 году // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 2011. С. 5-125
Anderson K. The Weather Prophets: Science and Reputation in Victorian Meteorology // History of Science. 1999. № 37 (2). P. 179-216
Barton D. Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford: Blackwell, 2007
Bernhardt J. Determining Regional Weather Patterns from a Historical Diary // Weather, Climate, and Society. 2015. № 7 (4). P. 295-308
Bunkers S.L. Diaries: public and private records of women's lives // Legacy. 1990. Vol. 7, № 2. Р. 17-26
Derrida J. Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977
Lyons M. Ordinary Writings, Personal Narratives. Writing Practices in 19th and Early 20th Century Europe. Bern: Peter Lang, 2007
Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986
McCarthy M. A Pocketful of Days: Pocket Diaries and Daily Record Keeping among Nineteenth-Century New England Women // The New England Quarterly. 2000. Vol. 73, № 2. Р. 274-296
Motz M.F. Folk Expression of Time and Place: 19th-century Midwestern Rural Diaries // The Journal of American Folklore. 1987. № 100 (396). P. 131-147. Noble M. Answers in the wind: using local weather studies for family history research // The Journal of Genealogy and Family History. 2017. Vol. 1, № 1. P. 1-6
Puttaert J. Linguistic Hybridity in Nineteenth-Century Lower-Class Letters. A Case Study from Bruges // Reading and Writing from Below Exploring the Margins of Modernity. Umea University and Royal Skyttean Society. Umea, 2016. P. 215-237
Slonosky V. Historical climate observations in Canada: 18th and 19th century daily temperature from the St. Lawrence Valley, Quebec // Geoscience Data Journal. 2014. № 1 (2). P. 103-120
Wheeler D. The weather diary of Margaret Mackenzie of Delvine (Perthshire): 1780-1805 // Scottish Geographical Magazine. 1994. № 110 (3). P. 177-182
Williams R. Gilbert White's Eighteenth-Century Nature Journals as «Everyday» Ecology // ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. Summer 2017. Vol. 24, is. 3. Р. 432-456
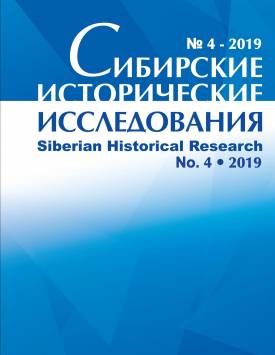

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью