Metaphors of kinship in Amazonia.pdf ISBN 978-0-9973675-9-1 Книга выпущена в свет издательским домом HAU Books, The University of Chicago Press в престижной серии Malinowski Monographs, которая, как гласит анонс, предваряющий текст публикации, была инициирована «в честь создателя термина "этнографическая теория" и призвана представлять читателю работы, являющиеся уникальным вкладом в антропологию и демонстрирующие кардинально-инновационные прорывы, ведущие к появлению новаторских этнографически инспирированных теорий или бросающие вызов тому, как "этнографическое" понимается сегодня» (p. iii). Возможно, именно этот амбициозный посыл сыграл плохую шутку с автором рецензируемой монографии. Стремясь соответствовать столь высоко поднятой планке, Луис Коста на протяжении всей книги декларирует оригинальность конструируемой им теоретической модели родства и необычность - чуть ли не диаметральную противоположность всему остальному фактическому материалу, относящемуся к культурам индейцев Амазонии, - собственных полевых данных. Не будь этого, могла бы получиться хорошая книга, так как автор вел многолетние полевые исследования в удаленных индейских поселениях Амазонии, тщательно - не только как этнограф, но и как лингвист - изучал язык той группы индейцев, с которой работал, и использовал множество этнографических, лингвистических, социоантропологических публикаций, среди которых преобладают португало- и испаноязычные работы, посвященные коренному населению Южной Америки. Луис Коста - доцент Института философии и социальных наук Федерального университета Рио да Жанейро, участвующий в реализации образовательных программ по социологии и антропологии. Он начал свои полевые исследования в 2002 г., результаты этой работы легли в основу докторской диссертации (PhD), защищенной в 2007 г. Через десять лет вышла рецензируемая книга. Полевой материал, на котором она базируется, собирался преимущественно в первой половине 2000-х гг., хотя последняя экспедиция, отраженная в книге, состоялась в 2015 г. В общей сложности Коста провел в поле примерно 20 месяцев. Группа индейцев, культуру которых он исследовал, локализуется (или до недавнего времени локализовалась) в бассейне реки Итаквари (рукав реки Жавари, правый приток Амазонки) и относится к этнической общности канамари. Канамари говорят на языке катукина, который принадлежит к лингвистической семье пано. Некоторые из них знают португальский. В прошлом это были ручные земледельцы, охотники и собиратели. По переписи 2010 г. канамари насчитывали 3 167 человек (p. 10), основная их часть населяла притоки реки Жавари, в последние годы все большее число из них перебирается на время или навсегда из мелких деревень глухой сельвы в более крупные поселения и в города, занимаясь нерегулярным наемным трудом. Традиционная культура канамари и их исторические судьбы до сих пор остаются недостаточно изученными. К сожалению, Луис Коста пренебрегает традиционными подходами к структурированию этнографических трудов, когда прежде всего хотя бы кратко описываются присущие исследуемой культуре способы жизнеобеспечения, формы поселений (жилища) и система питания, а также основы социального структурирования. Некоторые сведения обо всем этом читатель вынужден вычленять небольшими порциями из текстов глав, посвященных иным сюжетам, некоторые так и остаются недоступными. Нет в книге и привычных этнографу описаний системы родства канамари, так что книга о родстве парадоксальным образом оказывается не слишком информативной для того, кто хотел бы более или менее ясно представить общую картину родственных связей, образуемых ими структур и институтов у этого народа. Книга не о том. На гребне «новой волны» в «kinship studies», Коста, отнюдь не самостоятельно, а идя по пути, уже проложенному ведущими авторитетами, в частности М. Салинсом (Sahlins 2013), ищет особую словесную формулу, которая отражала бы квинтэссенцию понимания, восприятия, осмысления представителями изучаемой культуры связей между людьми, квалифицируемыми ими как родственные. Иными словами, словесную формулу того, что делает родство родством у канамари. Коста берет за основу подход Салинса к родству как культурному конструкту, суть которого - «mutuality of being» («взаимность бытия», «взаимосвязь бытия»). Суть эта, по Салинсу, одна и та же в разных культурах, а вот то, как он, конструкт, отражается в сознании людей и какое словесное обличье принимает, существенно варьирует от культуры к культуре. Однако типичным средством выражения локального понимания сути родства служит некая емкая метафора, которая «кодируется» в одном или нескольких словах, обретающих сложное, многозначное и всеми принимаемое содержание. Попутно отметим, что израильская исследовательница Н. Берд-Дэвид именует такие вещи конвенциональными идиомами (Bird-David 2019: 37). Следуя именно в этом направлении, Коста находит адекватные для канамари конвенциональные идиомы в понятиях «владение», «кормление», «совместный прием пищи» (commensality), «контроль», а также «зависимость» или «подчинение» и заявляет об этом на первых же страницах книги, а затем весьма детально анализирует смысловые и символические аспекты лексических прототипов названных понятий, имеющихся в языке катукина. Получается, что родство во множестве ситуаций мыслится и ощущается у канамари как владение одним субъектом (можно употребить и слово «актор») телом другого субъекта (актора). Владение это как бы выстраивается в процессе кормления одного субъекта другим субъектом. Тот, кто кормит, овладевает в процессе кормления телом окормляемого и тем самым достигает контроля над последним, а окормляемый оказывается в подчиненном или в зависимом положении по отношению к кормящему. Само собой, понятно, что отношения, таким образом, оказываются асимметричными. А «совместный прием пищи» (commensality) способствует достижению са-линсовской «mutuality of being» («взаимности бытия», «взаимосвязи бытия») и тем самым балансу в позициях людей, считающихся родственниками. Коста демонстрирует, как «делается» асимметричное родство, в главе, посвященной выкармливанию индейцами канамари, преимущественно женщинами, всевозможных животных питомцев - детенышей обезьян, тапиров или пекари, принесенных охотниками из леса. Излишним будет, конечно, упоминать, что отношения между женщинами и питомцами формируются асимметричными, и что женщины в результате оказываются владелицами питомцев. Следующая глава посвящена тому, как шаман путем магического «кормления» овладевает духом ягуара и, стало быть, сродняется с этим зверем и одновременно с его духовной субстанцией, подчиняя ее себе. Глава изобилует сведениями о мифоритуальном комплексе канамари, сопряженном с мистической персонификацией ягуара как наиболее сильного и грозного обитателя леса, и содержит много интересного, но мало чем, на взгляд рецензента, связанного с родством. Кроме того, сплошь и рядом трудно отделить мифологические представления канамари от истолкований, которые им дает автор. Любопытный раздел книги посвящен тому, как индейцы относятся к животным-питомцам, с одной стороны, и к скоту, полученному от белых, - с другой. Мясо выкормленных в деревне животных-питомцев никогда не употребляют в пищу, так как они уподоблены родственникам, их любят, о них заботятся. Мясо же скотины «белых» индейцы употребляют в пищу, но при этом ее не кормят. Попав в деревню канамари, домашние животные «европейского происхождения» оказываются, если их сразу не съели, вынужденными самостоятельно добывать пропитание, бродя между хижинами и подбирая отбросы, или голодать. «Белых» же людей канамари считают каннибалами, потому что они едят тех, кого выкармливают, т.е. своих родственников! Только в середине книги Коста переходит к анализу отношений между человеком и человеком, а именно между новорожденным ребенком и вскармливающей его матерью, а затем и отцом. Так же, как и с питомцами-животными, родство с новорожденным «делается» в процессе его кормления и овладения его телом. Но здесь вклинивается еще одна обширная тема - тема кувады. В свое время А.Н. Максимов (1900) подметил, что кувадой сплошь и рядом называют обычаи трех разных типов. Это, во-первых, имитация родов мужчиной, что практиковалось исключительно, насколько нам известно, у индейцев, в первую очередь - в Амазонии. Во-вторых, это некие испытания, в процессе которых отец первенца должен доказать, что достоин нового, более высокого социального статуса, нечто вроде обрядов перехода, и, наконец, это пост и иные ограничения и табу, которые временно накладываются на родителей. И второе и, в особенности, третье в традиционном контексте имело широкое распространение по всему миру. Коста сосредоточен только на третьем, причем удивительным образом обнаруживается, что - в отличие от аналогичных традиций всего остального мира, в том числе и индейской Амазонии - у канамари родители новорожденного постятся и соблюдают иные обременительные правила поведения не ради блага ребенка, а ради своего собственного и иных родных, так как явившийся на свет новый человек воспринимается в качестве существа враждебного, несущего множество опасностей мистического свойства. В последующем изложении содержатся опять-таки не связанные напрямую с темой родства, но в ряде отношений весьма интересные мифологические и легендарные представления канамари о происхождении «белых» людей и их внедрении в жизнь автохтонного населения, а также предания индейцев о собственном прошлом. В Заключении суммируются главные концептуальные положения автора и приводятся впечатления его последней экспедиции к канамари. Эти страницы проникнуты столь близкой каждому этнографу горечью, испытываемой при виде стремительного падения древней самобытной культуры, на смену которой внедряются лишь фрагментарные заимствования из культуры пришлой, развивающейся по чуждым и сплошь и рядом недружественным траекториям. В целом у рецензента сложилось впечатление, что автор книги, к сожалению, загнал себя в сети модных, туманных и во многом схоластичных идей и запутался в них, написав работу с дряблой структурой и эклектичным содержанием, в которой он живую этнографическую реальность представил сквозь призму надуманных и заимствованных конструктов, вместо того, чтобы идти от жизни к пусть и скромным, но подлинно самостоятельным, оригинальным обобщениям.
Максимов А.Н. Несколько слов о куваде // Этнографическое обозрение. 1900. № 1. С. 90-105
Bird-David N. Chapter 1. Where have all the kin gone? On hunter-gatherers' scale, kinship and sharing // Cambridge monograph: Towards a broader view of hunter-gatherer sharing. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. SahlinsM. What Kinship Is - and Is Not. Chicago: University of Chicago Press, 2013
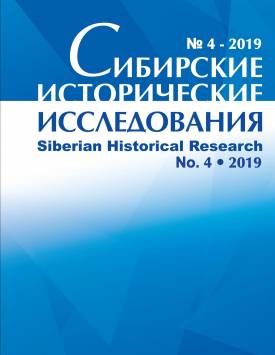

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью